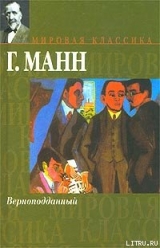
Текст книги "Верноподданный"
Автор книги: Генрих Манн
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 27 страниц)
– Ты лжешь! – простонала Эмми.
Она пошатнулась, но тотчас же с видимым усилием выпрямилась. С высоко поднятой головой вышла и опустила за собой портьеру.
В комнате стало тихо. Старуха Геслинг по-прежнему сидела на диване, сложив руки на животе. Густа вызывающе следила за Дидерихом; пыхтя, он бегал из угла в угол. Добежав до двери, внезапно остановился: через щелку он увидел Эмми, она не то сидела в столовой на стуле, не то свисала с него, вся скрюченная, точно ее связали и швырнули на этот стул. Вздрогнув, она повернулась лицом к лампе; только что мертвенно-бледное, оно теперь было очень красным, а глаза словно ничего не видели. Неожиданно она вскочила, как опаленная огнем, ноги плохо держали ее, она натыкалась на мебель, не ощущая боли, и, не помня себя от гнева, бросилась вон из комнаты, словно в туман, в кипящую мглу… Испуганный Дидерих оглянулся на мать и жену. Увидев по выражению лица Густы, что от нее можно ожидать непочтительной выходки, он мгновенно натянул на себя привычную маску благопристойности и, выпрямившись, шумно шагнул вслед за Эмми. Но, прежде чем он дошел до лестницы, наверху щелкнул в замке ключ. Сердце у Дидериха так забилось, что он вынужден был остановиться. Еле-еле поднявшись наверх, он мог только слабым, задыхающимся голосом потребовать, чтобы Эмми отперла дверь. Ответа не последовало, но он услышал, как на умывальнике что-то звякнуло. Он взмахнул руками, закричал не своим голосом, забарабанил в дверь. За этим неистовым шумом он не заметил, что Эмми открыла дверь, и продолжал кричать, хотя она стояла перед ним.
– Что тебе от меня нужно? – спросила она гневно.
Дидерих пришел в себя. На нижних ступеньках лестницы с перекошенными от ужаса лицами и немым вопросом в глазах стояли фрау Геслинг и Густа.
– Не подыматься! – скомандовал он и втолкнул Эмми в комнату.
Он запер двери.
– Им незачем это нюхать, – коротко сказал он и вынул из таза маленькую губку, пропитанную хлороформом. Отведя руку с губкой далеко в сторону, он сурово спросил: – Откуда это у тебя?
Эмми откинула голову и взглянула ему прямо в лицо, но промолчала. И чем дольше она молчала, тем бессмысленнее казался Дидериху его вопрос, столь уместный с юридической точки зрения. В конце концов он попросту подошел к окну и швырнул губку в темный двор. Послышался всплеск. Губка попала в водосток. Дидерих облегченно вздохнул.
– Что тебе от меня нужно? – повторила Эмми. – Неужели я не вправе делать то, что хочу!
Такого вопроса он не ожидал.
– Хорошо, но что… что ты хочешь сделать?
Эмми отвернулась; глядя в сторону и пожимая плечами, она сказала:
– Тебе это все равно.
– Ну, знаешь! – возмутился Дидерих. – Если ты окончательно потеряла совесть и не стыдишься судьи небесного, что я, конечно, осуждаю, то посчитайся хоть немного со всеми нами. Одна ты, что ли, на свете? – Ее безразличие не на шутку уязвило его. – Я не допущу скандала в своем доме! Я первый почувствую на себе его последствия.
Она вдруг взглянула ему в глаза.
– А я не почувствую?
Он крякнул.
– Моя честь… – Но тут же осекся; в ее лице, – он никогда не подозревал, что оно может быть таким выразительным, – были жалоба и насмешка одновременно. Растерявшись, он шагнул к двери. Вдруг его осенило, как полагается поступать в таких случаях. – Разумеется, как брат и человек чести я до конца выполню свой долг. Я вправе надеяться, что ты возьмешь себя в руки. – Он бросил взгляд на умывальник, откуда все еще тянуло хлороформом. – Дай честное слово!
– Оставь меня в покое, – сказала Эмми.
Дидерих вернулся.
– Очевидно, ты все-таки не отдаешь себе отчета в серьезности положения. Если то, чего я опасаюсь, правда, то ты…
– Это правда, – сказала Эмми.
– Значит, ты не только погубила себя, по крайней мере в глазах общества, а и всю семью опозорила! И когда я во имя долга и чести предлагаю тебе…
– Все же факт остается фактом, – сказала Эмми.
Дидерих испугался; он хотел было выразить свое отвращение к столь безграничному цинизму, но он слишком отчетливо прочитал на ее лице, через что она прошла и от чего отреклась раз и навсегда. Перед величием ее отчаяния Дидерих содрогнулся. В нем словно оборвались какие-то искусственно натянутые пружины. Ноги у него обмякли, он сел и с усилием выговорил:
– Так скажи мне только… Я готов тебя… – Он пристально взглянул на Эмми, и слово «простить» застряло у него в горле. – Я готов тебе помочь.
– Как же ты это сделаешь? – спросила она устало и прислонилась к стене.
– Тебе придется, конечно, кое-что рассказать мне, – сказал он, глядя в пол. – Разумеется, только некоторые подробности. Полагаю, все началось с уроков верховой езды?
Она слушала все, что он полагал, она ничего не подтверждала, ничего не отрицала… Но, подняв глаза, он увидел, что Эмми, слегка приоткрыв рот, смотрит на него с удивлением. Дидериху было понятно это удивление: высказывая вслух многое из того, что она до сих пор хранила в себе, он снимал с ее плеч тяжесть пережитого. Сердце его исполнилось неизведанной гордости.
– Положись на меня. Я пойду к нему завтра же утром.
Она тихо и робко покачала головой.
– Нет, тебе этого не понять… Все кончено.
– О, мы не так уж беспомощны, – произнес он бодрым тоном. – Поглядим, что можно сделать.
На прощанье Дидерих подал ей руку и пошел к двери. Она остановила его:
– Ты вызовешь его на дуэль? – Глаза ее расширились, она прикрыла рукой рот.
– С чего ты взяла? – спросил Дидерих; такой выход не приходил ему в голову.
– Поклянись, что не вызовешь!
Он дал слово и покраснел – ему очень хотелось знать, за кого она страшится: за него или за того – другого. Не хотел бы он, чтобы это был другой. Но от вопроса он удержался, чтобы не причинить ей боли. И почти на цыпочках вышел из комнаты.
Обеим женщинам, все еще дожидавшимся внизу, он сердито велел ложиться спать. Сам же улегся рядом с Густой лишь после того, как она уснула. Надо было обдумать, как держаться завтра. Прежде всего – воинственно… Не допускать и тени сомнения в исходе дела. Но перед мысленным взором Дидериха вместо собственной внушительной фигуры настойчиво вставал облик приземистого человека с блестевшими от слез печальными глазами, который просит, грозит и уходит, совершенно раздавленный: Геппель, отец Агнес Геппель. Теперь, в своем душевном смятении, Дидерих почувствовал, каково было тогда старому отцу. «Тебе этого не понять», – сказала Эмми. Но он понимал, потому что сам причинил другому такие же страдания.
– Боже сохрани, – вслух произнес он, ворочаясь с боку на бок. – И не подумаю впутываться в это дело. Хлороформ – это только притворство. Женщины – хитрый народ. Я попросту вышвырну ее вон, она этого заслуживает.
Но он увидел перед собой Агнес под дождем, на улице, увидел лицо ее, совершенно белое в свете газового фонаря, обращенное вверх, к его окну. Он натянул простыню на голову. «Не могу я выгнать ее на улицу». Наступило утро, и он с удивлением вспомнил обо всем происшедшем.
«Лейтенанты встают рано», – подумал он и выскользнул из дому еще до того, как проснулась Густа. За Саксонскими воротами под весенним небом благоухали и звенели птичьими голосами сады. Виллы, еще запертые, словно только что умылись, и почему-то думалось, что все они заселены молодоженами. «Кто знает, – размышлял Дидерих, вдыхая чистый воздух, – быть может, это вовсе не трудно. Ведь попадаются иногда порядочные люди. И положение вещей благоприятнее, чем…» Он предпочел не додумать свою мысль. В глубине улицы остановился экипаж. Перед каким же это домом? Значит, правда, уезжает. Калитка была распахнута, двери тоже. Навстречу Дидериху вышел денщик.
– Докладывать незачем, я уже вижу господина лейтенанта.
В комнате, прямо напротив входа, лейтенант укладывал чемодан.
– В такую рань? – спросил он и захлопнул крышку, прищемив себе палец. – О, черт!
Дидерих пал духом. «И он тоже укладывается».
– Чему обязан… – начал фон Брицен, но у Дидериха вырвался невольный жест: церемонии, мол, излишни.
Господин фон Брицен начисто отрицал все. Отрицал дольше, чем в свое время Дидерих, и Дидерих признал в душе, что так и надо: там, где речь идет о чести девушки, лейтенант обязан быть несколько щепетильнее, чем новотевтонец. Когда же все было выяснено, господин фон Брицен немедленно заявил, что он, разумеется, всегда к услугам многоуважаемого брата, чего, разумеется, и следовало от него ожидать. Но Дидерих, несмотря на жестокий страх, обуявший его, беспечно ответил, что разрешать вопрос с оружием в руках нет необходимости, при условии, конечно, если господин фон Брицен… И господин фон Брицен скроил мину, которую Дидерих заранее представлял себе, и привел доводы, которые Дидерих заранее слышал. Припертый к стене, он сказал фразу, которой Дидерих больше всего боялся и которая, он признавал это, не могла не прозвучать здесь. Девушку, потерявшую честь, порядочные люди не делают матерью своих детей! Тогда Дидерих произнес то, что в свое время сказал господин Геппель, таким же убитым голосом, как в свое время господин Геппель. Справедливый гнев он почувствовал лишь в ту минуту, когда пустил в ход свою главную угрозу, угрозу, на которую возлагал надежды со вчерашнего дня.
– Ввиду вашего нерыцарского поведения я, к сожалению, буду вынужден поставить обо всем в известность командира полка.
И в самом деле, на господина фон Брицена эта угроза как будто сильно подействовала.
– Чего вы этим добьетесь? – неуверенно спросил он. – Что мне прочтут нравоучение? Ну, что ж. А вообще… – Фон Брицен овладел собой. – Вообще, у полковника, надо полагать, иные понятия о рыцарстве, нежели у господина, не желающего драться на дуэли.
Дидерих вспылил. Пусть господин фон Брицен соизволит попридержать язык, не то как бы ему не пришлось иметь дело с «Новотевтонией». Достаточно взглянуть на его, Дидериха, шрамы, чтобы убедиться в его радостной готовности пролить кровь за честь знамени. Он пожелал бы господину лейтенанту, чтобы ему пришлось когда-нибудь вызвать на дуэль, например, графа фон Тауэрн-Беренгейма!
– Я его без всяких околичностей вызвал! – И, не переводя дыхания, Дидерих выпалил, что далеко еще не признает за таким вот наглым дворянчиком права убивать солидного бюргера и отца семейства! – Соблазнить сестру и застрелить брата, на это у вас хватит совести! – воскликнул он вне себя.
Господин фон Брицен, придя в такой же раж, сказал, что велит денщику искровенить морду презренному купчишке, и так как денщик был уже рядом, Дидериху ничего не оставалось, как очистить поле боя, но последний выстрел все же остался за ним.
– Не рассчитывайте, – крикнул он, – что ради таких наглецов мы одобрим военный законопроект! [135]135
Не рассчитывайте… что… мы одобрим военный законопроект!– Военный законопроект был одобрен новым рейхстагом 13 июля 1893 г.
[Закрыть]Вы еще узнаете, что такое бунт!
Выйдя на улицу и шагая по пустынной аллее, он продолжал кипеть, показывал невидимому врагу кулак и бормотал угрозы.
– Несдобровать вам! Дождетесь, мы с вами покончим!
Вдруг он заметил, что сады так же, как и раньше, благоухают и звенят птичьими голосами под весенним небом, и понял, что сама природа, ласковая или суровая, бессильна воздействовать на власть – власть, которая над нами, которую ничто не может поколебать. Пригрозить бунтом не трудно; а что же будет с памятником кайзеру Вильгельму? С Вулковом и Гаузенфельдом? Хочешь попирать других, смирись, когда попирают тебя. Таков железный закон власти. После вспышки протеста он уже чувствовал тайный трепет человека, которого попирает власть… Его обогнал экипаж: господин фон Брицен со своими чемоданами. Дидерих, раньше, чем это дошло до его сознания, стал вполоборота, намереваясь поклониться. Но фон Брицен отвернулся. Дидерих, несмотря на все происшедшее, не мог не залюбоваться юным богатырем офицером. «Таких офицеров нет нигде», – решил он.
Однако, как только он свернул на Мейзештрассе, на душе у него заскребли кошки. Он издали увидел, как Эмми высматривает его, и неожиданно для себя подумал о том, сколько она, вероятно, выстрадала за минувший час, пока решалась ее судьба. Бедная Эмми, судьба твоя решена. Власть, стоящая над нами, конечно, возвышает душу, но если она наносит удар родной сестре… «Я не думал, что так близко приму это к сердцу». Он постарался бодро кивнуть Эмми. Она очень похудела; как же никто этого не замечал! Из-под матово блестевших волос на него смотрели огромные, воспаленные бессонницей глаза. Когда он кивнул, губы у Эмми задрожали, – он и это заметил, страх обострил его зрение. По лестнице Дидерих подымался почти крадучись. На втором этаже Эмми вышла из столовой и впереди него двинулась наверх. На площадке третьего этажа она обернулась, но, увидев его лицо, вошла в комнату без единого вопроса, стала у окна и отвернулась. Дидерих, собрав все силы, громко сказал:
– О, ничего еще не потеряно!
Но тут же страх охватил его, он закрыл глаза. Когда он застонал, Эмми повернулась, медленно подошла и положила голову ему на плечо, чтобы вместе поплакать.
Внизу у него произошла стычка с Густой, которая хотела натравить его на Эмми. Дидерих бросил ей в лицо, что она, пользуясь несчастьем Эмми, старается вознаградить себя за те неблаговидные обстоятельства, при которых она сама вышла замуж.
– Эмми по крайней мере ни за кем не бегает.
– Может, скажешь, я за тобой бегала? – взвизгнула Густа.
– Она моя сестра! – пресек дальнейшие разговоры Дидерих.
С тех пор как он взял Эмми под свое покровительство, она приобрела в его глазах особую привлекательность, и он оказывал ей необычные знаки уважения. После обеда, не обращая внимания на усмешку Густы, Дидерих целовал Эмми руку. Он сравнивал сестру с женой: насколько же вульгарнее была Густа! Даже Магда, его любимица, так как она имела успех, проигрывала теперь рядом с покинутой Эмми. Несчастье придало облику Эмми оттенок благородства и недосягаемости. Когда ее бледная рука, словно отрешенно, свешивалась с кресла и сама она погружалась в себя, в неведомую бездну, ему чудилось, что он заглядывает в некий более глубокий мир. Положение падшей, страшное и презренное, когда в нем оказывались другие, создавало вокруг Эмми, его сестры, особый ореол и атмосферу двусмысленного обаяния. Эмми казалась ему еще более блестящей и трогательной, чем прежде.
Рядом с ней лейтенант, виновник всего, сильно померк, – а вместе с ним померкла и власть, под сенью которой он восторжествовал. Дидерих убедился, что власть может принять низкий и подлый облик: и сама власть, и все, что идет по ее следам, – успех, почет, мировоззрение. Глядя на Эмми, он невольно начинал сомневаться в ценности всего, чего достиг и чего добивался: Густы и ее денег, памятника, высочайших милостей, Гаузенфельда, наград и постов. Он смотрел на Эмми и вспоминал об Агнес, Агнес, которая учила его любви и нежности; она была в его жизни чем-то настоящим, подлинным, он должен был удержать ее! Где она теперь? Умерла? Порой он сидел, обхватив голову руками. Чего он достиг? Чем вознаградила его власть за служение ей? Опять все рассыпалось прахом, все предали его, злоупотребили его самыми лучшими намерениями, а старый Бук – хозяин положения. Подкрадывалась мысль, – быть может, победила Агнес, которая только и умела, что страдать? Он написал в Берлин, навел о ней справки. Она вышла замуж и была более или менее здорова. Весть эта принесла ему облегчение, но и слегка разочаровала.
Пока он сидел, обхватив голову руками, день выборов неуклонно приближался. Исполненный сознания суетности мира сего, Дидерих не хотел ничего замечать, в том числе и выражения лица своего механика, а оно с каждым днем становилось все враждебнее. В воскресенье, на которое назначены были выборы, рано утром, – Дидерих еще не вставал, – в спальню вошел Наполеон Фишер, который, даже не подумав извиниться, сказал:
– В последнюю минуту, так сказать, поговорим начистоту, господин доктор! – На этот раз не Дидерих, а он подозревал предательство и ссылался на сговор. – Ваша политика, господин доктор, двулична. Вы дали нам обещания, и мы, по своей лояльности, не вели агитации против вас, а только против свободомыслящих.
– И мы тоже, – сказал Дидерих.
– Этому вы и сами не верите. Вы снюхались с Гейтейфелем. Он уже обещал вам поддержать памятник. Если вы не перейдете к нему с развернутыми знаменами сейчас, то сделаете это на перебаллотировке – нагло предадите народ. – Наполеон Фишер, скрестив руки на груди, широко шагнул к постели. – Я хотел бы только, господин доктор, чтобы вы помнили: у нас глаза открыты.
В постели Дидерих чувствовал себя беспомощным, выданным на милость своего политического противника. Он попытался его утихомирить.
– Я знаю, Фишер, вы большой политик. Таким политикам место в рейхстаге.
– Правильно. – Фишер метнул в него взгляд исподлобья. – Могу вас уверить, что если я не попаду в рейхстаг, то на многих предприятиях вспыхнет забастовка, и одно из этих предприятий вам очень хорошо знакомо, господин доктор. – Он пошел к двери. С порога он еще раз пристально посмотрел на Дидериха, от испуга зарывшегося с головой в перины и подушки. – А посему да здравствует интернациональная социал-демократия! – выкрикнул Фишер и вышел.
– Да здравствует его величество кайзер, ура! – крикнул из-под горы перин Дидерих. Однако ему ничего другого не оставалось, как трезво взглянуть в лицо действительности. Оно было достаточно грозным.
Томимый тяжелым предчувствием, он поспешил в город, зашел в ферейн ветеранов, зашел к Клапшу и повсюду видел, что, пока он сидел дома и малодушествовал, коварная тактика старика Бука ознаменовалась новыми успехами. Партия кайзера разбавилась пополнениями из рядов свободомыслящих, а соперничество между Кунце и Гейтейфелем было ничто по сравнению с пропастью, разверзшейся между ним, Дидерихом, и Наполеоном Фишером. Пастор Циллих, обменявшийся со своим зятем Гейтейфелем стыдливым приветствием, уверял, что даже в том случае, если победит кандидат свободомыслящих, партия кайзера может быть довольна своим успехом, ибо она изрядно укрепила в этом кандидате националистический образ мыслей. Так как Кюнхен высказался в том же духе, то невольно возникало подозрение, что они не удовлетворились вырванными у Вулкова и у него, Дидериха, обещаниями и Буку удалось посулами личных выгод заставить их плясать под его дудку. От демократической клики с ее системой подкупов всего можно ждать! Что касается Кунце, то он при любых условиях хотел пройти на выборах, на худой конец с помощью свободомыслящих. Он был так отравлен ядом честолюбия, что даже обещал отстоять постройку приюта для грудных младенцев! Дидерих вскипел: ведь Гейтейфель во сто раз опаснее любого пролетария! И он намекнул Кунце на плачевные последствия, которыми чреват столь непатриотический образ действий. К сожалению, Дидериху нельзя было высказаться яснее, и, с картиной стачки перед глазами, с руинами памятника, Гаузенфельда и всего, о чем он мечтал в сердце носился он под дождем от одного избирательного участка к другому и волоком волок к урнам благонамеренных избирателей, отдавая себе полный отчет в том, что их верность кайзеру бьет мимо цели и играет на руку его злейшим врагам. Вечером, с ног до головы забрызганный уличной грязью, доведенный до лихорадочного одурения сутолокой этого длинного дня, бесчисленными кружками пива и ожиданием развязки, он, сидя у Клапша, узнал результаты: за Гейтейфеля подано около восьми тысяч голосов, шесть тысяч с небольшим за Наполеона Фишера, Кунце же получил три тысячи шестьсот семьдесят два голоса. Перебаллотировка между Гейтейфелем и Фишером.
– Ура! – закричал Дидерих, ибо ничего не было потеряно, а время выиграно.
Твердым шагом вышел он из пивной, клянясь в душе отныне и впредь сделать все возможное, чтобы еще спасти дело националистов. Он торопился, ибо пастор Циллих готов был немедленно покрыть все стены листками, в которых сторонники партии кайзера призывались на перебаллотировке голосовать за Гейтейфеля. Кунце, конечно, предавался честолюбивой надежде, что Гейтейфель ему в угоду снимет свою кандидатуру. Какое ослепление! Уже на следующее утро все читали на белых листовках свободомыслящих ханжеское заявление, будто и они настроены националистически, будто националистический образ мыслей не является привилегией меньшинства, а поэтому… Трюк старика Бука полностью раскрылся; надо действовать, не то вся «партия кайзера» целиком вернется в лоно свободомыслящих! Возвращаясь домой после разведки, весь напружиненный бьющей через край энергией, Дидерих встретил в подъезде Эмми. Опустив на лицо вуаль, она шла с таким видом, точно ей все на свете безразлично. «Нет, благодарю покорно, – подумал Дидерих, – мне отнюдь не безразлично. Куда бы это привело!» И он поздоровался с Эмми как-то воровато и робко.
Он уединился в конторе, где Зетбира уже не было. Дидерих, теперь самолично управляющий своей фабрикой, обязанный ответом только господу богу, принимал здесь важные решения. Он вызвал по телефону Гаузенфельд. В эту минуту открылась дверь, почтальон положил на стол пачку корреспонденции, и Дидерих прочел на лежащем сверху конверте «Гаузенфельд». Он повесил трубку и, качая головой, суровый, как сама судьба, уставился на письмо. Все в порядке. Старик, видно, без слов понял, что не следует больше поддерживать деньгами своих друзей – Бука и его сообщников, а то, чего доброго, его еще привлекут к ответственности. Спокойно надорвал Дидерих конверт, но с первых же строк жадно впился в письмо. Какой сюрприз! Клюзинг решил продать фабрику! Он стар и видит в Дидерихе своего единственного преемника!
Что это значит? Дидерих уселся в уголок и глубоко задумался. Это прежде всего значит, что Вулков уже действует. Старик давно был в отчаянной тревоге за правительственные заказы, а стачка, которой угрожал Наполеон Фишер, переполнила чашу. Безвозвратно ушло то время, когда он мог рассчитывать выбраться из тисков, предложив Дидериху часть поставок для «Нетцигского листка». Теперь он предлагает весь Гаузенфельд. «Вот что значит власть!» – заключил Дидерих и мигом смекнул, что предложение Клюзинга купить фабрику за ее настоящую цену попросту смехотворно. И он в самом деле громко рассмеялся… Вдруг Дидерих увидел ниже подписи приписку, сделанную более мелким почерком и настолько незаметную, что поначалу он проглядел ее. Когда он прочел, губы у него сами собой растянулись в улыбку. Он даже подпрыгнул.
– Ну вот! – ликующе крикнул он на всю контору, в которой никого, кроме него, не было. – Теперь они у нас в руках! – И вслед за тем почти мрачно произнес: – Ужасно! Бездна!
Слово за слово он еще раз перечел фатальную приписку, положил письмо в сейф и решительным движением повернул ключ в замке. Теперь там дремлет яд, который убьет Бука со всей его кликой, и яд этот доставлен его же, Бука, другом. Клюзинг не только отказался снабжать их деньгами, но еще и предал их. И поделом; такая растленность, по-видимому, даже Клюзинга отталкивает. Кто вздумает щадить их, тот становится их соучастником. Дидерих прикинул свои возможности. «Пощада в этом случае была бы настоящим преступлением. Каждый за себя. Надо действовать твердо и решительно. Вскрыть язву и все вымести железной метлой. Я беру это на себя во имя общественного блага, так повелевает долг, долг истинного немца. Что поделаешь – времена суровые!»
В тот же вечер в огромном зале «Валгалла» состоялось многолюдное открытое собрание, созванное избирательным комитетом свободомыслящих. При энергичном содействии Готлиба Горнунга Дидерих принял меры, чтобы сторонники Гейтейфеля ни в коем случае не стали хозяевами положения. Сам он счел излишним явиться к началу, к программной речи кандидата, и пришел с таким расчетом, чтобы попасть уже на прения. Сразу же в фойе он натолкнулся на Кунце, взбешенного до последней степени.
– Отставной солдафон! – крикнул Кунце. – Да вы взгляните на меня, сударь, и скажите, похож я на человека, который должен покорно выслушивать такие вещи?
От волнения он захлебнулся, и Кюнхен пришел ему на помощь.
– Пусть бы мне Гейтейфель сказал нечто подобное! – визжал он. – Он бы узнал, кто такой Кюнхен!
Дидерих посоветовал майору немедленно подать в суд на Гейтейфеля. Но Кунце не приходилось пришпоривать; он грозился попросту изничтожить Гейтейфеля. Дидериху и это было на руку, он горячо поддакнул, когда Кунце объявил, что если дело так обстоит, то он предпочитает блокировать с самыми отъявленными бунтовщиками, только не со свободомыслящими. Кюнхен и подошедший пастор Циллих нашли нужным возразить ему. Враги империи идут вместе с партией кайзера! «Продажные трусы», – говорил взгляд Дидериха. Майор не успокаивался, он так и дышал местью. Кровавыми слезами заплачет у него вся эта шайка!
– И не позже как нынче вечером! – пообещал Дидерих с такой железной убежденностью, что друзья застыли в изумлении. Дидерих сделал паузу и огненным оком заглянул каждому в глаза: – Что бы высказали, господин пастор, если бы я публично уличил ваших друзей из свободомыслящих в некоторых махинациях?
Пастор Циллих побледнел. Дидерих обратился к Кюнхену:
– Мошеннические трюки с общественными деньгами.
Кюнхен подскочил.
– Умереть можно! – воскликнул он в испуге.
– Дайте мне прижать вас к сердцу! – взревел Кунце и заключил Дидериха в объятия. – Я простой солдат, – говорил он. – Пусть оболочка груба, но ядро – чистое золото. Докажите, что эти канальи занимаются мошенническими проделками, и майор Кунце друг вам, как если бы мы плечом к плечу сражались под Мар-ла-Тур [136]136
Мар-ла-Тур– деревня в северо-восточной Франции (неподалеку от Меца). 16 августа 1870 г. здесь разыгралось одно из решающих (наряду с Седаном) сражений франко-прусской войны, в котором французская армия потерпела поражение.
[Закрыть]!
На глазах у майора блестели слезы, у Дидериха – тоже Но и в зале настроение было не менее приподнятым. В сизом от табачного дыма воздухе мелькали поднятые кулаки, тут и там из чьей-нибудь груди вырывались возгласы: «Безобразие!», «Правильно!», «Подлость!». Предвыборная борьба была в разгаре. Дидерих бросился в самую гущу ее с бешеным ожесточением, ибо, как вы думаете, кто стоял впереди президиума, возглавляемого самим стариком Буком, и держал речь? Зетбир, уволенный Дидерихом управляющий! Он, конечно, мстит Дидериху, и его речь сплошное подстрекательство. В самом сокрушительном тоне он доказывал, что доброжелательное отношение некоторых работодателей к подчиненным всего лишь демагогический прием: его цель – расколоть буржуазию и толкнуть часть избирателей в лагерь крамольников. Раньше эти же хозяева говорили: «Рожденный рабом рабом останется».
– Безобразие! – кричали организованные рабочие.
Дидерих, расталкивая толпу, прорывался вперед, пока не очутился у самой трибуны.
– Низкая клевета! – бросил он в лицо Зетбиру. – Стыдитесь! Как только я вас уволил, вы примкнули к злопыхателям!
Ферейн ветеранов, предводительствуемый Кунце, заорал дружным хором:
– Подлость! Безобразие!
Организованные рабочие подняли свист, Зетбир показывал дрожащий кулак Дидериху, а тот грозил за садить его в тюрьму. Тут поднялся старик Бук, взял колокольчик и зазвонил.
Когда шум улегся настолько, что можно было говорить, он начал мягким голосом, который постепенно окреп и потеплел:
– Сограждане! Не давайте пищу честолюбию отдельных личностей, не принимайте его всерьез! Что значат здесь отдельные личности? И даже классы? Речь идет о народе, а народ – это все мы, за исключением правителей. Нам – бюргерам – необходимо сомкнуть ряды и не повторять снова и снова ошибки, которая уже была совершена в пору моей юности [137]137
…не повторять снова и снова ошибки, которая уже была совершена в пору моей юности…– Эти слова Бука относятся к революции 1848 г., когда немецкая либеральная буржуазия, испугавшись революционного движения рабочих, способствовала кровавой победе контрреволюции.
[Закрыть]: не будем обращаться к помощи штыков, всякий раз как рабочие требуют признания своих прав. Ведь оттого, что мы никогда не хотели признать права рабочих, правители забрали такую власть, что и нас лишили прав!
– Совершенно верно!
– Теперь, когда правители требуют увеличения армии, народу, всем нам остается, быть может, последняя возможность отстоять свою свободу. Ведь нас вооружают только для того, чтобы поработить. Рожденный рабом рабом останется – это говорят не только вам, рабочим, это говорят всем нам правители, чья власть с каждым днем обходится нам все дороже и дороже!
– Правильно! Браво! Ни одного солдата, ни одного гроша!
Под гул одобрительных возгласов старик Бук сел. Дидерих, готовый дать решительный бой и уже заранее обливаясь потом, еще раз обшарил взглядом зал и нашел Готлиба Горнунга, который дирижировал поставщиками материалов для памятника кайзеру Вильгельму. Пастор Циллих расхаживал по рядам среди христианских отроков, члены ферейна ветеранов сосредоточились вокруг Кунце, и Дидерих выхватил меч из ножен.
– Исконный враг снова поднимает голову! [138]138
Исконный враг снова поднимает голову!– Исконным врагом немецкие националисты называли Францию.
[Закрыть]– крикнул он, презрев смерть. – Мы называем изменником фатерланда всякого, кто отказывает нашему несравненному кайзеру в…
– А-у! У-y! – загудели изменники фатерланда, но Дидерих, под залпы рукоплесканий благонамеренных, продолжал кричать, хотя голос у него то и дело срывался:
– Один французский генерал потребовал реванша!
Кто-то из сидящих в президиуме спросил:
– А большой куш он получил из Берлина?
Раздался смех. Дидерих судорожно бил руками в воздухе, точно хотел подняться и полететь.
– Сверкающие стены штыков! Кровь и железо! Воинственные идеалы! Сильная монархия!..
Трескучие фразы бряцали, ударяясь одна о другую, под исступленный рев благонамеренных.
– Твердая власть! Оплот против трясины демократии!
– Вулков, вот наш оплот! – крикнул тот же голос из президиума.
Дидерих быстро оглянулся, он узнал Гейтейфеля.
– Вы хотите сказать, что правительство его величества.
– Тоже оплот! – сказал Гейтейфель.
Дидерих, тыча в него пальцем, крикнул в крайней ажитации:
– Вы оскорбили кайзера!
– Провокатор! – взвизгнул за его спиной Наполеон Фишер, это был именно он. Его товарищи осипшими голосами подхватили:
– Провокатор! Провокатор! – Они вскочили и грозным кольцом обступили Дидериха. – Опять он за старое! Ему хочется еще одного посадить за решетку! Вон!
И Дидериха схватили за шиворот. С перекошенным от ужаса лицом он ворочал шеей, зажатой мозолистыми руками, и сдавленным голосом молил председателя о помощи. Старик Бук пришел на помощь, он усиленно звонил в колокольчик и даже послал нескольких молодых людей на выручку Дидериху. Как только Дидериха отпустили, он поднял руку и обличительным перстом указал на старика Бука.
– Продажность демократов! – кричал он, приплясывая от азарта. – Я докажу!
– Браво! Дать слово! – И лагерь националистов бросился в бой, опрокидывая столы и порываясь помериться силами с мятежом. Казалось, вот-вот начнется рукопашная: полицейский офицер, дежуривший на сцене, уже взялся за свою каску [139]139
…полицейский офицер, дежуривший на сцене, уже взялся за свою каску…– Если присутствовавший на политическом собрании полицейский чиновник надевал свою каску и вставал – это означало конец собрания. Этим правом полиция пользовалась главным образом для того, чтобы воспрепятствовать критике существующего социального порядка.
[Закрыть]; момент был критический… И вдруг со сцены раздался повелительный голос:
– Тише! Пусть говорит!
Наступила почти полная тишина. В этом голосе чувствовалась такая сила гнева, что все присмирели. Старик Бук, выпрямившись во весь рост за столом президиума, уже не был прежним почтенным старцем, он словно стал стройнее от переполнявшей его энергии, он был бледен от ненависти, он метнул в Дидериха взгляд – вчуже дух захватывало!








