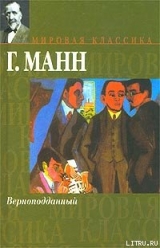
Текст книги "Верноподданный"
Автор книги: Генрих Манн
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 27 страниц)
– Пусть говорит! – повторил старик. – И предателям дают слово, прежде чем вынести приговор. Перед вами образец предателя нации. Он лишь внешне изменился с той поры, как мое поколение боролось, потерпело крах, ушло в тюрьмы и на виселицы…
– Ха-ха-ха! – сардонически захохотал Готлиб Горнунг, преисполненный сознания своего превосходства. На беду, поблизости от него сидел широкоплечий рабочий, он так грозно взмахнул кулаком, что Горнунг, прежде чем удар попал в цель, вместе со стулом полетел вверх тормашками.
– Уже в те времена, – продолжал старик, – были люди, предпочитающие личную выгоду чести, люди, которым никакая тирания не унизительна, если она обогащает. Рабское вожделение к материальным благам – плод и орудие всякого тиранического господства, вот что нас тогда погубило, и вам, сограждане… – Старик широко раскинул руки, он напрягал последние силы для рвавшегося из его груди крика души. – И вам, сограждане, тоже грозит опасность впасть в рабскую зависимость от его предательской власти и сделаться его добычей. Пусть этот человек говорит.
– Нет!
– …Пусть говорит. Но затем спросите у него, сколько он потребовал чистоганом за убеждения, которые имеет наглость называть националистическими? Спросите, кому он продал свой дом, с какой целью и с каким барышом?
– Вулкову!
Это было сказано на сцене, но зал услышал. Дидерих, подталкиваемый безжалостными кулаками, не совсем по своей воле добрался до ступенек, ведущих на сцену. Поднявшись, он огляделся в поисках помощи: старик Бук сидел неподвижно, положив на колено сжатый кулак и не спуская глаз с Дидериха; Гейтейфель, Кон и остальные члены президиума с холодной кровожадностью на лицах ждали его провала, а зал кричал ему: «Вулков! Вулков!» Дидерих что-то лепетал насчет поклепа, сердце у него неистово билось, на мгновенье он закрыл глаза в надежде, что упадет без сознания и тем все кончится. Но сознание он не потерял, и, когда ему ничего другого не оставалось, он вдруг ощутил прилив отчаянной храбрости. Он ощупал нагрудный карман, уверенный в силе своего оружия, смерил воинственным взглядом врага, этого коварного старого Бука, который наконец сбросил с себя маску отеческого покровительства и открыто выказал свою ненависть. Дидерих испепелил его взглядом, яростно ткнул кулаком в воздух и затем твердым шагом подошел к рампе.
– Кто хочет заработать? – заорал он в гудящий зал голосом ярмарочного зазывалы, и зал утих, как по мановению волшебной палочки. – Каждый может заработать! – с неослабевающей силой продолжал он орать. – Всем, кто сумеет доказать, сколько я заработал на продаже своего дома, плачу столько же!
Этого, по-видимому, никто не ожидал. Поставщики первые крикнули «браво!», затем их решились поддержать христиане и ветераны, правда, не очень уверенно, ибо крики «Вулков!», сопровождаемые ритмическим постукиванием пивными кружками о столы, возобновились. Дидерих увидел в этом заранее подготовленную обструкцию, направленную не только против него, но и против высшей власти. Он в тревоге оглянулся – полицейский офицер и в самом деле схватился за свою каску. Дидерих сделал ему знак рукой, что справится сам, и проревел:
– Вулков тут ни при чем! Свободомыслящие под приют для грудных младенцев предлагали мне продать дом, настоятельно предлагали, могу поклясться в этом. Я, как националист, с негодованием отклонил гнусное предложение обмануть город и разделить награбленное с некиим бессовестным членом магистрата!
– Вы лжете! – крикнул старик Бук и вне себя от возмущения вскочил на ноги.
Но Дидерих, в сознании своей правоты и высоконравственной миссии, разошелся еще пуще. Он сунул руку в нагрудный карман, вынул оттуда листок и бесстрашно размахивал им перед тысячеголовым драконом, который раскинулся у его ног и обдавал его фонтаном возгласов:
– Лжец! Мошенник!
– Вот доказательство! – ревел он и до тех пор размахивал листком, пока его не услышали.
– Со мной сделка не удалась, зато в Гаузенфельде им посчастливилось. Да-да, соотечественники! В Гаузенфельде!.. Каким образом? А вот каким. Двое господ из партии свободомыслящих явились к владельцу с просьбой заключить с ними запродажную на известный участок, на тот случай, если приют решено будет строить там.
– Имена! Имена!
Дидерих бил себя в грудь, готовый на любой шаг. Клюзинг открыл ему все, кроме имен. Горящими глазами обвел он членов президиума. Ему показалось, что один из них побледнел. «Кто не рискует – тот не выигрывает», – подумал он и заревел:
– Один из них магазиновладелец господин Кон!
И с миной человека, выполнившего свой долг, он сбежал со ступенек и попал прямо в объятия Кунце, и тот самозабвенно расцеловал его в обе щеки под рукоплескания благонамеренных. Остальные кричали – кто: «Доказательства!», кто: «Ложь!» – но все единодушно требовали: «Дать слово Кону!» – и Кон уже никак не мог уклониться от выступления. Старик Бук, у которого заметно подрагивали щеки, пристально посмотрел на него; не дожидаясь просьбы с его стороны, он предоставил ему слово. Кон, подталкиваемый Гейтейфелем, не очень уверенно вышел из-за длинного стола президиума; он словно с трудом волочил ноги и произвел неблагоприятное впечатление еще до того, как заговорил. Он виновато улыбнулся.
– Милостивые государи, вы, разумеется, не поверили тому, что сказал предыдущий оратор, – начал он так тихо, что почти никто не разобрал его слов. И все-таки Кону показалось, что он слишком резок. – Мне не хотелось бы, – продолжал он, – прямо уличить предыдущего оратора во лжи, но все же дело было не совсем так.
– Ага, он не отрицает! – И тут разразилась такая буря, что Кон от неожиданности отскочил назад. Зал бурлил, в воздухе мелькали кулаки. То здесь, то там между противниками завязывались драки. Кюнхен носился между рядов, волосы его развевались.
– Ура! – кричал он, потрясая кулаками и подстрекал к побоищу…
На сцене также все пришло в движение, кроме полицейского офицера. Старик Бук покинул председательское место и отвернулся от народа, не пожелавшего услышать последний крик его души. Стоя в стороне, одинокий, он обратил глаза туда, откуда никто не мог видеть, как из них льются слезы. Гейтейфель возмущенно корил полицейского офицера, а тот, не шелохнувшись на своем стуле, отвечал, что вопрос, когда и как распускать собрание, единолично решает должностное лицо, и нет никакой надобности делать это именно тогда, когда свободомыслящие зашли в тупик. Выслушав полицейского, Гейтейфель подошел к столу, зазвонил в колокольчик и крикнул:
– Второе имя!
На сцене хором подхватили этот возглас и повторяли его до тех пор, пока зал не услышал и Гейтейфель смог продолжать.
– Второй был член суда Кюлеман! Совершенно точно. Кюлеман собственной персоной. Тот самый Кюлеман, на средства которого предполагается построить приют для трудных младенцев. Кто осмелится утверждать, что Кюлеман расхищает оставляемое им наследство? Вот то-то оно и есть! – И Гейтейфель пожал плечами.
В зале раздался одобрительный смех. Но ненадолго: страсти вспыхнули вновь.
– Доказательства! Пусть Кюлеман сам выступит! Воры!
Гейтейфель пояснил, что Кюлеман тяжело болен. За ним пошлют, ему уже звонят по телефону.
– Беда! – шепнул Дидериху Кунце. – Если второй был Кюлеман, то нам крышка, можем петь себе отходную.
– Слишком рано! – с безумной храбростью воскликнул Дидерих.
Пастор Циллих возложил все надежды на перст божий. Дидерих в порыве отчаянной отваги сказал:
– Очень он нам нужен!
Доказывая и убеждая, он набросился на какого-то скептика, позволившего себе усомниться в успешном исходе борьбы. Благонамеренных он подбивал занять решительную позицию и даже пожимал руки социал-демократам, стараясь раздуть их ненависть к буржуазной коррупции, и повсюду размахивал письмом Клюзинга. Он так энергично хлопал рукой по бумаге, что никто ничего не успевал прочесть, он кричал:
– Разве здесь написано Кюлеман? Здесь сказано Бук! Если у Кюлемана еще не отнялся язык, он должен будет признать, что духу его в Гаузенфельде не было. В Гаузенфельд приезжал Бук!
При этом он не забывал следить за тем, что делается на сцене, а там стало вдруг удивительно тихо. Члены президиума носились взад и вперед, но разговаривали шепотом. Старика Бука нигде не было видно. «Что случилось?» В зале тоже стало тише, неизвестно почему. Внезапно разнесся слух: «Говорят, Кюлеман скончался». Дидерих не столько услышал, сколько нюхом учуял это. Он вдруг примолк и перестал надсаживаться. Все в нем напряглось, его лицо непроизвольно сводило гримасой. Если к нему обращались с вопросом, он не отвечал, он слышал вокруг себя какой-то бессмысленный хаос звуков и лишь смутно представлял себе, где находится. Но вот подошел Готлиб Горнунг и сказал:
– Кюлеман как будто действительно скончался. Я был наверху, когда телефонировали к нему на квартиру. В эту минуту он испустил дух.
– И очень кстати, – сказал Дидерих. Он удивленно осмотрелся вокруг, словно только что проснувшись.
– Это перст божий, – заявил пастор Циллих, а Дидерих сказал себе, что перст этот иногда, право же, бывает очень полезен. Что было бы, если бы сей перст направил судьбу по иному пути?.. Враждующие партии смешались; в политику вторглась смерть, и члены партий стали просто людьми, все говорили вполголоса и покидали зал. Только выйдя на улицу, Дидерих узнал, что со стариком Буком случился обморок.
«Нетцигский листок» сообщил о «трагическом финале предвыборного собрания», а в заключение напечатал почетный некролог, посвященный памяти «высокочтимого гражданина Кюлемана». Перед читателем предстал ничем не запятнанный образ покойного, хотя и произошли события, требовавшие разъяснения… Между Дидерихом и Наполеоном Фишером состоялась встреча с глазу на глаз. Уже в самый канун перебаллотировки «партия кайзера» созвала еще одно собрание, на котором не возбранялось присутствовать и противникам. В своем пламенном выступлении Дидерих громил продажных демократов и их нетцигского главаря; назвать его имя – долг каждого верного монархиста… но он все же предпочел его не называть.
– Ибо, милостивые государи, в сердце моем горит огонь высокого стремления сослужить службу нашему несравненному кайзеру, разоблачить его опаснейшего врага и доказать, что этот враг тоже только и помышляет, что о наживе. – И тут у него вдруг блеснула одна мысль, быть может, просто воспоминание, он и сам не знал. – Его величество изрек однажды прекрасные слова: «Все мои африканские колонии отдам за приказ об аресте Эйгена Рихтера». Я же, милостивые государи, отдаю в руки его величества ближайших друзей Рихтера. – Выждав, пока затихнет гром рукоплесканий, он продолжал, несколько понизив голос: – А кроме того, милостивые государи, у меня есть особые основания полагать, чего ждут от «партии кайзера» в высоких, в чрезвычайно высоких сферах. – Он пощупал нагрудный карман, словно и на этот раз в нем лежало неопровержимое доказательство, и, набрав полную грудь воздуха, вдруг рявкнул: – Тот не верноподданный, кто после всего вздумает подать голос за свободомыслящих!
Собрание одобрительно загудело, и тогда Наполеон Фишер, присутствовавший в зале, попытался указать на неизбежные последствия такой позиции. Дидерих немедленно прервал его:
– Националисты скрепя сердце выполнят свой долг и изберут меньшее зло… Но я первый ни в какие сделки с антимонархистами вступать не намерен. – И он до тех пор стучал кулаком по кафедре, пока Наполеон Фишер не стушевался.
Утром в день перебаллотировки, как бы в подтверждение искренности Дидериха, в социал-демократической газете «Глас народа» было напечатано, наряду с ироническими выпадами против самого Дидериха, все, что он сказал о старике Буке, причем назывались имена.
– Геслингу крышка, – говорили одни избиратели. – Теперь Бук подаст на него в суд.
– Буку крышка, – отвечали другие. – Геслингу слишком многое известно.
Свободомыслящие, кто еще сохранил голову на плечах, тоже пришли к заключению, что теперь опасно лезть на рожон. Если националисты, с которыми, видно, шутить сейчас не приходится, считают, что следует голосовать за социал-демократов, то… А пройдет социал-демократ на выборах, значит, хорошо, что ты голосовал за него, иначе рабочие еще подвергнут тебя бойкоту.
Развязка наступила в три часа дня. На Кайзер-Вильгельмштрассе прозвучал сигнал тревоги. Все бросились к окнам, к дверям магазинов: где горит? Посреди улицы, в полной военной форме, маршировали члены ферейна ветеранов. Знамя ферейна указывало им дорогу чести. Кюнхен, исполнявший роль командира, в лихо заломленной на затылок островерхой каске грозно размахивал шпагой, Дидерих, идя в строю, печатал шаг, в радостной уверенности, что все дальнейшее свершится под команду, автоматически, что нужно лишь печатать шаг и идти строем, и тогда под мерной поступью власти от Бука останется мокрое место!.. На другом конце улицы к ферейну ветеранов примкнула новая колонна под своим знаменем; ее встретили гордым «ура» и громом оркестра. Объединенная колонна, хвост которой терялся в необозримой дали, – так велико было действие верноподданнической агитации, – достигла наконец пивной Клапша. Здесь разбилась на отряды, и Кюнхен скомандовал:
– К урнам!
Члены избирательного комитета в полном составе, с пастором Циллихом во главе, все в праздничных костюмах, встречали избирателей уже в коридоре. Кюнхен испустил боевой клич: «Вперед, камрады, на выборы! Голосуем за Фишера!» – и под оглушительный рев оркестра отделился от правого фланга и направился в зал, где происходили выборы. За ферейном ветеранов последовала вся колонна. Клапш, не рассчитывавший на такой энтузиазм, быстро исчерпал весь свой запас пива. К концу, когда из дела национализма было выжато все, что возможно, явился бургомистр доктор Шеффельвейс, встреченный криками «ура». Он совершенно открыто взял красный листок и, опустив его, радостно взволнованный отошел от урны.
– Наконец-то! – сказал он и пожал Дидериху руку. – Сегодня мы повергли в прах дракона.
– Вы, господин бургомистр? – беспощадно возразил Дидерих. – Да вы еще наполовину торчите в его пасти. Смотрите, как бы он, издыхая, не увлек вас за собой!..
Доктор Шеффельвейс побледнел, а тем временем грянуло новое «ура». Вулков!..
Пять тысяч с лишним голосов за Фишера! Гейтейфель, едва собравший три тысячи голосов, был сметен с дороги национализма, и в рейхстаг прошел социал-демократ [140]140
…и в рейхстаг прошел социал-демократ.– На выборах 15 июня 1893 г. социал-демократия собрала 1 миллион 787 тысяч голосов (на 300 тыс. больше, чем в 1890 г.) и провела в рейхстаг сорок четыре депутата. Свободомыслящие потерпели поражение и получили вместо шестидесяти шести мест только тридцать семь.
[Закрыть]. «Нетцигский листок» констатировал победу «партии кайзера», ибо ей Нетциг обязан тем, что оплот свободомыслящих пал; этим заявлением Нотгрошен, однако, не вызвал ни особого ликования, ни каких-либо возражений. Исход выборов никого не удивил, все как-то сразу утратили к ним интерес. После шумихи предвыборной кампании надо было подумать о барышах. Памятник кайзеру Вильгельму, вокруг которого еще совсем недавно кипела гражданская война, никого больше не волновал. Старик Кюлеман завещал городу на общественные нужды шестьсот тысяч марок. Что ж, весьма благородно. Памятник кайзеру Вильгельму или приют для грудных младенцев – не все ли равно! Это никого не интересовало, как не интересовало Готлиба Горнунга, пришел ли покупатель за губкой или зубной щеткой. На решающем заседании гласных выяснилось, что социал-демократы стоят за памятник – ну и прекрасно. Кто-то предложил, не откладывая, образовать комитет с регирунгспрезидентом фон Вулковом в качестве почетного председателя. Тут поднялся Гейтейфель, вероятно, раздосадованный понесенным поражением, и выразил сомнение в том, найдет ли господин президент удобным для себя решать вопрос о земельном участке под памятник: ведь фон Вулков имеет некоторое касательство к известной земельной сделке. Присутствовавшие на заседании начали перемигиваться и пересмеиваться; у Дидериха засосало под ложечкой, он ждал скандала. Он ждал молча, не без тайного злорадства: каково-то власти, когда под нее подкапываются? Он и сам не знал, чего ему хочется. Но, так как ничего не последовало, он встал, и, строго выпрямившись, без особой горячности выразил протест против подобного предположения, которое он однажды уже имел честь публично опровергнуть. Противная же сторона, наоборот, до сих пор ничем не доказала, что не совершила злоупотреблений, в которых ее обвиняют.
– Могу вас утешить, – ответил Гейтейфель, – вы скоро получите доказательства. Иск уже вчинен.
Его слова вызвали движение среди присутствующих. Эффект, правда, несколько ослабел, когда Гейтейфелю пришлось признаться, что его друг Бук привлек к суду не доктора Геслинга, а только «Глас народа».
«Геслинг слишком много знает», – твердили все, и Дидерих, наряду с почетным председателем фон Вулковом, был избран председателем комитета по сооружению памятника кайзеру Вильгельму. В магистрате все эти решения нашли горячего защитника в лице бургомистра доктора Шеффельвейса и были одобрены. Старик Бук на этом заседании блистал своим отсутствием. Ну, что ж, значит, он сам считает, что дело его не многого стоит. Гейтейфель сказал:
– Очень ему нужно быть свидетелем всех этих безобразий, которые он все равно предотвратить не может.
Но тем самым Гейтейфель только повредил себе. Ведь старик Бук за короткое время потерпел одно за другим два поражения, и можно было наперед сказать, что процесс, затеянный им против «Гласа народа», будет третьим. Показания, которые придется, быть может давать на суде, каждый уже заранее приноравливал к сложившейся обстановке. Геслинг, говорили те, в ком еще сохранился здравый смысл, зашел, разумеется, слишком далеко. Старик Бук, – все его издавна знают, – не вор и не мошенник. Неосторожный шаг он еще, пожалуй, мог совершить, с него станется, в особенности теперь, когда он платит по долгам брата и сам уже в долгу как в шелку. Не побывал ли он и вправду вместе с Коном у Клюзинга по поводу земельного участка? Выгодное было бы дельце, не выплыви оно на свет божий. И надо же было Кюлеману скончаться в ту самую минуту, когда он мог присягнуть в невиновности друга! Такое невезенье неспроста. Господин Тиц, коммерческий директор «Нетцигского листка», свой человек в Гаузенфельде, недвусмысленно заметил, что вступаться за людей, которые явно сходят со сцены, – значит совершать преступление по отношению к самим себе. Он подчеркивал далее, что старик Клюзинг, который мог бы одним словом все разрешить, предпочитает отмалчиваться. Он болен, и только из-за него суд был отложен на неопределенный срок.
Но болезнь не помешала ему продать фабрику. Это была последняя новость, на нее-то и намекал «Нетцигский листок», сообщая о «решающих переменах на крупном, наиболее значительном для хозяйственной жизни Нетцига предприятии». Клюзинг вел переговоры с одной берлинской фирмой. На вопрос, почему Дидерих отстранился от этого дела, он показывал письмо Клюзинга, в котором тот предлагал ему первому купить фабрику.
– И, главное, на исключительно выгодных условиях, – прибавил он. – К сожалению, я тесно связан с зятем в Эшвейлере. Возможно, мне придется даже уехать из Нетцига.
Но когда Нотгрошен, опубликовавший его ответ, обратился к нему, как знатоку, за подробностями, Дидерих заявил, что проспект далеко не полностью отражает действительность. Гаузенфельд – золотое дно: он может лишь горячо рекомендовать акции, допущенные к обращению на бирже, и они в самом деле пользовались в Нетциге большим спросом. Насколько суждение Дидериха было объективным и не диктовалось личной заинтересованностью, выяснилось при совершенно особых обстоятельствах, а именно – когда старику Буку понадобились деньги. Да, он докатился до этого! Семья и приверженность к общественным интересам благополучно довели его до такого положения, что даже друзья от него отступились. Тогда на сцену выступил Дидерих. Он дал старику деньги под вторую закладную на его дом на Флейшхауэргрубе.
– Ему, видно, до зарезу нужны были деньги, – неизменно повторял Дидерих, рассказывая об этом. – Уж если он пошел на то, чтобы взять деньги у меня, у своего заклятого политического противника! Кто бы подумал, что он на это способен!
И Дидерих погружался в размышления над переменчивостью судьбы… Он прибавлял, что в случае, если дом перейдет к нему, это дорого ему обойдется. Правда, из своего дома ему вскоре придется выехать. Все это тоже показательно; видно, Дидерих действительно на Гаузенфельд не рассчитывает.
– Но, – пояснял Дидерих, – не под счастливой звездой родился старик, кто знает, чем кончится процесс… И именно потому, что мы с ним политические противники, я хочу показать… Ну, вы сами понимаете.
Его понимали, его поздравляли, восхищаясь его более чем корректным образом действий. Дидерих отмахивался.
– Он обвинил меня в недостатке идеализма, не могу же я снести такой упрек.
От мужественного волнения у него дрожал голос.
У каждого своя судьба; когда видишь, что у некоторых путь усеян терниями, тебе особенно радостно сознавать, что перед тобой-то расстилается гладкая дорожка. Дидерих ясно ощутил это в тот день, когда Наполеон Фишер уезжал в Берлин, чтобы отклонить военный законопроект. «Глас народа» оповестил о массовой демонстрации: вокзал, как передавали, был оцеплен полицией. Долг националиста повелевал отправиться туда. По дороге Дидерих встретил Ядассона. Раскланялись церемонно, соответственно охлаждению, наступившему в их дружбе.
– Вам тоже захотелось взглянуть на этот тарарам? – спросил Дидерих.
– Я решил провести отпуск в Париже. – На Ядассоне и в самом деле был туристский костюм. – Хотя бы уже затем, чтобы не лицезреть всех политических глупостей, которые здесь творятся.
Дидерих счел за благо пропустить мимо ушей раздраженные тирады человека, которому не повезло.
– Носятся слухи, будто вы решились на серьезный шаг.
– Я? О чем это вы?
– Фрейлейн Циллих, правда, уехала к тетке.
– Хороша тетка! – Ядассон ухмыльнулся. – Вздор! И вы этому поверили?
– Мое дело сторона. – Дидерих изобразил на своем лице полное понимание. – Но что значит «хороша тетка»? Куда же девалась Кетхен?
– Сбежала, – сказал Ядассон.
Тут Дидерих все же не мог не остановиться, он громко засопел. Кетхен Циллих сбежала! Как бы он влип!.. Ядассон продолжал тоном светского человека:
– Сбежала, представьте! В Берлин. Доверчивые родители еще ничего не знают. Я на нее не в обиде, должна же когда-нибудь наступить развязка.
– Такая или иная, – сказал Дидерих, овладев собой.
– Лучше такая, чем иная, – уточнил Ядассон, и Дидерих, доверительно понизив голос, продолжал:
– Теперь я могу вам признаться: я всегда думал, что надолго эту девушку вам не удержать.
Но Ядассон запротестовал, его самолюбие было уязвлено:
– Да что вы? Я сам дал ей рекомендацию. Вот увидите, она сделает блестящую карьеру в Берлине.
– Не сомневаюсь. – Дидерих подмигнул. – Мне известны ее достоинства. Вы, конечно, считали меня простачком. – От возражений Ядассона он отмахнулся. – Да, вы считали меня простачком. А я тем временем всласть поохотился в ваших владениях. Теперь я могу вам признаться. – И он поведал Ядассону, который слушал его со все возрастающим беспокойством, о своем приключении с Кетхен в «Приюте любви»… поведал с такими подробностями, каких на самом деле и не было. С улыбкой удовлетворенной мести смотрел на Ядассона, который явно колебался, стоит ли вступаться за свою честь. Он удовольствовался тем, что похлопал Дидериха по плечу, и оба сделали выводы, которые напрашивались сами собой.
– Все, разумеется, только между нами… Такую девушку было бы несправедливо слишком строго судить, – откуда же, скажите на милость, черпать пополнение изысканному миру веселья и радости?.. Адрес? Только вам. Теперь, по крайней мере, как приедешь в Берлин, сразу будешь знать, куда податься.
– В этом даже есть особая прелесть, – молвил Дидерих, как бы отвечая собственным мыслям. Тут Ядассон увидел свой багаж, и они стали прощаться. – Политика нас разлучила, но на почве чисто человеческого находишь, слава богу, общий язык. Желаю хорошо повеселиться в Париже.
– Какое там веселье… – Ядассон отвернулся, на его лице мелькнуло странное выражение, словно он собирался сыграть с кем-то коварную шутку. Увидев беспокойство в глазах у Дидериха, он сказал удивительно серьезно и спокойно: – Через месяц вы сами все увидите. Быть может, правильнее было бы уже теперь подготовить общественность.
Дидерих, помимо воли встревоженный, спросил:
– Что вы затеваете?
И Ядассон с улыбкой человека, решившегося на жертву, ответил:
– Я намерен привести свой внешний облик в соответствие со своими националистическими убеждениями…
Когда Дидерих расшифровал смысл этих слов, он только и мог, что отвесить почтительный поклон, но Ядассона уже не было. В отдалении, на перроне, еще раз – в последний раз – вспыхнули его уши, как церковные витражи в лучах заката.
К вокзалу приближалась группа мужчин со знаменем. Несколько полицейских неторопливо сошли с лестницы и выстроились, преграждая им путь. Группа тотчас запела «Интернационал». Но все же ее натиск был с успехом отражен представителями власти. Несколько рабочих, правда, прорвались и окружили своего депутата; длиннорукий Наполеон Фишер чуть ли не по земле волочил свою вышитую дорожную сумку. В буфете подкрепились после всех треволнений, пережитых под июльским солнцем во имя идеи мятежа. Наполеон Фишер, пользуясь тем, что поезд запаздывал, попытался произнести на перроне речь; но полицейский запретил это депутату парламента. Наполеон опустил вышитую сумку на землю и оскалил зубы. Дидерих знал по опыту: он собирается оказать сопротивление власти. Но тут, к счастью, подошел поезд. И только теперь Дидерих обратил внимание на приземистого господина, который отворачивался всякий раз, как кто-либо проходил мимо. Держа в руках большой букет цветов, господин вглядывался в приближающийся поезд. Кто же это? Дидериху так знакомы эти плечи… Что за наваждение! Из окна купе выглядывает Юдифь Лауэр, муж помогает ей сойти со ступенек, протягивает ей букет, и она, со своей задумчивой улыбкой, принимает его. Когда супруги направились к выходу, Дидерих, громко засопев, быстро отошел в сторону. Никакого наваждения нет, попросту срок заключения Лауэра кончился, и он снова на свободе. Опасаться каких-либо неприятностей нет оснований, но, видимо, надо привыкнуть к мысли, что Лауэр уже не за решеткой… И он встречает жену букетом цветов! Разве он ничего не знает? Мог бы и поразмыслить на досуге! А она. Вернулась, как только он отсидел свой срок! Нет, бывают ситуации, которые порядочному человеку и во сне не снятся. Впрочем, вся эта передряга его касается отнюдь не больше, чем любого другого: он лишь выполнил свой долг. «У всякого, вероятно, было бы такое же неприятное ощущение, как у меня. Надо думать, Лауэру, где бы он ни появился, дадут понять, что ему лучше всего отсиживаться дома… Что посеешь, то и пожнешь. Кетхен Циллих помнила это и сделала правильный вывод. Такой же вывод следовало бы сделать и другим, не только Лауэру».
А он, Дидерих, шествует по городу, встречаемый почтительными приветствиями, он самым естественным образом занял место, уготованное его собственными заслугами. В суровые времена он сумел пробиться на такую вершину, что теперь оставалось только пожинать плоды. Люди начали верить в него, да и сам он уже не знал никаких сомнений… Не так давно о Гаузенфельде пошли разные слухи, и акции упали. Откуда стало известно, что округ передал Геслингу заказы, которые прежде выполняла гаузенфельдская фабрика? Дидерих не проронил ни слова, но слух облетел весь город еще до того, как начались увольнения рабочих, о которых так сокрушался «Нетцигский листок». Старику Буку, как председателю наблюдательного совета, пришлось, к сожалению, самому поднять вопрос об увольнениях, что очень и очень ему повредило. Возможно, что округ только из-за Бука так круто обошелся с Гаузенфельдом. Было ошибкой выбирать старика председателем. И вообще лучше бы он долги уплатил из тех денег, которыми Геслинг его так благородно ссудил, а не акции покупал. Дидерих сам, где только мог, высказывал такое мнение.
– Кто бы поверил, что он на это способен! – неизменно прибавлял он в таких случаях и погружался в глубокомысленные размышления о переменчивости судьбы. – Вот наглядный пример, до чего может дойти человек, потерявший почву под ногами.
При этом у каждого держателя гаузенфельдских акций создавалось гнетущее впечатление, что старик Бук увлечет за собой в пропасть и его. Ибо акции падали. Увольнения создали угрозу забастовки – и акции падали все ниже… На сцене вдруг появился человеколюбивый Кинаст, приехавший, как он говорил, отдохнуть в Нетциге. Ни у кого не было охоты признаваться, что он попался на удочку и накупил гаузенфельдских акций. Кинаст всем и каждому сообщал, что многие из его знакомых уже продали свои акции. Да и пора уже, пора. В кафе появился маклер, – он, впрочем, не был знаком с Кинастом, – скупавший акции. Спустя несколько месяцев в газете изо дня в день стало печататься объявление банкирского дома «Занфт и К o». У кого еще есть на руках гаузенфельдские акции, тот может без хлопот сбыть их. К началу осени решительно ни у кого не осталось этих дутых акций. И вдруг распространился слух, будто геслинговское предприятие сливается с гаузенфельдским. Дидерих прикидывался удивленным.
– А что же старик Бук? – спрашивал он. – Как председатель наблюдательного совета, он ведь тоже захочет сказать свое слово. Или сам он уже продал свой пакет акций?
– Ему не до того, – отвечали Дидериху, имея в виду предстоящий процесс по иску старика Бука к «Гласу народа», и добавляли: – Он, несомненно, останется на бобах.
А Дидерих на это чрезвычайно деловито замечал:
– Жаль его. Значит, отзаседался старик В наблюдательные советы ему теперь ходу не будет.
В таком настроении все пришли на слушание дела Свидетели ничего не могли вспомнить. Клюзинг-де давно говорил о своем намерении продать фабрику. Говорил ли он особо о продаже того самого участка? Упоминал ли старика Бука в качестве посредника? Все это осталось неясным. В кругах городских гласных было известно, что названный участок намечается под приют для грудных младенцев. А Бук был согласен? Во всяком случае, он не возражал. Многим бросалось в глаза, как живо он интересовался этим участком. Сам Клюзинг, который до сих пор все еще хворал, показал на допросе, что его друг Бук до недавнего времени запросто бывал у него, может, он и предлагал в случае продажи закрепить за ним данный участок, но Клюзинг в этом никаких низких побуждений отнюдь не усматривал… Истец Бук требовал установить то факт, что переговоры о продаже земли вел сам покойный Кюлеман: именно Кюлеман – жертвователь денег. Но установить этот факт не удалось; показания Клюзинга и тут не отличались четкостью. То, что Кон подтвердил факт переговоров между Кюлеманом и Клюзингом, не было принято во внимание, ведь Кон заинтересован в том, чтобы представить свой разговор с Клюзингом в самом невинном свете. Таким образом наиболее надежным свидетелем оказался Дидерих; ему Клюзинг писал и вслед за тем имел с ним беседу. Было ли в упомянутой беседе названо чье-либо имя? Дидерих показал:








