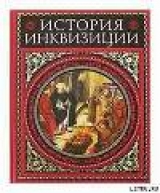
Текст книги "История инквизиции. том 1"
Автор книги: Генри Ли
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 13 страниц)
Инквизиторское могущество часто было средством для вымогательств и шантажа. В 1304 г. папа Бенедикт XII был вынужден сделать серьезное внушение инквизиторам Падуи и Пьяченцы ввиду доходивших до него жалоб по делам добрых католиков, которых преследовали при помощи лжесвидетелей. На Виеннском соборе 1311 г. папа велел принять каноны, внесенные в Corpus Juris, чтобы воспрепятствовать инквизиции пользоваться своим могуществом для вымогательства денег с невинных и за деньги оставлять на свободе виновных. В наказание за подобные проступки Климент грозил отлучением от Церкви. Инквизиторы часто заменяли телесные наказания штрафами и даже налагали ежегодный оброк за свою снисходительность.
Как ни были ужасны мрачные тюрьмы, куда инквизитор запрятывал своих мучеников, инквизиция гораздо больше внушала страха и отчаяния постоянной угрозой лишения имущества, которую, как Дамоклов меч, занесла над головой всех и каждого. Она могла довести до нищеты любое семейство. Богатые люди рано поняли, что благоразумнее для них было заручиться расположением могущественных мздоимцев. В 1244 г. доминиканский капитул Кагора приказал инквизиторам не брать подарки и подношения, которые подрывали доброе имя их ордена; но эти запреты скоро были забыты. Так как инквизиция представляла свои отчеты только папской канцелярии, то ее служителям нечего было бояться расследований или доносов. Им нечего даже было бояться и гнева небесного, так как уже сами их служебные обязанности обеспечивали им полное отпущение всех грехов, в которых они исповедовались и раскаивались. Защищенные таким образом, они действовали как хотели, и никакое угрызение совести не смущало их духа.
Только одно чисто светское наказание входило в компетенцию инквизиции: указание домов, подлежащих уничтожению, как оскверненных ересью. Уже в 1166 г. предписывалось сносить все дома, где еретики находили приют. Подобный же указ был издан императором Генрихом VI в 1194 г. (Пражский эдикт), Отгоном IV в 1210 г., Фридрихом II в 1232 г. (Равеннский эдикт). Оно было уже внесено в Веронский кодекс 1228 г. для всех тех случаев, когда владельцы дома в недельный срок не удалят из дома своих жильцов еретиков. Такое предписание было в статутах Флоренции. Оно фигурирует в папских буллах, определяющих судопроизводство инквизиции. Во Франции Тулузский собор 1229 г. постановил, что всякий дом, в котором был принят еретик, подлежал разрушению. Место, на котором были построены сносимые дома, считалось проклятым и должно было служить для свалки нечистот; однако материалы, оставшиеся от ломки, могли быть употреблены на благотворительные цели, если только в приговоре инквизиции не говорилось об их окончательном истреблении. Этот приговор препровождался приходскому священнику, который был обязан объявлять его во время обедни три воскресенья подряд.
Со временем инквизиторы присвоили себе право давать разрешение на возведение построек на проклятых участках и извлекали из этого крупные доходы.
Самая суровая кара, которую могли наложить сами инквизиторы, было тюремное заключение. Согласно учению инквизиции, это, в сущности, не было наказанием, но средством для кающегося, подвергнув себя посту на воде и хлебе, получить отпущение своих прегрешений. Разумеется, это духовное наказание налагалось только на обратившихся. Еретик, упорствовавший в своем непослушании, упрямо отказывавшийся сознаться в ереси и твердивший о своей невиновности, не мог быть подвергнут этому духовному наказанию: его передавали в руки светской власти, т. е. в руки палача.
В силу буллы Григория IX «Отлучение от Церкви» от 1229 г. всех, которые отказывались от заблуждений из страха смерти, следовало подвергать пожизненному заключению. То же предписал и Тулузский собор, добавив, что нужно помешать обратившимся против воли совращать других. Равеннский эдикт Фридриха II 1232 г. надолго узаконил это правило. Арльский собор 1234 г. обращал внимание на постоянное возвращение к ереси обращенных силой и предлагал епископам строго наблюдать за тем, чтобы к ним применялось пожизненное тюремное заключение. В то время еретики-рецидивисты не считались еще погибшими безвозвратно; их не передавали светской власти, но пожизненно заключали в тюрьму. Инквизиция это правило применяла с неумолимой энергией, объявляя его особой милостью по отношению к людям, потерявшим всякое право на снисхождение. Исключений здесь не допускалось. Нарбоннский собор 1244 г. точно объявил, что, если нет особой папской индульгенции, не следует никогда мужа щадить ради жены, жену ради мужа, отца ради детей, единственным кормильцем которых он был; ни возраст, ни болезнь не должны были влиять на смягчение приговора. Всякий, кто не являлся в течение срока милосердия, чтобы сознаться и выдать своих единомышленников, должен был подвергнуться этому наказанию, которое всегда должно быть пожизненным. Ввиду широкого распространения ереси в Лангедоке в самом начале XIII в. толпа пропустивших срок милосердия стала так велика, что епископы заявили о невозможности кормить такую массу заключенных и даже о невозможности найти достаточно камней и извести для сооружения тюрем. Тогда было предписано инквизиторам отсрочить до решения папы заключение обращенных, кроме предупреждения случаев закоснелости в грехах, вероотступничества и бегства. Но уже в 1246 г. собор в Безье предписал заключать в тюрьму всех, пропустивших срок, советуя, впрочем, смягчать наказание в тех случаях, когда оно грозило смертью родителям или детям. Таким образом, тюрьма сделалась обычным наказанием для всех, за исключением упорствующих еретиков, которых сжигали. Только одним решением, объявленным в Тулузе 19 февраля 1287 г., было приговорено к этому наказанию от двадцати до тридцати кающихся, которых пришлось временно запереть в частные дома, пока не освободились для них места в тюрьме. Тулузская инквизиция с 1246 по 1248 г. осудила сто двадцать семь лиц на пожизненное тюремное заключение, шесть на десять лет, шестнадцать на неопределенный срок, как пожелает Церковь; несколько позднее, согласно решению Нарбоннского собора, стали приговаривать к тюрьме всегда пожизненно.
Было два вида тюремного заключения: строгое и смягченное. Но в обоих случаях заключенный получал только хлеб и воду, содержался в одиночной камере и не мог ни с кем иметь сношений из боязни, чтобы его не совратили другие или он других. Заключенный в карцер содержался в ножных оковах в узкой и темной камере; часто он был прикован еще к стене. Это наказание налагалось на тех, преступные деяния которых носили характер соблазна, или на тех, кто нарушал присягу, дав неполное признание; но это всецело зависело от усмотрения инквизитора. Если виновные принадлежали к монашескому ордену, то обычно наказание хранилось в тайне, и осужденный заключался в тюрьму монастыря своего ордена; для этого при монастырях обычно имелись одиночные камеры, в которые никто не должен был входить, никто не должен был видеть заключенных, пищу ему передавали через специальную форточку. Это была могила живых. Лишь после 1350 г. было предписано настоятелю монастыря два раза в месяц навещать и утешать заключенного; последнему же предоставлялось право просить, чтобы два раза в месяц его навещали монахи.
Тюремное начальство не заботилось о том, чтобы облегчить участь заключенных. Для еретиков добиться лучшего обращения было почти невозможно, так как имущество их было конфисковано и было опасно всякое малейшее проявление участия к ним.
Огромное число узников вследствие энергичных действий инквизиции уже в начале XIII в. выдвинуло трудный вопрос о постройке и содержании новых тюрем. В 1254 г. собор в Альби решил, чтобы владельцы конфискованных имений выделяли средства на помещение в тюрьмы и содержание там своих предшественников по владению, а если еретики окажутся без средств, то города или сеньоры, на земле которых они были захвачены, были обязаны под страхом отлучения от Церкви нести расходы по содержанию «своих» еретиков в тюрьме. Святой Людовик, король Франции, извлекавший большие доходы от конфискаций, в 1233 г. взял на себя содержание тюрем в Тулузе, Каркассоне и Безье. В 1246 г. он приказал своему сенешалю передать в распоряжение инквизиторов подходящие тюрьмы в Каркассоне и Безье и доставлять заключенным их ежедневную порцию хлеба и воды. В 1258 г. он предписал своему каркассонскому сенешалю немедленно окончить постройку тюрем. В 1304 г. субсидия от короля на пищу каждого заключенного была три денье в день.
При постройке тюрем, естественно, старались сократить расходы и сэкономить место, нисколько не заботясь о здоровье и удобствах их подневольных жильцов. Папские инструкции гласили, что они должны состоять из маленьких одиночных камер без воздуха и света. В течение долгих лет в них находились несчастные кающиеся, участь которых оказывалась гораздо хуже, чем короткая агония костра. Они были предоставлены всецело на произвол тюремщиков; жалоб их никто никогда не слушал; если заключенный жаловался на какой-либо акт насилия, то его даже клятвенное показание устраняли с пренебрежением, тогда как всякое слово тюремных служителей принималось на веру.
Конец страданиям заключенных приносила смерть, вызываемая ужасной грязью, в которой им приходилось гнить. Смертность в этих тюрьмах была огромна. В аутодафе часто объявлялись приговоры по делам заключенных, умерших до окончания процесса. На ауто в 1300 г. упоминается десять лиц, умерших уже после того, как они созналась в ереси, но раньше решения их дела; в ауто 1319 г. было восемь подобных случаев. В ауто 1326 г. имеются приговоры по делу четырех умерших; к ауто 1328 г. пяти. Тюрьма, вполне естественно, была мерой наказания, которую чаще всего применяли инквизиторы.
Нужно еще отметить одну особенность инквизиторских приговоров: они всегда оканчивались стереотипным выражением, оставлявшим за инквизитором право по произволу изменять, смягчать, увеличивать и возобновлять наказание. Уже в 1241 г. Нарбоннский собор предписал инквизиторам оставлять всегда за собой это право, и с течением времени это вошло в неизменное правило. В 1245 г. Иннокентий IV предоставил инквизиторам, действовавшим совместно с епископами, право изменять наложенное наказание. Однако ни епископ, ни инквизитор не мог отменить наказание; эта привилегия принадлежала одному только папе: ересь была таким неизгладимым преступлением, что только представитель Бога обладал властью снять это пятно.
Право смягчения наказания применялось часто; им пользовались, чтобы добиться от кающихся более точных показаний как доказательства их чистосердечного раскаяния, а, возможно, также и для того, чтобы чрезмерно не наполнять тюрем. В 1.328 г. одним постановлением были освобождены двадцать три заключенных в Каркассоне; тюрьма была заменена им ношением крестов, паломничествами, бичеванием и другими духовными подвигами. При подобных условиях жизнь на свободе была невыносимой и смерть являлась освободительницей.
Как в приговорах обвинительных, так и в смягчающих наказание за инквизитором оставлялось право изменения и восстановления наказания с указанием или без указания оснований к тому. Инквизиция никогда не выносила помилования. Собор в Безье 1246 г. и Иннокентий IV в 1247 г. объявили инквизиторам, что в тех случаях, когда они освобождали заключенного, они должны были предупредить его, что при первом поводе к подозрению он будет наказан без всякой жалости, и должны были оставить за собою право заключить его снова в тюрьму без всякого суда и следствия, если этого требовали интересы Церкви. Эти условия сохранялись в обрядниках и предписывались руководствами. Кающийся должен был знать, что свобода, предоставленная ему, всецело зависит от усмотрения и произвола судьи, который во всякое время мог опять заключить его в тюрьму и заковать в цепи; в своем клятвенном отречении он ручался своею личностью и всем своим имуществом, что явится по первому зову.
Когда дело было выдающейся важности, например поимка видного ученого еретика, то инквизиторы могли обещать полное и совершенное помилование его ученикам, если они выдадут его. Если были наложены особые духовные епитимьи, то инквизитор мог, по их выполнении, объявить кающегося человеком хорошей жизни и честных нравов; но это никоим образом не уничтожало первоначальный приговор. Снисходительность инквизиции никогда не доходила до прощения; она лишь давала отсрочку, и человек, над которым был уже раз вынесен приговор, мог всегда ожидать, что его позовут и снова подвергнут или прежнему, или еще более тяжелому наказанию. Вся жизнь его отныне принадлежала молчаливому и таинственному судье, который мог разбить ее, не выслушав его оправданий, не объяснив причин. Он навсегда отдавался под надзор инквизиционной полиции, состоявшей из приходского священника, монахов, духовных лиц и всего заседания, которым приказывалось доносить о всяком упущении, сделанном им при исполнении наложенной на него епитимьи, о всяком подозрительном слове или действии – за что он подвергался ужасным наказаниям как еретик-рецидивист. Ничего не было легче для личного врага, как уничтожить подобного человека, и сделать это было тем легче, что доносчик знал, что имя его будет сохранено в тайне. Было ли положение жертв костра и тюрьмы более печально, чем участь множества мужчин и женщин, ставших рабами инквизиции после того, как она пролила на них свое лицемерное милосердие? Вся жизнь их была сплошным беспокойством, и не было у них надежды на отдых.
Даже смерть жертв инквизиции не отнимала у нее оружие. Не раз выкапывался прах тех, кого своевременная смерть, казалось, отдала уже на суд Божий. Если обвиняемый умирал после сознания и раскаяния, то он все равно должен был понести то наказание, которое понес бы, оставаясь в живых; и выкапывание тела из земли заменяло заключение в тюрьму; живые наследники его должны были подвергнуться легкой епитимьи, которую можно было заменить деньгами. Но если обвиняемый умирал, не принеся признания, и если были указания на его ересь, то он попадал в число нераскаявшихся еретиков, останки его выдавались в руки светской власти, а имущество конфисковалось. Если светские власти колебались вырыть тело, то их принуждали к этому угрозой отлучения от Церкви.
Такую же ярость испытывали на себе и потомки несчастных. Измена, по римскому праву, наказывалась с неумолимою жестокостью; а ересь– измена Богу. В Кодексе Юстиниана дети виновного в измене признавались не имеющими права занимать общественные должности и наследовать по боковой линии. Тулузский собор 1229 г. объявил не имеющими права избрания на должности даже тех из еретиков, кто обратился добровольно; Фридрих II применил к ереси римский закон и распространил его действие и на внуков виновного. Это увеличение наказания было весьма охотно принято Церковью. Однако Александр IV в булле 1257 г., много раз повторявшейся его преемниками, пояснил, что это не распространялось на те случаи, где виновный дал публичное покаяние и выполнил епитимьи; Бонифаций VIII отменил ограничение прав для внуков с материнской стороны. Измененный таким образом закон Фридриха сохранился в каноническом праве.
Инквизиция так сильно нуждалась в содействии светских чиновников, что до известной степени ее можно извинить, что она старалась лишать права службы тех, кто мог бы иметь известную симпатию к еретикам. Но так как не было установлено никакой давности, чтобы остановить ее в процессах против мертвых, то нельзя было остановить и ее наступательные действия в отношении наследников еретиков. Архивы инквизиции сделались, таким образом, источником бесчисленных притеснений, направленных против тех, кто давно или недавно имел связь с еретиком. Никто не мог быть спокоен, что в один прекрасный день не откроют или не сфабрикуют какого-нибудь свидетельского показания против кого-либо из его родителей или предков, давно уже умерших; этого было бы достаточно, чтобы навеки разбить его карьеру. В этом случае к королевской власти прибегли, чтобы она отрешила чиновника от должности; но учение инквизиции предоставляло и самому инквизитору право удалять со службы любое лицо, отец или дед которого был еретиком или сторонником ереси. Поэтому, когда кающийся выполнял наложенную на него епитимью, то дети его часто из предосторожности брали об этом официальное удостоверение, которое впоследствии давало им возможность получать службу. В отдельных случаях инквизитор имел право снимать с наследников еретиков тяготевшее над ними ограничение гражданских прав; но, как и в вопросе об епитимьи, это было лишь отсрочкой наказания, которую во всякое время можно было отменить по первому подозрению в симпатиях к ереси. Благодаря этому бывали и такие случаи, что потомки еретиков занимали даже духовные должности. Если кто-либо был посвящен в священники и получил бенефиций до осуждения своих родителей, то закон не имел обратной силы.
В основе всех приговоров инквизиции лежал приговор об отлучении от Церкви, на котором зиждилось все ее могущество. В теории духовные наказания, налагаемые инквизицией, были тождественны с теми, при помощи которых всякое облеченное властью духовное лицо могло лишить человека вечного спасения; но духовенство так осрамилось, что анафема в устах священника, которого не боялись и не уважали, потеряла, по крайней мере в рассматриваемую эпоху, в значительной степени свое значение. Наоборот, духовные наказания инквизиции были оружием в руках небольшого числа энергичных людей, и никто не мог безнаказанно относиться к ним без уважения; к тому же светские власти были обязаны изгонять всякого, как еретика или сторонника ереси, кого отлучал от Церкви инквизитор, и конфисковать его имущество. Не без основания инквизиторы хвалились, что их проклятие по четырем причинам могущественнее проклятия остального духовенства: они могли заставить светскую власть признать отлученного вне закона; они могли принудить ее конфисковать его имущество; они могли осудить как еретика любого, который оставался отлученным в течение года; и, наконец, они могли отлучать всякого, кто стал бы поддерживать сношение с отлученным. Таким образом инквизиция добилась, чтобы беспрекословно слушались ее призыва и подчинялись налагаемым ею наказаниям. Для приведения в исполнение своих приговоров она пользовалась услугами светской власти; она устраняла все законы и статуты, которые противоречили ее судопроизводству; она подтверждала, что царствие Божие, представляемое ею на земле, было выше царств земных. Из всех отлучений самым страшным было отлучение инквизитора, и самые отчаянные не решались бравировать этим, так как они знали, что за это им грозила в близком будущем ужасная месть.
Глава 13. КОНФИСКАЦИЯ
Хотя конфискация не была прямым делом инквизиции, она сама собой вытекала из ее приговора.
Король Рожер, занимавший престол Сицилии в течение первой половины XII в., первый предписал конфискацию имущества всех, кто отпал от католической веры и исповедовал восточное православие, магометанство или иудейство. Но Церковь ввела это во все законодательства Европы как наказание за ересь. Большой Турский собор в 1163 г. предписал всем светским князьям заключать еретиков в тюрьму, а имущество их конфисковать. Луций III попытался в своих Веронских декреталиях 1184 г. повернуть в пользу Церкви все конфискуемое имущество еретиков. Иннокентий III в своем эдикте объявил: «Мы повелеваем, чтобы имущества еретиков подвергались конфискации; чтобы эта мера применялась светскими князьями под страхом наложения на них духовных наказаний. Имущества еретиков, отрекающихся от ереси, не будут возвращены им, если только не будет благоугодно кому-нибудь сжалиться над ними… Должны быть отсечены от Христа и лишены имущества те, кто уклоняется от веры и оскорбляет Сына Божьего».
Когда духовные суды объявляли кого-либо еретиком, то конфискация делалась сама собой; наложение запрещения на имущество было на обязанности светской власти, и только от нее одной зависело пощадить имущество виновного. Князья стали пополнять свои скудные доходы при помощи конфискаций.
Отношение инквизиции к конфискованным имуществам в разные эпохи и в разных странах было различно. Во Франции право на собственность, раз вина была установлена, переходило фиску; инквизитор там только устанавливал степень виновности подсудимого. Приговоры французской инквизиции вообще не упоминают о конфискации. В осуждениях, вынесенных против отсутствующих и умерших, иногда указывалось на конфискацию.
Как только подозреваемый в ереси вызывался на суд или задерживался, светские власти накладывали секвестр на его имущество и сообщали об этом его должникам. Когда выносился приговор, состоялось осуждение, инквизитор извещал о нем власти; среди обязанностей инквизитора была и обязанность наблюдать за тем, чтобы конфискация была произведена.
В Италии буллой Иннокентия IV от 1252 г. предписывалось властям Ломбардии, Тревизо и Романии конфисковать имущество всех отлученных от Церкви, как еретиков или как помощников или сторонников еретиков; признавалось, что право конфискации принадлежало светской власти. Но скоро, согласно буллам «Для искоренения» Иннокентия IV и Александра IV, инквизиция получила в ней прямой интерес. В обвинительных актах итальянской инквизиции конфискация предписывалась официально, и светские власти не вмешивались, если только их не просили об этом.
В первой половине XIII в. в некоторых городах итальянские инквизиторы не только предписывали, но и контролировали конфискации, а уже с XIV в. инквизиторы становятся полными хозяевами всего получаемого от конфискаций.
В Германии Вормсский сейм (1321) ересь уравнял с изменой и установил, что аллодиальные земли и личные владения осужденного еретика поступают его наследникам, а ленные поместья переходят в пользу сюзерена. Если он был рабом, то его имущество поступало во владение его господина; но из общей суммы удерживали расходы по приведению в исполнение казни на костре и судебное вознаграждение сеньора-судьи. В 1323 г. Майнцский собор постановил, чтобы имущество обвиняемых оставалось неприкосновенным до окончания суда, и грозил отлучением от Церкви всякому, кто до этого времени захватил бы это имущество или откупил бы его. Когда император Карл IV сделал попытку ввести инквизицию в Германии (1369), то он приказал третью часть конфискованного имущества отдавать инквизиторам.
Даже в тех государствах, где инквизитор номинально не имел никакой доли в конфискации, он был полным хозяином имущества обвиняемого. Приговор инквизиции подлежал беспрекословному исполнению светскими властями. Собор в Безье в 1233 г. настаивал, чтобы она применялась и против обратившихся и воссоединенных с Церковью, которые были осуждены на ношение крестов; соборы в Безье 1246 г. и Альби 1254 г. требовали ее применения во всех случаях, когда инквизиторы присуждали к тюрьме. Тюрьма и конфискация были нераздельны. Иногда даже в приговорах относительно умерших говорится, что они признаны достойными тюремного заключения с единственной целью: лишить их наследников права наследования. В конце концов юристы условились признавать тюремное заключение как условие, достаточное для конфискации имущества.
Людовик Святой, король Франции, своими указами 1229 и 1259 гг. предписал конфисковать имущество не только тех, кто был присужден к тюрьме, но и тех, кто не являлся по вызову, и тех, в домах которых были обнаружены еретики; его чиновники должны были узнать от инквизитора до окончания суда, заслуживает ли обвиняемый тюрьмы, и, в случае утвердительного ответа, наложить арест на его имущество. Наследники восстанавливались во владении имуществом в тех случаях, когда еретик заявил готовность обратиться раньше вызова инквизиции или когда он вступил в монашеский орден. Конфискация широко применялась повсеместно, и с неумолимой жестокостью одно ничтожное проявление ереси лишало человека права собственности. Даже в конце XV в. было общим правилом, что конфискация была вполне законна, тогда как возврат имущества воссоединенному с Церковью еретику являлся актом милосердия, требовавшего особого мотивированного постановления.
В начале преследователи подвергали конфискации все. Но в 1237 г. Григорий IX признал, что приданое жен-католичек должно в известных случаях оставаться неприкосновенным, а в 1247 г. Иннокентий IV повелел приданое возвращать женам, хотя ересь и не обусловливала развода. Людовик Святой принял это правило в 1258 г. Однако по каноническому праву жена не могла ничего требовать назад, если во время своего выхода замуж она знала о ереси своего мужа, а по мнению некоторых юристов, даже и в том случае, если она, узнав об ереси своего мужа, продолжала жить с ним и, наконец, если не донесла об этом в сорокадневный срок после обнаружения ереси мужа. А так как дети лишались права на наследство, то жена еретика сохраняла свое приданое только при жизни, а после ее смерти оно поступало в фиск.
Луций III пытался отдать Церкви исключительное право на доходы от конфискации. Иннокентий IV в своей булле «Для искоренения» 1252 г. одну треть предоставлял местным властям, одну треть– служителям инквизиции, а остальное– епископу и инквизитору с тем, чтобы они употребляли эти деньги исключительно на розыск еретиков. Эти предписания были сохранены Александром IV и Климентом IV. Александр IV в 1260 г. приказал инквизиторам Рима и Сполето продать конфискованное у еретиков имущество и вырученные деньги передать самому папе; а в 1261 г. Урбан IV получает триста двадцать ливров, вырученных от конфискаций в Сполето.
Со временем в Италии установился обычай распределять выручку от конфискаций между общиной, инквизицией и папской канцелярией; епископы, по словам Бенедикта XI, присваивали лично себе часть, которая полагалась им на преследование ереси. Распределение доходов, предписанное папой, обыкновенно не соблюдалось; инквизиторы захватывали себе все, тратили доходы от конфискаций на себя лично или раздавали их своим родственникам. В архивах Флоренции сохранилось несколько документов XIV в., подтверждающих это.
В Неаполе с первого дня установления инквизиции король Карл Анжуйский обеспечил за собой исключительное право на конфискации. В 1290 г. Карл II приказал, чтобы штрафы и конфискации распределялись на три части; одна в пользу королевского фиска, другая – на пропаганду веры и третья – на инквизицию. Исключение было сделано для феодальных владений, которые должны были идти короне или их непосредственному сюзерену.
В Венеции соглашение 1289 г. между синьорией и Николаем IV, которым республика признавала введение инквизиции, оговаривало, что все доходы святого трибунала будут находиться в распоряжении государства. В Пьемонте конфискации делились между государством и инквизицией, пока во второй половине XV века Амедей IX не присвоил их все фиску, предоставив инквизиции лишь оплату расходов по ведению дела.
Но уже в первой четверти XIV столетия Церкви в Италии, удалось присвоить себе все доходы от конфискаций, которые равномерно делились между инквизицией и папской канцелярией. Только в 1438 Г. Евгений IV предоставил итальянским епископам свою часть. Там, где епископы были в то же время светскими владыками, конфискации распределялись между инквизицией и ними.
В Испании было правило, если еретик являлся лицом духовного звания или светским вассалом Церкви, то Церковь получала его конфискованное имущество; в остальных случаях оно поступало светскому сеньору.
Светская власть и без напоминаний Церкви спешила завладеть имуществом своих подданных-еретиков. В 1246 г. евреев Каркассона, как иноверцев, равных еретикам, заключили в тюрьму. В июле Людовик писал своему сенешалю, что он хочет извлечь из этих евреев как можно больше денег, поэтому их должно держать крайне строго; король просит сообщить ему, какую сумму можно выжать с них. В августе он пишет, что предложенная ими сумма мала, и поручает сенешалю вымучить с них столько, сколько можно.
В начале XIII в. в Лангедоке инквизиция вначале пыталась присвоить себе доходы от конфискаций, чтобы употребить их на постройку и содержание тюрем. Но быстрое распространение королевской юрисдикции во Франции в течение второй половины XIII в. сделало короля почти исключительным обладателем конфискованных имений. В 1229 г., после долгих споров с Церковью, право короля на конфискованное имущество было признано неоспоримым.
Дело преследования еретиков было не менее прибыльно для кармана и епископов. В 1247 г. епископ Бертран в Альби получил от Иннокентия IV особые инквизиторские полномочия, а в следующем году он продавал осужденным и раскаявшимся еретикам смягчение наказаний. Эта торговля была очень прибыльна, но и тогда незаконна. В 1460 г. во время преследования колдунов Арраса их движимое имущество было присоединено к богатствам епископа, а их недвижимое имущество было конфисковано в пользу фиска.
Лишь только подозреваемый вызывался инквизицией, как на его имущество накладывался секвестр, и его должников уведомляли, чтобы они уплатили королю все должные ими суммы. В Неаполе королевский указ об аресте шестидесяти девяти еретиков в 1269 г. приказывал сразу отобрать их имущество в пользу короля. Чиновники уже заранее были так убеждены, что суд окончится осуждением обвиняемых, что часто, не дожидаясь окончания дела, производили конфискацию. Это злоупотребление восходит к первым дням инквизиции. В 1237 г. Григорий IX запретил его. В 1246 г. собор в Безье снова осудил это злоупотребление, разрешив, однако, конфискацию до осуждения в том случае, если подсудимый заведомый еретик. В 1259 г. Людовик Святой смягчил суровые приемы конфискации, он косвенно запретил поспешное наложение ареста на имущество, предписав своим чиновникам во всех тех случаях, когда обвиняемый не был присужден к тюрьме, допускать его или его наследников ходатайствовать о снятии секвестра; но если имелось подозрение в ереси, то имущество могло быть возвращено только при условии представления залога в обеспечение того, что оно перейдет к государству в случае, если в течение пяти лет подозрение в ереси будет доказано; до того же времени оно не могло быть отчужденно. Однако продолжали по-старому производить предварительные конфискации, так что Бонифаций VIII внес в каноническое право новое запрещение этого хищничества. Но инквизиция настолько распространила идею, что всякий обвиняемый виновен и что из ее рук нельзя выскользнуть, что по-прежнему чиновники действовали по простому подозрению.








