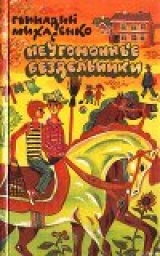
Текст книги "Неугомонные бездельники"
Автор книги: Геннадий Михасенко
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 11 страниц)
СИЛЬНЕЕ ЗАБОРА
Приехала, наконец, Нинка Куликова.
Мы тут же затянули ее на крышу, рассказали о «Союзе Чести» и вручили билет. Нинка хотела ответить что-то, набрала воздуха, но вдруг у нее блеснули слезы, и она ткнулась в плечо сидевшего рядом Славки. Славка побледнел, а мы опешили. Но Нинка тут же вскинула голову и, вытирая глаза, твердо проговорила, что надо, надо немедленно ставить концерт, что с такой силой не концерт выйдет, а фейерверк и что почему мы сами не дошли до этой мысли.
И весь «Союз» занялся подготовкой.
Я решил, по давнему совету Томки, пройтись по сцене на руках и теперь до тошноты тренировался дома. Даже сейчас, после обеда, я встал на руки и, чувствуя, что вот-вот лопну, дошел до дезкамеры. Там отдышался, достал шахматы, с радостью – давно не играл – раскинул доску на своей кровати и открыл Шумовский задачник. Длинные и многофигурные задачи я не любил – это значило, наверно, что не быть мне шахматистом, но что бы это ни значило – не любил и все. Я выбрал «Узника», такую же трехходовку, как и решенный «Меч Дамоклеса». Фигур тут было многовато, но стояли они интересно белые – двумя клетками, а черные король с ферзем сидели в этих клетках, как в тюрьмах. И опять стихи. Черный король не то пел, не то кричал:
Отворите мне темницу,
Дайте мне сиянье дня,
Черноглазую девицу,
Черногривого коня,
а белый конь перебивал его, намекая на ход решения:
Ни коня вам, ни девицы;
Право, нужны нам самим…
А сиянье дня – извольте,
Мы при нем вам мат дадим!
Только я задумался – явился Борька, сроду не даст подумать. Прямо из кухни он кинул мне большущий огурец. Не поймай я его, он убил бы котенка, который лежал возле доски, полузасыпанный фигурами. Борька подошел, взял котенка за шиворот, приподнял и спросил:
– Фамилия?
– Осторожней. Я из него артиста делаю, а ты цапаешь, как живодер. Он еще без фамилии.
– Хочешь – назову?
– Давай.
– Вуф!.. Это когда отец приходит с работы очень усталый, он садится за стол и говорит: вуф!.. Самое имя для артиста. У них всегда не имена, а фигли-мигли. Представляешь – объявляют: «Выступают Вов и Вуф!» Аплодисменты, конечно.
Я качнул головой.
– Не пойдет. Какая в нем усталость – он же еще котенок?.. Ему еще сто лет до усталости!
– Жаль, но других имен нет. – Борька опустил котенка в одну из тюремных клеток на шахматах, и тюрьма рассыпалась. – Но есть другие идеи.
Я понял, что он не зря пришел, сдвинул с доски все и, собирая фигуры, спросил:
– Какие?
– Ты видел, какие уже ранетки у тети Зины?
– Видел. А ты видел новый высокий забор с колючей проволокой наверху?
– Разве дело в заборе?
– А в чем?
– В приказе!
– Да?.. Тогда приказываю тебе сегодня же нарвать ранеток, рядовой Чупрыгин!
– Почему мне? «Союзу Четырех!..» Это будет наша военная операция! А то мымры исчезли, бить некого, так хоть на ранетках душу отведем.
Борька был прав. Я тоже над этим думал. Мы слишком увлеклись общими делами. Правда, эти общие дела были и наши, но все же хотелось чего-то чисто своего, для чего и создавался наш «Союз Четырех».
– Правильно, Боб, надо, – сказал я. – Прикажу! Только – молчок!.. Без двадцати три. Айда на сбор. Ты что к концерту готовишь? Сейчас ведь Нинка спросит.
– Да мы со Славкой одну штучку придумали, не знаю только, успеем ли.
– А то вызови кого-нибудь на сцену, например, тетю Шуру-парикмахершу, и нарисуй. Линейку возьми побольше – у тети Шуры физиономия шире Славкиной.
Борька присвистнул:
– Отстал ты. Я уже без линейки рисую.
Нинка была на крыше. Она сидела на какой-то тряпке, подобрав ноги, с книгой и тетрадкой на коленях и нараспев говорила, записывая за собой:
– Ну, хоть кто-нибудь протяните мне руку, лапу или крыло, и я того озолочу! Скорей, люди, звери, птицы! Спасите меня!.. Но куда вы уходите, улетаете, уползаете?.. Я же умираю, несчастные вы твари!.. А, мальчишки, привет! Сейчас… Так, я же умираю. Что он еще может сказать?..
Я подсел к ней, заглянул в тетрадку и спросил:
– Ты что делаешь?
– Пьесу пишу.
– То есть как, пьесу пишешь? – не понял я.
– А то есть так: смотрю в книгу, читаю, где что делается, и пишу… Мы будем ставить «Кощея Бессмертного». В сказке мало разговора, а на сцене нужно все время говорить. Хочешь не хочешь, писать надо.
Я вскинул брови, а Борька спросил:
– Прозой пишешь?
– Конечно. Для стихов надо особый талант, а у меня его нету, и вообще… – медленно проговорила Нинка, просматривая написанное.
Борька подмигнул мне и сказал:
– А такие стихи тебе не подойдут:
Разлилась река
Во все стороны,
Зырят свысока
Злые вороны.
Нинка задумалась.
– Могут подойти. В сцене со щукой, когда Иван-царевич подходит к реке.
– Вставляй.
– А чьи стихи?
– Вовкины.
Нинка быстро обернулась ко мне и сделала огромные глаза:
– Правда, Вовк?
– Правда.
– Ужас, что делается! Тогда на, составляй пьесу! – И она хлопнула мне на колени и книгу, и тетрадь.
– Да ты что! – испугался я. – У меня тройка по сочинению! Я в прозе – ни бум-бум!
– Пиши стихами.
– Нет-нет, это я случайно.
– Врет, у него много стихов, – ввернул Борька.
– Где много? Десять строчек за месяц. Нет-нет! – я замотал головой и, сунув Нинке тетради и книгу, перемахнул от нее за конек.
Нинка вздохнула:
– Ну, ладно, давай тогда вместе писать, а то у меня ума не хватает. Вот, например, такое место. Кощей в сказке умирает обязательно, когда Иван-царевич отламывает у иголки конец, а я хочу, чтобы необязательно, а чтобы мог остаться живым, если кто-нибудь его пожалеет. Понимаешь?.. Но его никто не жалеет, и он умирает. Так будет, по-моему, драматичнее, а?.. Я уже прикинула, но чувствую – слабо, – и она закусила карандаш.
Полуслыша и полупонимая, я смотрел против солнца на ее опушенное, как вербный бутон, лицо и удивлялся.
– Значит, и «Царевну-лягушку» ты написала? – спросил Борька, растягиваясь у Нинкиных ног.
– Я.
– А ты говоришь – таланта нет. Талант!
– Нет. Я это не люблю – писать, я люблю ставить. Так что, мальчишки, помогайте.
Тут задрожала лестница, и через пять минут, спустившись ниже, к тополям, «Союз Чести» сидел передо мной в полном составе, даже Томка не опоздала.
Я начал:
– Мы собирались, чтобы наметить, как провести операцию «Концерт».
– Почему операцию? – спросила Нинка. – Просто концерт.
– У нас не принято «просто», – ответил я. – У нас только операции.
– Ничего подобного! – упрямее возразила Нинка. – Проводите на здоровье свои операции «Огурцы», «Подсолнухи» и что угодно, а концерт – это концерт, а не операция.
– Ну, тогда сама командуй, – сказал я.
– Итак, мое слово.
Она объявила, что в первом отделении пойдет пьеса «Кощей Бессмертный», которая является расширенным вариантом «Царевны-лягушки», но в которой теперь будут участвовать все восемь человек, Томка ойкнула и заверещала, чтобы ее не трогали, что она застыдится, перепутает слова и все испортит и что она лучше займется нарядами. Вот дура! Нинка сердито уставилась на нее, потом что-то яростно вычеркнула в своей тетрадке, но тут же задумалась и, мотнув головой, крикнула, что нет, нельзя больше сокращать действующих лиц, что она и так уже сократила Юркино, а две роли одному – жирно будет, хватит, надо, в конце концов, сделать настоящий спектакль, так что Томке придется играть. Томка, глуша нытье, уткнулась в колени, а Нинка стала распределять героев. Мне она дала Ивана-царевича, но велела подстричься, а то, сказала, с такими космами не царевичей играть, а медведей, но медведь у нас уже есть – и показала на Славку. Мы грохнули. В общем, все получили роли и перешли ко второму отделению. Каждый нашел себе номер. Моя ходьба на руках превратилась в «гимнастический этюд», а Славка с Борькой взялись подготовить номер с двухпудовой гирей.
Через полчаса программа была готова, и Нинка облегченно вздохнула:
– Ну, слава Богу!.. М-м, какой будет концертище! Завтра никаких собраний – репетиция! Поняли, мальчишки?.. Вовк, а ты пойдем со мной, писать будем!
– Ага, – ответил я. – Минут через десять приду.
Мы проводили девчонок до лестничных рогулек, как до калитки, сказали, что у нас еще есть дельце и снова сбились в кружок под тополиным шатром.
Я заглянул всем в глаза и произнес:
– Совершенно секретно! Все тут свои? Покажите билеты! – Пацаны вытащили уже помятые и замаранные книжечки. – Хорошо. Объявляю приказ по «Союзу Четырех»!.. Сегодня вечером совершить налет на ранетки Ширминых!
– Есть! – сказал Борька.
– Есть! – мягко стукнул зубами Славка.
А Генка отвесил челюсть.
– Разве теперь можно? – спросил он.
– Слушай, баянист, это в музыкальной школе ты будешь спрашивать, какими пальцами кнопки давить, а тут – приказ, понял? – жестко выговорил Борька.
– А я ничего, я только думал, что у нас такого больше не будет, – неуверенно оправдывался Генка.
Я уж хотел выручать его, мол, не хочешь – не надо, но решил, что не стоит ослаблять гайки – это и «Союзу» на пользу, и самому Генке.
Борька доложил, что обстановка очень сложная и старые способы не годятся: ни перелезть через забор, ни встать на него – высокий и шаткий.
– Но мы должны быть сильнее забора! – заключил Борька. – Думайте!.. Думай, Генк, ты вон как просто с камнем придумал.
– Сломать, – сказал баянист.
– Нельзя, – отклонил я. – Такая простота не пойдет. Еще думай.
А мне представились сразу ножницы с длинными палками и с желобом, по которому отстригаемые ранетки скатываются прямо в карман или в подол.
Славка пошатал ногой бортик водостока и сказал:
– Есть!
– Ну-ка, – встрепенулись мы, зная, что Славка впустую не бросает слова.
– С крыши! – сказал он. – Упремся вот так ногами и спустим на веревке.
Какой-то момент мы сидели замерши, потом разом посмотрели вниз. Метров пять – косточек не соберешь. Но идея – будь здоров!
– Да-а, Славк, – протянул я. – Ход конем!
– А кого спустим? – спросил Генка.
– Наверно, самого легкого, – ответил Славка, и мы давай ощупывать друг друга взглядами, но Славка сказал: – Встаньте-ка, – мы встали, он по очереди приподнял нас за локти и заключил: – Самый легкий Генка, потом Борька.
– Я? – ужаснулся Генка.
– Да.
Не теряя времени я распорядился:
– Значит, спускаем Генку, а Борька – дублер!
– На случай, если Генка оборвется? – усмехнулся Борька.
– На случай, если заболеет.
– Я ему заболею!
Ошеломленный Генка хлопал, хлопал глазами, потом встал на четвереньки, подполз к самому краю крыши и уставился в бездну, куда ему выпало низвергнуться. Не найдя там ничего утешительного, он отполз и вдруг оживленно сказал:
– Я вам лучше яблок принесу, вот таких!.. Посылка опять пришла. И по горсти урюка вместо этой кислятины! – Но мы молчали. Глаза его потухли, он сник, уловив, что поблажки не будет, и, вздохнув глубоко, до пяток, произнес: – Конечно, я спущусь, но зачем?..
Да, Генке трудно было понять нашу тягу к риску, а нам еще труднее объяснить, потому что мы сами не понимали ее, а чувствовали.
Ранетки Ширминых были, и правда, кислые, хоть и крупные, и мы их не то, что рвали, а так… Смотришь, смотришь на садик – вот листики появились, вот стало белым-бело, вот усыпало ветки зелеными плодами, вот они покраснели, и вдруг до жути захочется попробовать, что же из этого всего получилось. Хапнешь горсть-другую, пожуешь-пожуешь, выплюнешь и забудешь до следующего лета. А там опять зазудит… А уж когда такие заборы ставят, то прямо так дразнят: не достанешь, не достанешь!.. Достанем!
Подготовку я сделал один. Сложил вдвое веревку, сплел ее, распилил пополам биту из своего полурастерянного городочного набора и половинки удавкой закрепил по концам веревки. Потом смотал ее аккуратными кольцами, сунул в хлебную сумку и вместе с сумкой припрятал на крыше между трубой и чердачным ходом.
А когда начало темнеть, мы прямо с крыльца Куликовых, где играли в сплетни, отправились на операцию.
Обогнув дом улицей и шмыгнув в воротца, мы прилипли к заборным планкам. Ширмины жили в крайней квартире, и два их окна глядели в садик. Из кухонного свет падал на шиповник, а в зашторенной спальне, против которой и взметывались ранетки, работал телевизор. Очень хорошо – меньше опасности, что ушастая Рэйка услышит нас. У соседей слева, тоже имевших садик, но безо всяких съедобностей, было темно и тихо.
– Ты, Генка, везучий, – шепнул я дрожавшему баянисту.
– Ага, – согласился тот, – только я замерз.
– Пройдет. Думаешь, мне не боязно? Еще как! А если бы не боязно, то нечего было бы и делать. Айда!
Во дворе никого не было. Теперь нам мог помешать только дядя Федя, обычно куривший на крыльце перед сном. Но он сидел в кухне, обложенный книгами, и курил там, так что мы беспрепятственно скользнули на крышу.
Под Генкой сразу же громыхнуло.
– По ребрам! – зашипел я, морщась. – Ставь ноги елочкой и иди по ребрам.
На коньке постояли, прислушиваясь. В доме, как в трюме, держалось ровное гудение. Из-под карнизов лился свет, зубасто белел огородный забор, а потом темнота, взрываемая вдали вокзальными прожекторами.
Мы взяли сумку и спустились к торцу. Послав Борьку на угол караулить, я заглянул вниз, пощупал, не острый ли край, определил, где лучше спустить Генку, чтобы удобнее было рвать – не на самую макушку, а чуть сбоку, – и вытащил веревку.
– Так, – шепнул я, осматривая Генку в слабых отсветах. – Берет сними, а то уронишь, и Рэйка завтра вынюхает тебя… Ну, садись. Не на крышу, балда, а на палку, держи… Не так, а поперек. Дай-ка. – Я сам пропустил палку между его ног и пристроил ее сзади. – Во… Ну, Генк, ползи… Да не головой вперед, а ногами. Нырнуть хочешь?
Борька пискнул сонной птичкой, и мы замерли. Внизу, переговариваясь, прошли на улицу двое – чьи-то гости.
– Давай, Генк!.. Рвать не торопись, оглядывайся, но и не чешись там, понял? Мы не циркачи – держать тебя долго. Кончишь – дернись. Ну!
Генка допятился до края, свесил ноги и намертво впился в веревку. Мы со Славкой медленно стали опускать его. Вот остались плечи, вот Генка перехватил руки, чтобы пальцы не смяло веревкой о железо на перегибе, и, наконец, он весь пропал. Отдав метра два, мы улеглись на спины и застыли, упершись в водосточный желоб. Подобрался Борька, сказал, что все нормально: Генка рвет, размотал оставшийся конец до конька и сел там, уцепившись за палку.
Веревка подрагивала, точно мы закинули огромный крючок и теперь какая-то рыбища заигрывает с наживкой. И вдруг – дерг-дерг! Есть!
– Три-четыре! – шепотом скомандовал я.
Мы откинулись, желоб хрумкнул под ногами, но веревка не подавалась ни на сантиметр.
– Ребя, берись ниже! – прохрипел я. – Борьк, ты там с упором?
– С упором.
– Три-четыре!..
Мы налегли изо всех сил, но – увы! И я, холодея, понял, что Генку нам не вытащить!.. Это значит – опустить, а потом просить Ширминых открыть замок или выпиливать в заборе дыру. Тетя Зина садик, конечно, не отопрет даже для Генки, которого почти целовала после концерта, поднимет шум, соберет народ и будет показывать нашего баяниста, как зверька в клетке, и мы будем посрамленно стоять тут же, три мужественных богатыря! А пилить – услышат, и достанется еще больше. За секунду промелькнуло у меня в голове это позорище, а веревка – ширк! – и проскользнула в усталых руках на несколько сантиметров.
Генка, почуя неладное, задергался сильней.
– Сейчас! – бросил я зло. – Ну что, ребя?
– Кажется, наелись, – съязвил Борька.
– Я спрашиваю, что делать, а не ха-ха-ха! – рассердился я.
И тут по двору звучно прокатился ласковый оклик:
– Ге-ена-а!..
А из садика Ширминых ему преданно отозвалось:
– Ык! – Генка начал икать.
– Генк, потерпи! – прошипел я. – Потом наикаешься.
– Ык!
Ужас! Теперь мы точно пропали!.. А тетя Тося все генкала, она была не из тех родителей, что крикнул раз и – домой, она без сына не уйдет, а двинется на розыски по нашим квартирам и всех всполошит.
– Ребя, ну что? – простонал я.
– Надо чьего-то отца звать, у кого добрей, – сказал Борька.
– Да от любого влетит!
– Тогда уж дядю Федю, – пропыхтел Славка.
– Точно! Борька, дуй к нему, – мол, так и так, скорей.
Дядя Федя явился через две-три минуты, в белой рубахе, как привидение. Он молча и быстро все обследовал, встал боком на край и давай поднимать Генку вертикально. Вытянет с полметра веревки, перегнет – мы держим, вытянет, перегнет – мы держим… Славка сопел, во мне дрожали все жилки, но, когда дядя Федя, как огромную лягушку, с растопыренными и полусогнутыми ногами, выудил, наконец, Генку и поставил на крышу, я, не веря в спасение, продолжал сумасшедше сжимать веревку и упираться в желоб.
Дядя Федя спускался первым. С лестницы он шагнул одной ногой на крыльцо, поснимал нас и завел в кухню. Я бухнулся на мягкий диван и сидел сколько-то с закрытыми глазами, потом услышал, как Генка пьет, унимая икоту, и тоже попросил пить. Кружка пошла по кругу.
– Ну, очухались немного? – спросил дядя Федя, закуривая. – В следующий раз под веревку ставьте блок, чтобы уменьшить трение, иначе плохо кончите.
– Следующего раза не будет, – сказал я.
– Ну, а вдруг?
– Не-не-не, дядя Федя, не будет! – энергично уверил Генка, почувствовавший себя совсем бодро. Еще бы – раскатывал, а у нас кишки трещали.
– Да, пожалуй, не надо больше, – согласился дядя Федя. – А потянет – лезьте в мой огород. Честное слово, я им нисколечко не дорожу.
Генка встал и заявил:
– И огородов больше не будет! Я их не пущу! – Он обвел нас сверкающими глазами, подошел вдруг ко мне и отчеканил: – Товарищ комиссар, ваш приказ выполнен! – и рванул из штанов рубаху.
На колени мне выпал ворох ранеток.
Тут постучали. Я схватил с диванного валика полотенце и кинул его на ранетки. Вошла тетя Тося, строго улыбающаяся.
– Можно, Федор Иванович?.. Вот они! У Бориса – нет, у Юры – нет, иду к Володе и вспомнила, что есть еще дядя Федя! Чем это вы так поздно занимаетесь?
– Ранетки, мам, воруем! – легко сказал Генка.
– Пора, воришки, по домам! – Тетя Тося еще сильнее улыбнулась. – Гена!.. Всех, всех гоните, Федор Иванович, а то они до утра готовы… До свидания, извините.
Веселые Головачевы ушли, а мы, подавленные, остались молча сидеть.

ЧУЖОЙ ДВОР
Ну, Генка! Ну, тихоня! Поболтался двадцать минут на веревке и так осмелел, что «Союз Четырех» выдал… Едва я очутился в постели, как задумался – бить его завтра за эту смелость или не бить? Но думал недолго – у меня сразу отнялись руки и ноги, потом живот перестал урчать от выпитого молока, а потом я не помню, что еще отнималось. А утром сообразил, что бить нельзя. Ведь и мы выдали совершенно секретную операцию. И чья выдача страшней – вопрос. Не поголовный же мордобой устраивать!.. Странно, что общие дела нам удаются на пять с плюсом, а чуть свои – провал с треском!.. Вон мы как лестницу отремонтировали – даже какие-то женщины похвалили, как говорила мама. А взять, наоборот, ту камеру, например, – сколько страхов с ней было!.. Или вот двор – мы его прямо вылизали! Сутулый Лазорский как увидел, аж распрямился!.. А что вчера? Ужас! Спасибо еще дяде Феде, а то вообще было бы!.. Правда, пришлось все рассказать ему о наших союзах и делах. А меня вдруг дернуло, и я объявил, что мы боремся за освобождение двора. Славка с Борькой глаза выпучили, а дядя Федя спросил: «То есть долой огороды?» И я ответил: «Да!» Это ему понравилось, и он сказал, что мы можем без борьбы хоть сейчас взять его огород. Но пять метров – это мало, надо метров двадцать, огорода четыре, чтоб играть и не оглядываться. А кто даст? Скорей умрут! Но я повторил, что мы будем бороться!
Надо было добавить: по-всякому!
Даже концертом!
Это я вчера вывел из Нинкиной подсказки. Я пришел к ней помогать с пьесой. Она провела меня в спальню, заявила: «Сказка должна быть вот такой!» и кивнула в угол за кровать. Я знал, что Нинка любит куклы, играет в них, но я чихал на эти куклы. А тут я присел. В углу, за кроватью, было кукольное королевство! Ни пучеглазых пупсов, ни уродин с закрывающимися глазами – ничего большого, все маленькое, всего много, как по правде, и все красиво!.. А потом мы сели за пьесу и часа через полтора закончили. Провожая меня, Нинка заметила, что раз я сочиняю стихи, то мне незачем ходить вверх ногами – проще написать частушки и пропеть. Я сказал, что вверх ногами все-таки ходить проще, чем писать стихи, но обещал подумать. А чуть позже вдруг понял, что в частушках-то и будет соль концерта – борьба!
И, позавтракав, я засел.
Но сперва пришлось бороться с самими частушками. Я измаялся и до обеда сочинил только три куплета. Зато один – хоть сейчас в книгу:
Нам приходится несладко,
Дяди, тети и отцы.
Вот бы сделать спортплощадку
Там, где спеют огурцы!
Не в бровь, а в глаз!
И после обеда, перед репетицией, я побежал к Борьке, без критики которого не мог теперь обойтись. Он сидел за кухонным столом и рисовал стоявшую перед ним старую, в отколах, глиняную собаку-копилку. Из ее заушной прорези торчали беличий хвост и гусиное перо, и собака походила на сподвижника Робина Гуда.
– Похоже? – спросил Борька.
– Очень… Без линейки?
– Без.
– Хм. У тебя даже живей.
– То-то… А помнишь, на свой портрет говорил – непохоже.
– И сейчас скажу.
– Да?.. Минутку. – Борька принес большую черную папку и, порывшись в ней, показал мне журнальную вырезку, закрыв пальцем надпись. – Что это, по-твоему?.. Спорим, что не угадаешь?
На картинке были разноцветные полосы, пятна, кляксы, искры какие-то. Все это пересекалось, разрывалось и наплывало друг на друга.
– Мазня, – сказал я.
– Читай.
– «Любовь с первого взгляда», – прочитал я надпись чернилами под нерусским названием.
– Похоже? – спросил Борька.
– Ой, Боб, не знаю. Может быть, с первого взгляда это любовь, но со второго – мазня!
Борька расплылся в улыбке и, пряча вырезку, заметил:
– Вот так, комиссар! Похоже или непохоже – это не все!
– Ага. Значит, тогда ты меня еще пожалел? Мог бы из моей физиономии какой-нибудь самовар сделать?
– Нет, Гусь, я этот… реалист! – подчеркнул Борька.
– Молодец! А теперь слушай, какой реалист я!
Я прочитал все куплеты. Борька одобрил, но заметил, что мало злости. Я сказал, что злости добавлю, и мы, довольные собой, отправились на репетицию.
У Куликовых уже было шумно. Миркины братцы, визжа, возились на полу с Королем Моргом, которого Генка привел для разнообразия. Щенок не столько подрос, сколько окреп. Дверь в спальню Нинка закрыла, чтобы малышня не разворошила ее королевский угол. Народ спорил, чем и как оформить сцену, чтобы она от действия к действию менялась бы почти без перестановок.
Не было лишь Томки.
– Кто знает, придет вообще эта фифа или нет? – спросила Нинка. – Вовка, не знаешь?
– А я-то при чем?
– Ты сосед.
– И Славка сосед!
– Ну, господи, никому ничего не скажи!.. Ждем пять минут. Вот ваши роли. – Нинка раздала исписанные листки и последним, Томкиным, нервно замахала. – Ведь и правда – сорвет!
Мирка наклонилась ко мне и шепнула:
– Вовк, а ты на Томкино место пригласи ту девчонку.
– Какую?
– С собакой-то.
– Марийку? Ты что?
– А что?.. Да если бы меня какой мальчишка из чужого двора позвал, я бы с радостью убежала от ваших постылых рож! – со злым азартом выпалила Мирка.
– Ха, сказанула! Как будто это просто! – бурчал я, а соблазнительная мысль уже завязла в мозгу и – тук-тук: почему бы нет, почему бы нет?
Нинка сказала, что все репетиции пойдут в частичном гриме, чтобы нас не смутил потом полный грим и костюм. Девчонкам она дала губную помаду и велела намалевать себе щеки, а нас подвела к печке. Мне и Генке она сажей нарисовала усы, Славке-медведю – круги вокруг глаз, а Борьке-Кощею – две полосы на лбу и одну на носу. Мы глянули друг на друга и попадали со смеху на пол. Нинка сама закатилась.
– Вот так и на премьере будет, не приучи вас к гриму, – успокаиваясь, сказала она. – А завтра уже не засмеетесь… Ну, ладно, начнем, а к Томке-выдре я потом сбегаю.
Мы репетировали до тех пор, пока не заголосили – спасибо им! – Миркины братцы, иначе бы режиссерша замучила нас. А у меня в голове только и было: почему бы нет, почему бы нет? И когда мы высыпали наружу, я утянул пацанов за угол и отдал приказ по «Союзу Четырех»: немедленно сделать визит-вылазку в соседний двор! Я их огорошил.
Борька дернул губами и, вспомнив, видно, Марийкины угрозы, спросил:
– А нам шеи не намылят?
– Какие разговоры? Это приказ! – бухнул Генка.
– Ты молчи. Когда дело касается шеи, можно и поговорить.
– Не бойся, Боб, мы помирились с той девчонкой, – сказал я. – Ее звать Марийка.
– Да я не боюсь, просто…
– Забыл, что мы умеем защищаться? – напомнил Славка.
– Вот именно, – обрадовался я. – Неужели после мымр нам что-нибудь грозит?.. Зато, может, в волейбол поиграем, через сетку! Кто играл через сетку?.. Ну вот!.. И по буму походим! В общем, приказ: вперед!
И мы медленно тронулись.
Генка с Королем Моргом на тонком поводке первым пересек улицу и очутился у ворот. Собственно, ворот не было, был пропил в высоком заборе и затем узкий темный проход между старыми деревянными домами, и лишь дальше, у новых кирпичных зданий, светлело вольное пространство, куда, наверно, имелся и другой вход, посолиднее этого.
Король Морг бешено обнюхивал заборные доски, а у меня сердце колотилось во все тело, как будто их было с десяток, сердец. Ведь чужой двор – это новая земля, таинственный остров! Кто нас там встретит: зверь, дикарь или свой брат?.. Набрав воздуха, как перед нырянием, я шагнул в пропил! Друзья – за мной, и, цепочкой миновав тень, вышли во двор.
На волейбольной площадке вертелось несколько человек, двое, один на плечах другого, закрепляли сетку, и целая орава сбилась у столба, наблюдая, как накачивают машинным насосом мяч. Я сразу же увидел шахматный сарафан и обрадованно шепнул:
– Айда!
И тотчас возглас:
– Женька! Кто к нам идет! – и шахматный сарафан кинулся навстречу, а из кучи вывернулся мальчишка в очках и тоже направился к нам. Остальные только повернулись.
Марийка подбежала.
– Здравствуйте, – сказал я. – Вот собаку привели!
– Ну, и молодцы! – и вдруг, Марийка, подпрыгнув, расхохоталась. – Вы что, пугать нас пришли? Женька, ты посмотри на них!
Женька тоже загыгыкал. Только тут мы сообразили, что забыли стереть этот дурацкий грим, и, смущенные, давай елозить по лицам рукавами.
– Не трите, пойдемте к крану, – сказала Марийка, схватила меня за руку и потянула в другой конец двора, как я тянул ее в огород. – Вот тебе вода, мойся.
– Мы с репетиции, – сказал я, – поэтому разрисованные, а не чтобы пугать вас.
– С какой репетиции?
– Пьесу готовим, и Нинка намазала нас.
– А зачем готовите?
– Для концерта. Чисто?
– Еще вот этот ус.
– Мы во дворе концерт ставим, вот и готовимся. А ты думала, сдуру намазались?.. Нет. Я, например, Ивана-царевича играю. Это я сейчас лохматый, а потом я постригусь. Славка, вон тот, мордастый, – медведя, а Борька, с полосами на лбу, – Кощея Бессмертного. И еще у нас полно артистов!
– Ой, как интересно!.. А можно посмотреть?
– А хочешь сама играть? Роль есть!.. Одна там отказалась, ненормальная, а играть надо… А девчонок больше нет. Будешь?
– Буду! – сияюще глядя на меня, ответила Марийка.
– Ура! – крикнул я и опять давай мыться.
– Да все уже, царевич, нет усов! – смеясь, Марийка завернула кран и, оттопырив сарафан, сказала: – Вытирайся!
– Да ну, – смутился я.
– Вытирайся, говорю. Он чистый.
Я быстро промокнул лицо подолом, выпрямился и, отряхивая руки, сказал:
– На твоем сарафане можно в шахматы играть.
– А ты умеешь?
– Умею.
– Хорошо?
– Хорошо.
– Тогда ты пропал! – серьезно сказала она.
– Почему?
– Потому.
– Хм… А помнишь, ты говорила, что отвалтузите нас, если мы появимся в вашем дворе?
– А думаешь, не отвалтузим? – прищурив глаза, со странной решимостью проговорила Марийка, но тут же улыбнулась и спросила: – А хочешь, я тебя буду Вовкой звать?
– Меня и так Вовкой зовут.
– Мало ли что! Я могу просто тыкать: ты, ты, ты, без Вовки. Я почти всем мальчишкам тычу.
– А-а, тогда зови.
– Ишь, обрадовался! Я еще посмотрю!.. Да, слушай, Вовк, а когда репетиция? – вдруг озабоченно спросила она.
Я ответил, что завтра в три, что у нас каждый день в три часа что-нибудь да бывает. Марийка поморщилась. Оказалось, что завтра воскресенье, а в воскресенье в час они двором договорились идти на речку, а разве к трем вернешься? Миг подумав, я сказал, что и мы двором пойдем на речку в час. Перенесем репетицию и пойдем, потому что в это лето мы всего раз купались.
И мы припустили к ребятам.
Они, как лепестки еще не распустившегося цветка, сбились полусогнуто тесным кружком вокруг площадочного столба. Мы протиснулись. Там перед Королем Моргом сидел на корточках Генка. Король Морг пытался впритык обнюхать машинный насос, но от того, видно, издали шибало смазкой, щенку это не нравилось, он скреб землю, чихал, но к насосу тянулся.
– Еще, еще, для Марийки! – крикнул кто-то.
– А что тут? – спросила Марийка.
– Сейчас увидишь. Ну, Генк! – уже по-свойски подхлестнули баяниста.
– Для Марийки ладно, но в последний раз, а то мы устали, – сказал Генка и засвистел «Песенку Герцога».
Король Морг сразу – плюх! – сел и давай подвывать, видно, сидя подвывать было удобнее. Кружок со смехом рассыпался. Но Марийка не рассмеялась, а наклонилась и погладила певца, приговаривая: «Ох, они замучили маленького!» Потом живо распрямилась и сказала брату, протиравшему запотевшие очки:
– Жень, а Вовка здорово в шахматы играет!
– Да? – спросил Женька, быстро надевая очки.
Я молча разглядывал за стеклами его какие-то аквариумные глаза.
– Тогда Е2 – Е4, – сказал он.
– Е7 – Е5, – ответил я:
– Ф2 – Ф5.
– Королевский гамбит? – спросил я. – Д2 – Д5.
– Контргамбит? – удивился Женька, привыкший, наверно, к тому, что пешку на Ф5 всегда цапали. – Тогда стоп! Сейчас я доску принесу, – и он побежал к кирпичному дому.
Марийка воскликнула:
– Говорила – ты пропал!
– Еще поборемся!
Я подозвал своих и объявил им о завтрашнем походе на реку. Славка, из-за плохо стертых кругов у глаз походивший на филина, сказал:
– Тогда надо камеру качать.
– Какую?
– Которая в подполе.
Мы так и ахнули. Вот она когда, наконец, пригодится нам! А Славка сказал это так спокойно, точно каждый день плавал на ней. Что за человек – сроду в нем ничего не прорвется вулканом! Вообще-то и не надо, а то он в это время бьет головой.
Вернулся Женька. Все стали играть в волейбол, а мы сели неподалеку за одноногий столик со вкопанными лавками и расставили фигуры. Женька повернул ко мне белые – как гостю – и сказал:
– Ну!
Я помедлил, не зная, что выбрать: строгое начало или ловушку. Ловушка – это палка о двух концах: или по противнику, или по тебе. Я рискнул. Женька не клюнул, и через несколько ходов я оказался в тяжелом положении. Я видел с его стороны мощный ход слоном. Сделай он его – и я теряю ладью, правда, не сразу. И чем дольше Женька думал, тем страшнее мне становилось. Кто-то подбегал, хлопал меня по плечам, спрашивал, как дела, а я что-то мычал, зажав в кулаках раскаленные уши, и прожигал взглядом клетку вдалеке от рокового слона. Ну, ходи, ну же!.. Женька поднял руку и неопределенно задержал ее. Гнусная привычка у людей – думать сто лет, а потом повесить над фигурами руку и еще думать. Так, конечно, можно додуматься, особенно в таких очках!.. Неожиданно он сходил пешкой. Я вздохнул – опасность миновала. Сперва я защитился, потом сделал маневр и с шахом взял чистого коня. Женька простонал, стукнул себя по лбу и протянул мне руку.








