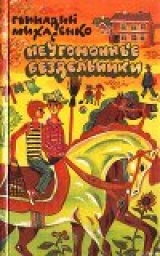
Текст книги "Неугомонные бездельники"
Автор книги: Геннадий Михасенко
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 11 страниц)
ГИБЕЛЬ АНЕЧКИНОГО ОГОРОДА
Спал я в ту ночь плохо. И уснул не сразу, и потом в голову лезла разная белиберда: будто все куда-то уезжают на поезде, а я опоздал, на ходу зацепился за последний вагон и не в силах подтянуться, а внизу будто не рельсы и шпалы, а пустота, и я вот-вот туда сорвусь… Кошмар!
Обычно к девяти часам, когда мама с папой уходили на работу, я высыпался, и хоть, закрывшись на крючок, снова падал в кровать, но уже просто понежиться и почитать. А тут чувствую – трясут за плечо, а понять не могу: или это будят меня, или от поручней вагона отдирают. В ужасе я резко вывернулся и – шмяк! – на пол. Приехал.
Отец, в майке и трусах, только что умывшись, вытирался полотенцем и насмешливо глядел на меня. Я ему радостно и подслеповато улыбнулся и – прыг! – в постель.
– Нет-нет, дружок, ничего не выйдет, вставай, не будешь загуливаться. Как мы договорились?.. Максимум – до одиннадцати. А ты?.. А ну, давай!
– Пап, заприте меня, а ключ в форточку бросьте, – забормотал я, сладко зарываясь в подушку.
– Все-все, завтра доспишь. Слышишь? – пристрожился отец. – Живо умывайся, и пошли. На собрание.
– На какое собрание?
– На дворовое. Во дворе – чрезвычайное происшествие. Управдом всех собирает.
Я сел. Неужели из-за вчерашнего, из-за крыши?
– Какое происшествие?
– Чрезвычайное!.. Где ты был вчера до полдвенадцатого? – спросил вдруг отец, складывая полотенце вдвое, точно собираясь пороть меня, чего давно не было.
Последние крохи сна улетучились.
– У дяди Феди. Со Славкой, – тревожно ответил я, но отец продолжал вопросительно смотреть на меня. – Мы кино по телику смотрели… про индейцев.
– А после?
– Домой.
– Сразу?
– Сразу. Да что случилось? – воскликнул я наконец, не в шутку взвинченный.
Отец расправил полотенце, перекинул через шею и сказал:
– У Жемякиных уничтожен огород.
Я присвистнул. Отец, не спускавший с меня глаз, добавил:
– Управдом говорит, что даже картошка повыдергана… И самое главное – подозревают вас.
– Нас?.. Ничего себе!
– Вот тебе и ничего… Живо собирайся.
Я натянул штаны, выскочил в кухню и наткнулся на острый мамин взгляд.
– Надеюсь, ты тут ни при чем? – спросила она, наливая воду в электрический самовар.
– Конечно, мам, – невозмутимо ответил я, лихорадочно соображая, кто же мог это сделать. – Тут, мам, никто ни при чем. Тут какая-то петрушка. С Анечкой вечно петрушки!
– Что это за обращение – Анечка? – возмутился отец, одеваясь. – Кто она вам?
Мама вступилась:
– А-а, ее все так зовут от мала до велика: Анечка-Анечка.
– Но ведь это очень неприлично!.. Черт-те что! Идем.
Наша кирпичная двухэтажная прачечная относилась к другой улице, но торцом, где была наша квартира, выперла в этот двор, в самый его конец, похоронив под собой огороды последнего дома и загородив ему полнеба. Дом и без того был стар и хмур, а тут совсем пожух и сгорбился под боком молодой, розовотелой прачечной. Да и все дома были полуразвалинами.
Против Жемякиных толпился народ: тетя Шура-парикмахерша, тетя Зина Ширмина, дядя Федя, тетки, хотевшие вчера нас выпороть, девчонки – почти все наши друзья и недруги. Пожалуйста, хоть целый город скликайте!.. Лишь бы Томки не было, а то у нас едва-едва проклюнулись эти… отношения, и вдруг – бах! – разбойник! Правда, я еще не знал, какие мальчишки Томке нравятся. Может, именно разбойников ей и подавай! Но все равно, огородным гангстером я не хотел быть.
Отец заметил мое беспокойство и спросил:
– Никак боишься?
– Кого?.. Вон тех-то?.. Ни капельки! – отпарировал я.
Перед нами расступились, кто-то заметил, что вот еще одного привели. В середине уже стояли с родителями Славка, Борька и Генка. Я ободряюще подмигнул им, но – ни слова, чтобы не подумали, что мы сговариваемся. Борька кисло дернул губами, мол, ерундистика все это, Славка глянул серьезно и озабоченно, мол, не такая уж ерундистика, а Генка был так перепуган, будто его привели на расстрел. На мое подмигивание он, не открывая рта, опустил нижнюю челюсть, поежился и чуть отступил за мать, как будто я подмигнул ему как соучастнику, а не просто по-дружески.
Сутулый управдом Лазорский, в серой рубахе, в кепке, с черным, до лоска засаленным галстуком, обозрел собравшихся, поворачиваясь по-бабьи, и проговорил:
– Ну, вроде все… Феня, а где твой?
– Рыбачит, – сурово ответила тетя Феня, Юркина мать, высокая и полная. Она стояла полубоком, готовая вот-вот удалиться. – Еще вчера ушел часов в шесть, с ночевкой. Бог, видно, надоумил, а то бы сейчас все шишки на него посыпались, как пить дать! – она махнула рукой и отвернулась.
– А ты думаешь, он у тебя ангел? – выкрикнула Анечка, выскочив откуда-то сбоку, в тех же тапочках и в том же халате, в которых гонялась вчера за Юркой. Я ожидал, что и поварешка мелькнет, но мелькнула только ее сухая рука – да он вчера меня при всем честном народе шимпанзёй окрестил, твой ангел!
– А-а, молчи, Аня, молчи! – величественно отмахнулась еще раз тебя Феня. – Ты день-деньской гоняешь ребятишек и горло дерешь, и еще бы они на тебя молились!.. Собрала митинг.
– Митинг! – ужаленно взвилась Анечка. – Да я их всех в тюрьму пересажаю, бандюг этих!
Поднялся шум: кто возмутился, кто бубнил «правильно-правильно», кто лишь сокрушенно цокал языком. Только одна голова над толпой не колыхнулась – голова дяди Феди, седая и огромная, как остывший и покрывшийся снегом вулкан. Но тут же дядя Федя закурил, и из остывшего вулкан превратился в действующий.
Лазорский вскинул обе руки и гаркнул:
– Тише, товарищи!.. Тише… Я смотрю, вы не лучше ребятни. Нельзя ж так. Не будем никого огульно обвинять. И ты, Жемякина, не кипятись!
Анечка юлой вертанулась, так что полы халата разлетелись, и выпалила снизу в одутловатое лицо Лазорского:
– Не кипятись?! Ты мне сперва огород верни, потом приказывай!.. Какая же ты власть, если у тебя во дворе нечисть шайками бродит!
Лазорский кашлянул и сбивчиво сказал:
– Ладно-ладно, разберемся… Кто еще не видел этого безобразия, прошу оглядеть, – и указал на огород.
Я протиснулся к забору и обмер. Там, где вчера зелень лезла друг на друга, как в корзинке с рассадой, там было пусто по-сентябрьски: все перекопано, исковеркано, валялась еще не увядшая картофельная ботва, на заборчике висели огуречные плети и обессиленные кусты помидоров с зелеными плодами, да там и сям желтели отодранные головы подсолнухов. Среди дворового половодья зелени Анечкин разоренный клин выглядел досадно и нелепо, как неожиданная дыра на новых штанах.
Ко мне привалилась Мирка, с сопливым братцем на руках, и сдавленно спросила:
– Вовк, признайся – вы?
– Да иди ты отсюда!.. Что мы, с вывихом? – отрезал я и вернулся к отцу.
Управдом хлопнул в ладоши и заговорил:
– Убедились, товарищи?.. Были у нас кое-какие грешки, но чтобы так – это позвольте! Это как на луне! И рука не подымается обвинять кого-то!.. Ну, кого?.. Взрослых?.. Не знаю, не уверен. Пацанье?.. Тоже не знаю, но скорей всего, хотя и для них масштаб, извините, зверский… Кто остается? Рассеянный с улицы Бассейной? Надо прощупать пацанов. Трудились поздно вечером или ночью. Вот и давайте разбираться. – Лазорский исподлобья обвел нас взглядом и ткнул пальцем в Генку, которого моментально прошибла икота, как тогда, на тополе. – Вот ты, Гена Головачев, наш баянист, вроде тихий хороший парень. Когда ты явился вчера домой? Успокойся только. Ну, когда?
– Ык! – ответил Генка.
– Когда? – переспросил Лазорский, наклоняясь и по-докторски выставляя ухо.
– Ык!
– Да успокойся, говорю. Не милиция, все свои.
Тетя Тося, Генкина мать, болезненно рыхлая и медлительная, с высокой блондинистой прической, которую ей вчера сделала тетя Шура-парикмахерша, положила свою голую до плеча руку на грудь в вырез платья и умоляюще протянула:
– Степан Ерофеевич, неужели вы думаете, что мой Гена…
– Я ничего не думаю, – перебил ее Лазорский. – Ничего!.. Ни о ком!.. Слышите? Ни о ком!.. Но надо разобраться!
– Ык! – сказал Генка.
Тетя Тося сконфузилась, одной рукой прижала Генкину голову к себе, другой начала стягивать на груди кромки платья, растерянно говоря:
– Он сидел дома часов с восьми… Девочки, вот Мира, Нина, пригласили его участвовать в концерте, и он репетировал. Он такой номер готовит, что… не знаю. И вообще, господи, как так можно…
– Вот и все! – обрадовался Лазорский. – Если бы все вот так номера для концерта готовили, то, глядишь, и поводов бы не было для собраний!
– Где их в концерт затянешь! – заметил чей-то старушечий голос.
– Им другие номера подавай! Чтоб или стекла летели, или земля! – могуче отозвалась тетя Шура-парикмахерша.
– Или чтоб крыша гремела!
Опять было вспыхнул галдеж, но Лазорский, вскинув руку, пресек его и обратился к Борьке:
– А что скажет Чупрыгин-младший? Но ответил дядя Костя, худощавый и жилистый, как и сын:
– Если бы мне сказали, что Борька спилил тополь в палисаднике или ощипал соседского петуха, я бы не удивился – Борька способен на многое, но вчера – увы, мы допоздна проторчали в мастерской. – Дядя Костя писал в каком-то ателье плакаты и вывески.
– А ночью? – спросил управдом.
– Ночью?.. Если Борька встанет ночью, он сначала опрокинет два-три стула, стукнется головой о косяк, всех разбудит и уж потом только сам проснется, так что судите.
– О ночи едва ли стоит говорить, – заметил мой отец. – Тут каждое дыхание слышишь, не то что…
Лазорский пошлепал губами, покосился на Анечку, всю так и собранную, точно для прыжка, и сказал:
– Ну, хорошо, Чупрыгин отпадает. Остались двое.
И все уставились на меня и Славку с нетерпеливым и острым вниманием – развязка приближалась. Уж точно – кто-то из нас двоих. Во мне вдруг вспыхнула веселая злость, и я крикнул:
– Дудки!
– Что? – не понял глуховатый управдом. – Ну-ну, давай, Кудыкин, объясняйся.
Я хотел еще съязвить, но понял, что не надо злить в общем-то невиноватых людей, которым вот-вот идти на работу, а они тут петрушкой занимаются.
– Мы пришли домой полдвенадцатого, – сказал я.
– Да, – кивнул Славка не как подсудимый, а как судья.
– Ага-а! – злорадно протянула Анечка, хищно вырастая передо мной.
– Но до этого мы сидели у дяди Феди, так что не волнуйтесь, – сощурив глаза, уточнил я и обернулся к дяде Феде.
Он, затянувшись папиросой и вытолкнув из своих недр клуб дыма, как-то печально подтвердил:
– Да, они были у меня… До полдвенадцатого.
– А полдвенадцатого он был уже дома, – сказал отец.
Тетя Валя Афонина, Славкина мать, с улыбкой, неторопливо проговорила, что времени она не заметила, но слышала, как Славка что-то крикнул мне на прощание.

И – тишина. Тишина недоумения… Свинство! Как можно было нас подозревать в этом диком «подвиге»?.. Лазорский вдруг улыбнулся, снял кепку, хлопнул ею по колену, как будто собирался пуститься в пляс, и довольно произнес:
– Ну что ж, товарищи, все в порядке, пьяных нет. Разобрались – и душа на месте.
– Душа на месте? – взвинтилась Анечка, поджимая губы. – А где мой огород, на каком месте?.. Кто мне его угробил, святой дух?.. Все сухими вылезли из воды!
– Тихо-тихо, Аня, – управдом успокаивающе выставил руку с кепкой. – Может, кто со стороны зуб на тебя точил, а я что? Моя власть куцая.
– Какой зуб? Какая сторона?.. Они это! Они, паразиты! – завопила Анечка, обращаясь к нам, и вдруг точно переломилась в пояснице, и ее крик превратился в плач.
Тетки обступили ее, утешая.
– Домой! – скомандовал отец.
Мама встретила нас в дверях и беспокойно спросила:
– Ну!
Я поморщился, а отец ответил, что дело пахнет не баловством, а преступлением, что огород разделан так, будто на нем тренировалась футбольная команда. Точно подметил. И Лазорский выразился точно – зверский масштаб. Зря тетя Феня Бобкина сказала, что, будь Юрка дома, его бы обвинили. Нашла мамонта. Тут, правда, совпадало: Юрка вчера пригрозил Анечке, и – готово. Но мало ли он чем и кому угрожал! Если бы он хоть капельку исполнял свои бешеные угрозы, то мы бы уже давно ходили одноглазые, криворотые, вообще безголовые и на спичечных ногах. Юркина истерика была просто завеса, которую он пускал, как каракатица, чтобы увильнуть от опасности, уж мы-то знали… Но кто же это сделал!
Позавтракали молча. Молча родители собрались и ушли. Они работали за стеной: отец – завхозом, мама – в бухгалтерии. На столе осталась грязная посуда – была моя очередь мыть. Через калитку, через проход вдоль прачечной, откуда зимой мы вывозили те гигантские сосульки, я сбегал в кочегарку за кипятком и перемыл все ложки и чашки. И сразу мне стало как-то спокойнее, точно я и в себе что-то прополоскал.
Помещение, где мы жили, было темным и холодным, потому что делалось оно не для жилья, а для санитарной обработки поступавшего в прачечную белья. Но от этой обработки почему-то отказались и поселили сюда нас, временно, но мы доживали тут уже четвертый год. Отцу и маме все это не нравилось, а мне нравилось. Нравилось, что много клетушек, что канализационный стояк в раздевалке часто засорялся и появлялись важные сантехники с клешнястыми ключами, нравился теплый туалет, какого не было ни у кого во дворе. Но больше всего мне нравилась дезкамера. Этот кирпичный, массивный выступ, сантиметров на семьдесят не доходивший до потолка, с мощными заболченными дверями, выпирал из стены, словно какой-то атомный сейф, и загромождал почти всю нашу спальню, превращая ее в букву «С», в дальнем загибе которой стояла родительская кровать, а в ближнем, у окна и батареи, – моя, а посредине – жесткий вокзальный диван, неведомо откуда взявшийся тут.
На дезкамере лежали разные нужные и полунужные нам вещи: гитара, тюк ваты, коробка с новогодними игрушками, скатанная в рулон картина Васнецова «Богатыри», которую нынче зимой подарил мне Борька в день рождения, но рисовал которую дядя Костя. Сюда же я совал шахматы. У меня их было три комплекта: один турнирный, с тяжелыми, залитыми свинцом фигурами, купленный в магазине, и два принес отец, сказав, что они списанные, то есть никуда не годные. И правда, это были не шахматы, а винегрет: величина фигур, цвет, обточка – все разное. Я их не любил и доставал только, давая сеанс одновременной игры Борьке и Генке.
Открыв свои турнирные, я снова принялся за партию Морфи – граф Изуар и герцог Брауншвейгский и увлекся. Только вдруг почуял – кто-то в затылок дышит. Обернулся испуганно – Борька, черт. Он смотрел куда-то мимо меня, рот – почти прям от серьезности. Сколько ни бывают у меня пацаны, а все им в диковинку наше жилье, все прислушиваются да приглядываются, а потом еще обязательно о чем-нибудь спросят, о чем уже спрашивали.
– Топором, что ли, тюкают? – Борька кивнул на пожелтевшую штукатурку стены, где раньше было окно в соседнее помещение.
– Какой топор? Там бельевой склад… Ты вот лучше сюда глянь, видишь, как Морфи зажал этих графьев и герцогов!.. И не пикнут, во – разделал!
Борька нехотя опустил глаза, долго изучал ситуацию, потом заметил, опять скособочил губы:
– Как Анечкин огород.
– Точно… Как там, утихли?
– Шумят еще… Я улицей прошел.
– Да-а… Неужели вправду думают, что мы, а?
– Думают – не думают, а прохода теперь совсем не будет. Труба. Им лишь бы зацепка, а тут зацепища… А, может быть, так и надо, а, Гусь? – прощупывающе спросил Борька. – Огород за огородом и – футбольное поле! Или все ждешь, когда изнутри?.. А то они вот-вот прижмут Лазорского и проезд картошкой засадят, будем по тропинке ходить, размахивать руками, как по проволоке, – и он гусиным шагом прошел по половице, мотаясь из стороны в сторону и ойкая в страхе оступиться.
Я горько усмехнулся.
– Тоже в агрономы целишь?.. Давай, только я тут не игрок.
– Я, в общем, тоже, но если бы кто постарался!.. – и Борька с мечтательным вздохом уселся против меня.
Некоторое время мы смотрели на замерших в гениальной комбинации лакированных драчунов, потом, не сговариваясь, расставили их в мирном порядке и начали свою партию. Я знал несколько дебютных ловушек и все время разыгрывал их, но Борька не попадался, хоть и неважнецки играл. А тут влип. Готовя атаку, я нарочно открыл своего ферзя Борькиному слону. Борька – цап его! – и кровожадно потер ладони.
– Шах! – сказал я.
– Ерунда, ушел.
– Мат!
– Как мат? – удивился Борька и даже подскочил.
– Вот так. Мат Легаля называется.
– Тьфу, черт!.. Утрами я всегда продуваю. Как сел утром, так продул. Хоть не садись – не везет, – и он смахнул фигуры.
Вдруг кто-то – хлоп! – зажал мне сзади глаза. Руки холодные и пахнут свежей рыбой.
– Юрка! – крикнул я.
Пальцы разжались, и от дезкамеры отрикошетил натужно-визгливый смешок, и сам Юрка прыжком оказался перед нами ершисто-победоносный.
– Здорово я подкрался?.. Ха-ха… Кстати, ваш правый! – и Юрка быстро запустил руку в мой правый карман.
Мы с ним были в споре о правом кармане и в любое время могли выгрести друг у друга все, что там есть, даже деньги, если их меньше гривенника. Вспоминая о кармане, Юрка мигом становился вежливым – ваш правый! К счастью, мой правый был пуст, его тоже…
– Вы! – крикнул Юрка. – Приглашаю на уху!.. Мать уже окуней спускает. С перчиком, укропом и зеленым лучком – а ла-ла объедение!.. Клев был – во!
– Но-о? – взволнованно протянул Борька, поднимаясь и алчно потирая руки. – Люблю поесть!
Я же спросил:
– А ты знаешь, что у нас случилось, пока ты рыбачил?
– Знаю. Мать рассказала.
– Ну, и как?
– Что как? – мигом стянув губы кисетом, насторожился Юрка.
– Как тебе это нравится?
– А мне-то что!.. Разворотили, значит, достукалась. Что я, плакать должен? – фыркнул Юрка, зло уставясь на меня. – Да будь я дома, я бы еще помог!
– Без тебя справились, – успокоил его Борька. – Ты лучше скажи, насчет ухи – свист?
– Какой свист? Тридцать окуней поймал!
– У-у, гений! Тогда пожрем!.. Вовк, ты как?
– Еще бы! – воскликнул я, уже чувствуя щекочущий ноздри запах ухи. – А Славку с Генкой?
– Позовем, – сказал Юрка. – На всех хватит.
Запирая дверь, я сделал вид, что мучаюсь с ключом, а сам из-под локтя глянул на Томкино крыльцо. Мне было неловко перед ней и за концерт, который, может быть, сорвется из-за нас, и даже за огородную шумиху, как будто и там я замешан. Но на крыльце увидел лишь чьи-то голые толстые пятки, торчащие над порогом, кто-то загорал прямо в сенях, куда утрами очень удобно падало солнце. Счастливые, беззаботные люди!..
НЕОЖИДАННОЕ ОТКРЫТИЕ
Еще в сенях нас чуть не свалил укропно-луковый запах, а когда мы стремительной цепочкой проскочили на кухню Бобкиных, на столе, освещенном солнцем, во всех пяти тарелках уже курилась уха густыми тяжелыми парами, за которыми невозмутимо-строго, как жрица, возвышалась тетя Феня, веером зажав в руке блестящие ложки.
– Химия-мумия, хоп – фирдирбубия! – скороговористо пропел Юрка, с хозяйской гордостью рассаживая нас – Ложки, мам!
– Погоди, полюбуюсь вами, – не шевельнувшись, отозвалась тетя Феня. – Уж больно вы милые после взбучки… Тихие, смирненькие – пай-мальчики…
– Ну, мама! – скислился Юрка. – Мы голодные, как черти, а ты. Я вон всю ночь не спал, не ел!
– Шелковые, – продолжала тетя Феня. – И не подумаешь, что это они вчера на крыше бузотерили… Похоже, каждое утро вам надо устраивать трепку.
Она колыхнулась, неторопливо раздала ложки, и мы дружно зашвыркали, мигом забыв об упреках. Уха была вкуснейшей. Млея в ее парах, мы сопели, захлебывались. Так бы и унырнуть в тарелку, и раствориться там среди окуневых плавников и ребер.
Когда дохлебывали по второй, тетя Феня угрозно-вдумчиво сказала:
– А вы все-таки поосторожней.
– Ничего, тетя Феня, брюхо без шва, не разойдется, да и не горячо, – за всех ответил я благодушно.
– Не об ухе речь, о жизни вашей шалопутной.
– А что? – опять же я поднял голову.
В черной, с серебристыми пятнами косынке до бровей тетя Феня обвела нас каким-то смертоприговорным взглядом и отчеканила:
– Что?.. Поменьше надо выкрутасничать, вот что!.. Шалопай на шалопае едет и шалопаем погоняет!.. Поди и курите?.. Ну-ка! – она наклонилась к Генке. Тот, поперхнувшись, дыхнул. К Борьке. Дыхнул и он. – Где вас поймаешь, но смотрите!.. Это я при всех заступилась, а тут! Половиками растяну у порога, чтобы порядочные люди ноги о вас вытирали, если что!.. Думаете, кто у Анечки огород выпластал?
– Ну, мам, – опять было возмутился Юрка. – Чего ты…
– Цыц! – крикнула тетя Феня, чуть не дав сыну затрещину. – Думаете, кто выпластал у Анечки огород?.. Такие же, как вы, огольцы, разве что чуть похуже!
– Тетя Феня, да мы… – попробовал я возразить.
– Добавить? – перебила она, двумысленно берясь за половник.
– Хватит с нас, – тоже двусмысленно ответил я.
– То-то… А тебе вот! – и она плеснула Юрке еще поварешку. – Чтоб съел!.. Рыба спасла тебя от греха, благодари ее теперь – лопай!.. Уж ты бы не выкрутился!
Юрка и без того натрескался, но покорно умял и добавку, потом провел нас, разморенных и отяжелевших, в спальню, откуда мы кулями перевалились через подоконник в прохладу палисадника и распластались на хилой травке под акацией.
Меня задели тети Фенины шпильки, и я, вспомнив, что и дядя Федя вчера тоже, мягко выражаясь, пожурил нас за шум на крыше, невесело спросил:
– Ну что, орлы, влетело?
– Я говорил, прохода не будет – пожалуйста, – охотно отозвался Борька, тоже, наверно, думая об этом. – Теперь шаг не ступишь без колючек.
– И меня понюхала – не курю ли, – как-то удивленно-радостно заметил Генка.
Юрка ворчливо заоправдывался:
– Не знаю, с чего она… Можно, спросил, друзей ухой угостить? А как же, говорит, зови всю ораву. Я и позвал… Знал бы – рыбу выбросил.
– И погорел бы, – стукнул зубами Славка.
– Почему это погорел бы?
– Не было бы алиби.
– Кого? – Юрка сел.
– Алиби… Нет рыбы, – значит, не рыбачил, значит, огород Анечкин обчищал. А тут рыба – алиби.
– Алиби, – передразнил Юрка. – Начитался, Славчина, всякой бузни!.. А если бы не клевало?
– Погорел бы.
– Ха, академик!.. Ну, ладно, давайте в ножички играть. Первый!
Взрыхлив землю, мы принялись играть, сперва нехотя-вяло, потом все оживляясь и оживляясь. Кон за коном – не заметили, как пролетело время и мы проголодались опять. Первым почуял это Борька и напомнил, что у нас в гараже остался с позавчера кусок копченой колбасы и едва начатая бутылка лимонада. Мы обрадовались и решили опять сообща подкрепиться, прихватив еще чего-нибудь из дома.
Только Генка выпучил глаза. По всей его физиономии была размазана грязь, потому что он чаще других продувался в ножичек и чаще выгрызал из земли штрафной колышек. Чем грязнее рожа, тем она бесстрашнее, но даже и грязь не изменила Генку.
– В гараж? Через огород? После всего того? – ужаснулся он. – Бешеные!.. Да я лучше умру с голода!
Упускать его не хотелось: и потому что он все-таки друг, и потому что он обычно приносил с собой редкую и вкусную еду: то ананасовый компот, то вареных креветок, то китайских орехов – нельзя было упускать Генку. Мы давай его уговаривать, но он мотал головой так, что тряслись щеки. Наконец, обозвав его трусом и ехидно пожелав ему успеха в девчачье-кошачьем концерте, который, оказалось, все-таки состоится, мы разбрелись, чтобы вскоре встретиться в гараже.
Дома я отодрал от хлеба горбушку, сунул в карман луковицу, взял уже ополовиненную банку сгущенки и отправился.
Попасть в гараж было вовсе не просто. Сначала нужно было через калитку против Бобкиных шмыгнуть в огород и смело-нетерпеливо направиться к уборной, полускрытой подсолнухами. Если заметишь или почуешь слежку, то так в уборную и заходи, если нет – юркни за «скворечню» и под ее прикрытием прокрадись в конец огорода, к старому забору механических мастерских, а там, в крапиве и конопле, наш тайный лаз в гараж.
Издали я увидел, как исчез в калитке опередивший меня Славка, потом Юрка. Только было и я нацелился, как во двор влетела Пальма, овчарка из двора через улицу, где не было ни клочка зелени. Перед самым моим носом она с ходу перемахнула огородный заборчик и давай шастать в подсолнухах, хапая какую-то траву. Тут же примчались ее хозяева, брат-очкарик и сестра, с голубым бантом над левым ухом. Опасливо покосившись на меня, они проскочили калитку, прицепили осмиревшую Пальму к поводку, вывели ее, и она натужно, как буксир, потянула их прочь.
– Извините, – на бегу бросил братец, тычком пальца поправляя очки.
– Хоть килограмм! – небрежно ответил я, усмехнувшись, – они не подозревали, что я такой же нарушитель границы, как и они.
– Можете и к нам собак приводить, – на ходу обернувшись, выпалила сестра.
– Ладно! – крикнул я. – Дипломатия на собачьем уровне!
Но внезапные гости уже пропали за воротами.
Я чуть выждал, раздумывая об этой сцене, почему-то развеселился и потом так ловко проделал весь замысловатый огородный маневр, что и сам не заметил, как оказался в гараже.
Гараж!.. Мы открыли его три года назад, с тех пор стали его верными добрыми духами. Метрах в пяти от забора горой высился огромный деревянный сарай, за которым и шла вся шумная механическая жизнь: гудели станки, ухали молоты, ревели моторы и вспыхивала электросварка. А тут, в заросшем бурьяном тупике, было что-то вроде машинного кладбища: валялись покореженные кабины, перекошенные пропеллером рамы, рессоры, дырявые радиаторы, смятые крылья, драные сиденья с торчащими пружинами и прочие части, гнутые, облупленные, ржавые… Кое-что мы тут расчистили, перестроили на свой лад и, конечно, обзавелись каждый своей машиной.
Борька прошуршал следом за мной. Славка с Юркой уже прилаживали столик в мазовской кабине, служившей нам столовой. Едва мы разгрузили свои карманы и расселись, как в лазе опять зашуршало и оттуда, задирая штанины, полезли чьи-то ноги. Это оказался Генка, по-прежнему чумазый и вдобавок бледный, отчего выглядел еще чумазее. В руке его торчала свернутая трубкой бумага.
– Ура-а! – радостно крикнул я. – Салют музыканту!.. Вали на стол, что там принес!
– Ничего не принес, – растерянно сказал Генка, переводя дыхание. – Я и дома не был. Нинка с Миркой перехватили, развесь, говорят, афиши… На двух домах повесил, потом дай, думаю, к уборной прикреплю, чтобы к вам проскочить. С афишей ведь, не заругают. Прикнопил, и вот – тут… Одна афиша осталась, – выдохнул Генка.
– Ну-ка, что за афиша, – сказал я.
Это был большой, чуть покоробленный высохшей тушью лист миллиметровки, с которого яркие оранжевые буквы извещали, что завтра в семь часов тридцать минут вечера на крыльце Куликовых состоится концерт художественной самодеятельности. Ниже расписывалась программа. Среди номеров мы вдруг вычитали: «Головачев Гена с дрессированным псом Королем Моргом. Король Морг под баян исполнит «Песенку Герцога» из оперы «Риголетто». Что за петрушка? Ведь Генка только что подобрал этого барбоса у хлебного магазина. Тетя Тося чуть его не вышвырнула, но ей понравилась белая полоска на груди в виде галстучка, да и мы заступились. Славка тут же присобачил ему имя – Королева Марго. Потом выяснилось, что это не королева, и щенок стал Королем Моргом.
– Из «Риголетто»? – воскликнул я. – Да ты что, Генк?
– Халтуркой попахивает, – заметил Борька. – Спорим, что он сорвет тебе номер!
– Почему?.. Не-ет! Король Морг поет – будь здоров! – уверенно заявил Генка.
– Когда же ты успел его научить? – спросил Славка.
– Я и не учил, он сам запел… Только я задел ноту «ми», он как гавкнет!
– Хм, – сказал Борька, – не зря, значит, галстук носит – артист.
Разложив на фанерке еду, Юрка распорядился:
– Жор, химики-мумики!
Пока друзья устраивались, я еще раз, более ревностно, проглядел программу. Мне стало досадно немного, оттого что концерт не срывается из-за нас, наоборот, вон какую афишу намалевали. Значит, есть мы или нет – безразлично, грош нам цена. Красиво!.. И еще я заметил, что среди номеров нет Томкиного. Все есть: Мирка, Нинка, Люська, Нинка даже дважды, а Томки нет. Что за фокус? Неужели она ничего не умеет?.. Я попробовал припомнить и уловить проблески какого-нибудь Томкиного увлечения, которое бы проскакивало в наших играх, но не смог. Она мне все представлялась хихикающей да закрывающей лицо руками. Играем «Из круга вышибало» – и то: увидит, что в нее целятся, все: захихикает, заслонится ладонями – ее, понятно, выбивают, ее выбивает даже мяч, катящийся по земле. Мирка с Нинкой увертывались от ударов не хуже любого мальчишки, прыгали – ноги выше головы, только Мирка со смехом переносила все игровые невзгоды, а Нинка то и дело вопила, что ей больно, что ей не по тому месту ударили и что надо иметь совесть. Менее живая Люська была зато серьезна и сосредоточенна – шиш ее просто так взять. А у Томки – ни хитрости, ни изворотливости. Если бы я не выручал ее галками, она бы, как бабушка, и сидела на крыльце. Да и в прятки я ее спасал…
Друзья уже нахрумкивали. Мне сунули мою долю лимонада в бутылке, я с кряком выпил и метнул бутылку к сараю. Она попала в низ стены и… воткнулась в нее горлышком, как нож в масло.
– Э! – прошептал я пораженно. – Смотрите!.. Бутылка воткнулась! Вон она…
Первым у стены очутился Юрка. Он выдернул бутылку, осмотрел стену и вдруг начал легко и бесшумно отделять от нее кусок за куском – доски оказались насквозь прогнившими. Когда образовалась приличная дыра, Юрка напролом сунул туда свою отчаянную голову и замер на четвереньках, как тот древний человек на рисунке из географии, который достиг конца света и выглянул за небесный свод.
Мы околдованно сидели вокруг.
Он долго не шевелился, мы уже заволновались, но тут Юрка выдернул голову и, вскинув руки, восторженно прохрипел:
– Вы! Это же склад!.. У-у, сколько там всего!..
– Ну-ка! – Я оттолкнул его и тоже – ширк! – в дыру.
Меня обдало холодом и мазутным запахом. Запыленная фрамуга едва пропускала свет, и это сгущало складское богатство. Там и тут истуканами чернели бочки и ящики, прогибались перегруженные стеллажи, дырчато пузырились на стенах какие-то панцири. И еще что-то стояло, висело, лежало… Я не успел разобраться – меня вытянули, и в дыру нырнул Борька.
Потом Славка.
Генка же, весь подобравшись, косился на отверстие, как на змеиную нору, а когда Юрка принялся деловито расширять ее, горячо и прерывисто дыша, крикнул вдруг:
– Ты что?
– Чш-ш!.. Не крякать…
– Да вы сдурели!.. А вдруг кто придет?
– Будь спок!.. Три года не приходили, а тут придут?.. В этих ящиках – шарикоподшипники, чтоб мне! По самокату обеспечено! – подогревал нас Юрка, понимая, что если все мы восстанем, то его затея провалится.
Но Генка не сдавался. Поднимая над бурьяном голову, оглядываясь и прислушиваясь, как камышовая птица, он шептал:
– Ой, пойдемте отсюда!.. Вовк, Славк, Борьк! – К Юрке самому он и не обращался, чуя, что тот невменяем. – Пойдемте лучше, а то будут нам и шарики и подшипники!
За наши души шла борьба, словно за раненных на нейтральной полосе фронта, как сказал бы дядя Федя, которого именно так и спасли. У Генки был особый нюх на нечестное, и, уловив его, он терялся начисто. Нюх этот был и у нас, но мы ближе, смертельно ближе подкрадывались к нечестному. Сейчас бы самый раз шикнуть на Юрку да шлепнуть его по рукам, а мы – нет, мы, затаивая дыхание, следили за его четко-настороженными движениями, и, когда он, кончив и мотнув над головой, дескать, за мной, первым вполз в склад, я с каким-то жжением в желудке, точно заглотил огонь, нырнул вторым, с радостью слыша, как пыхтит и процарапывается позади Славка, для которого лаз оказался тесноват.






