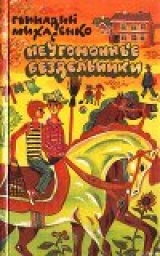
Текст книги "Неугомонные бездельники"
Автор книги: Геннадий Михасенко
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц)
Чуть прикасаясь к каким-то холодно-липким предметам, мы двигались осторожно-плавно, как лунатики. Нам ничего не нужно было, только ощущать опасность. А она тут была, как пульс – у самых ворот, откуда просачивался свет, где с перебоями и стрельбой чихпыхал мотор и о чем-то яростно спорили рабочие. Зайди кто – и мы пропали! Мы – преступники!.. Не зря нас Анечка и прочий оградный люд подозревали, ой, не зря!..
– Подшипники ищите! – хрипло напомнил Юрка.
Будто очнувшись, мы стали обшаривать ящики, где могли храниться шарикоподшипники. Нет, не для самокатов, которые мы никогда не мастерили, потому что поблизости от нас не было ни асфальта, ни деревянных тротуаров, искали просто так. А может быть, и взяли бы просто так, но в ящиках оказались болты с гайками разной величины да какие-то финтифлюшки. Юрка даже ругнул начальство за такой бедный выбор.
В углу, за высоченной стопой автопокрышек, мы с Юркой наткнулись на машинные камеры, наброшенные на деревянный штырь, на какие продавцы накалывают чеки, только больше, понятно. Юрка гмыкнул, оценивающе пощупал их и пересчитал вроде, потом фыркнул и коротким синичьим посвистом дал сигнал к отступлению.
К дыре, светлевшей на неопределенном расстоянии, мы отходили не спеша, как победители.
Увидя нас, Генка аж охнул от радости, живо заслонил отверстие радиатором, который приволок заранее, и тихо, втайне от остальных, спросил меня:
– Ничего не сперли?
Он, кажется, считал меня самым честным после себя человеком. Я улыбнулся ему, весело мотнул головой, мол, ничего, и мы, опять забившись в кабину, с новым голодом набросились на оставшуюся еду… Нет, никакие, к лешему, мы не преступники! Зря Анечка поклеп на нас возводила.
ТОМКИН СЕКРЕТ
Я сидел на кровати и в косых лучах солнца, прощально заглянувшего в наш каземат, просматривал новенькую «Геометрию», только что принесенную отцом. Я любил математику и теперь, любуясь треугольниками, ромбами, как таинственными письменами, заранее чувствовал, что с геометрией я отлично подружусь.
Мама с отцом ушли к тете Шуре-парикмахерше смотреть по телевизору какой-то балет. Своего телевизора у нас не было. Родители считали, что он, как змеиный яд, полезен только в микроскопических дозах, а в больших – убивает. И хоть я ручался, что меня не убьет никакая доза, даже лошадиная, они держались своей теории.
– Эй, Вовка!.. Гусь! – раздалось под окном, и по стеклу градом прозвенели щелчки. – На выход!
Это была Мирка.
Намаявшись за день с двумя своими горластыми братцами, вечером она вырывалась из дома и вихрем облетала двор, будоража и тормоша всю нашу братию, которой только этого и надо было.
Я выскочил – Мирка уже неслась прочь, к другим окнам и другим дверям. На бегу она обернулась, погрозила мне сперва, а потом поманила и – дальше. Молодчина! Из девчачьего полка я больше всех уважал Мирку, уважал как мальчишку, конечно, а не в другом смысле. В другом смысле мне хотелось скорее увидеть Томку. Я ее не видел со вчерашнего утра, когда она парусом проплыла по двору… А почему Мирка погрозила – ясно, потому что от концерта отмахнулись, хотя она могла и просто так погрозить. Нашему брату грозят все, кому не лень. Тут важно самому знать, есть за что или нет. Нет – хохотни и ответь тем же, есть – замри и не чирикай… Хорошо хоть из склада ничего не стянули, а то бы чуть где кулак – дрожи, что пронюхали. Значит, мы не такой уж пропащий народ, как судачат о нас некоторые кумушки.
Бодрый и радостный, я замкнул дверь, спрятал ключ в боковую трещину нашего кирпичного крыльца и метнулся к Славкиному, чуть наискосок. Славку Мирка почему-то никогда не вызывала, хотя и было сподручно.
Не застав никого ни в кухне, ни в гостиной Афониных, я на цыпочках прокрался в Славкину комнату и вижу – сидит наш Славчина за столом и что-то пишет. Я вытянул шею.
«Его дядя, безрукий еще с первой войны», – с трудом и с удивлением разбирал я Славкины каракули. Что он тут плетет, ведь у него же красивейший почерк!.. И вдруг я понял, что Славка пишет левой рукой!
– Что это? – спросил я.
Славка нервно перевернул лист и оглянулся.
– А-а, Гусь.
– Что это за писанина?
– Где?
– Да вон, которую ты перевернул.
– А, эта. – Славка опять перевернул лист и заскрипел стулом. – Это я тренируюсь.
– Левой-то?
– Да. – Он перестал мяться и спокойно пояснил: – Я теперь каждый день по пятнадцать минут пишу левой рукой.
– Зачем?
– Надо… Вот послушай. – Славка придвинул лежавшую сбоку открытую книгу и, мягко постукивая зубами, прочитал: – «Его дядя, безрукий еще с первой войны, часто сетовал на то, что в юности не научился владеть левой рукой так же, как правой – не испытывал бы он теперь неудобств и не злился бы попусту…» – Славка отложил книгу и с важностью посмотрел на меня, ну, мол, как, съел?
Но я ничего не понял и спросил:
– Ну и что?
– А то!.. Чтобы потом не сетовать, я сейчас учусь писать левой рукой.
Это было так неожиданно, что я сначала растерялся, потом пораженно воскликнул:
– Ты собираешься стать безруким?
– Нет, но в жизни все может быть… Бац – и оттяпает!.. Другой захнычет, а я спокойно левой, как правой!
Тут до меня все дошло.
– Да-а, – протянул я. – Тогда заодно учись и ногами писать, а то вдруг – бац! – и обе руки оттяпает! Другой захнычет, а ты спокойно достанешь обе ноги и – как ни в чем не бывало!
– А что? Вон в цирке ногами рисуют, – невозмутимо согласился Славка.
– Во-во! – подхватил я, начиная злиться. – И зубами научись тоже, на всякий случай! Вдруг и руки и ноги отлетят! Все будут хныкать, а ты достанешь зубы и – только держись!
Поняв, наконец, что я его разыгрываю, Славка улыбнулся:
– Ну-у, насочинял!.. Я ему про одну левую, а он и ноги, и зубы приплел.
Я тоже успокоился и, хлопнув его по плечу, сказал:
– Чудило, никуда твоя правая не денется, войны не будет, не беспокойся. Кончай, в общем, эту петрушку, пошли на улицу, Мирка зовет… Из книжек надо брать хорошее, а не всякую ерунду. Нашел же – если оттяпает! – Представив, как Славка ногами делает домашнее задание, я коротко усмехнулся, и вдруг толчок изнутри затряс меня в таком безудержно-издевательском смехе, что я насилу унялся, и то потому, что Славка начал хмуриться. – Извини, Славк… не могу… Ну, сам представь…
А заводить нашего друга было опасно.
Этот простодушный и тихий здоровяк мог любого из нас стереть в порошок и пустить по ветру, даже меня, дойди до этого, самого старшего в нашем кругу, но он был всегда до возмущения сдержан. То, что трижды взбесило бы Юрку или, положим, Борьку, Славку не трогало. И уж если кто сверх-сверх… Беда ждала того. Нет, он не дрался. Без криков и угроз, какие обычно бывают в потасовках, он внезапно стискивал противнику плечи своими ручищами и прикладывался головой. Раз он врезал Юрке по плечу, и тот с неделю постанывал, не поднимая руку. Втайне я опасался, что однажды разозлю Славку и буду валяться где-нибудь с проломленным черепом.
Хороший парень Славка. Хоть я чаще бывал с Борькой, но тянуло меня больше к Славке.
– Слушай, а чего это Мирка не лупасит в твое окно? – с многозначительным прищуром спросил вдруг я. – Ко мне лупасит! К Борьке лупасит! Генку почти за шиворот вытягивает из дома, а тебя как будто и нет, а?
Он глянул на меня не то смущенно, не то виновато и сказал:
– Не знаю… А чего это Томка к тебе приходила?
– Когда? – вспыхнул я.
– Вчера утром. Наряженная, как фея, а ты, как цыпленок, высунулся из сеней!
Не знаю, на каких буквах щелкают Славкины зубы, но эту фразу он всю опечатал прямо.
– Шпионил, Славчина!
– А что мне, в подполье лезть, раз вы перед носом свидание назначаете?
– Какое свидание, балда?
– Десять минут беседовали, засекал.
– Не ври! И минуты не говорили!
– Влюбленные часов не замечают, – изрек со вздохом Славка.
Я так и остолбенел, немигающе уставясь на него. В глубине души я обрадовался Славкиным словам, а внешне хотел рассердиться, но, чувствуя, что это у меня не получится, чуть слышно спросил:
– Неужели заметно?
– Ага.
– Здорово?
– Ну, заметно.
– Вот черт! Петрушка какая-то выходит!.. Надо мне поосторожней! – озабоченно проворчал я. – И все равно, Славк, вчера утром было не свидание. Чтоб мне лопнуть. Томка по делу приходила, насчет концерта. Пришла и постучала. Я даже спал, – приврал я для правдоподобия. – А если б свидание, я бы разве спал?.. Только дураки на свидании спят. И тут стук.
– Вот видишь, к тебе все стучат, а ко мне никто, – как-то грустно заметил Славка.
Я воскликнул:
– Балда! Ты ничего не понимаешь!.. Томка потому и не стучала ко мне сроду, что… это самое!.. Вот!.. И Мирка поэтому не стучит к тебе! Влюбилась она в тебя, понял?.. Поверь моему опыту!.. Так что мы с тобой живем, Славенций!
Славка густо покраснел. Такой крупной физиономии нужно, казалось бы, долго наливаться стыдом, но она вспыхнула мигом, как будто ее включили. Я даже насторожился, уж не сгребет меня Славка сейчас и не долбанет ли своим чугуным лбом, но он мирно буркнул:
– Пошли, Дон-Жуан.
К вечерним играм мы обычно сходились на крыльце Куликовых, в среднем из пяти домов. Когда мы со Славкой явились, все уже были в сборе, кроме Юрки, который опять, наверно, умотал к своим новым приятелям.
Мирка за что-то пропесочивала Борьку и стукала его по колену кулаком. Борька вроде бы в припадке хохоча корчился и беззвучно кривил рот. Люська, чуть откинувшись, сурово смотрела в небо. Томка, бочком пристроившись позади нее, переплетала Люськины косы и с улыбкой что-то нашептывала ей на ухо. Генка, отодвинувшись от егозливого Борьки, смирнехонько помалкивал. Сердито-скучная Нинка стояла внизу, переминаясь с ноги на ногу и сцепив за спиной худые руки, стояла, как растерянный дирижер перед разболтанным оркестром.
– Вот он! – обрадованно указал на меня Борька. – Ругай его, он виноват.
– В чем? – спросил я, перехватив мимолетный Томкин взгляд.
– А! – поморщилась Мирка. – С кем бы добрым говорить, а с вами!.. Сдрейфили, да, выступать?.. Слабаки!.. А пацаны еще!.. Ладно, обойдемся! Вот завтра увидите, на что способны одни девчонки.
– А Генка-то, – напомнил Борька. – Наш кадр!
– Фиг он ваш! – В воздухе между мной и Борькой стрижом мелькнул кукиш. – Вам до Генки ого-го!.. Ладно. Давай, Нин!
Нинка, хлопнув в ладоши и сразу повеселев, объявила, что она садовник. Это означало, что все прочие – цветы, которым нужно срочно попридумывать названия. Выбрать цветок – штука серьезная, и все притихли.
Первым встрепенулся Генка. Взметнув руку, как в школе за партой, и даже привскочив, он торопливо, точно его могут перехватить, выпалил:
– Колокольчик!.. Я колокольчик!
– Правильно, – поддержал его Борька. – Ты у нас, Генк, человек хороший, и цветок у тебя хороший, любить будут – заойкаешься, а я лопух, – представился он – попробуйте, мол, влюбиться.
– Лопух не цветок, – заметила Нинка.
– В саду все растет, – отпарировал Борька, и Нинка только презрительно дернула губами, дескать, как хочешь, но уж любви моей не жди.
– Астра, – выдохнула Люська, все еще глядя в небо.
Прикинув так и сяк, я пророкотал:
– Рододендрон!
На меня глянули почтительно-удивленно. Томка даже перестала плести и склонила голову к плечу. Знай наших – и завлеку, и озадачу.
Славка кусал-кусал ногти и брякнул:
– Флокс.
Мы с Борькой так и повалились на спины. Этот кит, мамонт, баобаб – флокс, видите ли! Ой, мама, воды!.. Мирка, ширнув Борьку локтем и прицелясь одним глазом куда-то в огороды, крикнула:
– Настурция!
– Настырция ты, а не настурция, – поправил Борька.
– Я те дам, лопушина!
А я гадал, кем же будет Томка: мальвой, бегонией, орхидеей или каким-то неведомым цветком, и не знал еще, влюбляться мне в нее при всех или нет. Игра игрой – да мы-то не игрушечные. Влюбляться, – значит, опять выказывать себя, а не влюбляться – ну как это не влюбляться, когда само влюбляется… Как будто чувствуя мои метания, Томка медлила, все плетя и плетя Люськину косу, пока, наконец, садовничиха не подхлестнула:
– Том, а ты кто?
– Никто пока. Доплету вот…
– Господи, потом доплетешь!.. Люська, да отбери ты у нее косы!
– Все равно не хочу, – упрямо сказала Томка и надулась.
– Вечно она с фокусами! – фыркнула Нинка и начала со злым подвывом: – Я садовником родился, не на шутку рассердился, все цветы мне надоели, кроме… Колокольчика.
Генка ойкнул – и пошло… Сперва влюблялись робко и с раздумьями, потом поднаторели, и любовь вовсю закружилась, зазвенела на крыльце. Больше всех доставалось Лопуху, только Нинка так и не признала его. А Флокс неожиданно как зарядил – Настурция да Настурция, так и жал – я, видно, чересчур повлиял на него. Меня особо не баловали, да мне и не игралось без Томки, хоть я и хорохорился. Нет, Томка не ушла, она так же сидела за Люськой, обняв ее за плечи, и часто переглядывалась со мной, но все мы были цветами, все мы были в том далеком, сказочном саду, а она была тут, вот на этом занозистом крыльце. И это разделяло нас страшнее, чем если бы она улетела на луну. А я хотел быть с ней в одном мире, и, когда Настурция в очередной раз призналась, что влюблена в зануду-Рододендрона, я завопил:
– Никого не люблю!.. Где солнце?
Все шумно схлынули с крыльца, запотягивались и завертелись.
Солнце опускалось за вокзал. На наших глазах исчезла его малиновая макушка, и прохладный воздух, до сих пор таившийся в огородной зелени, потянул-потянул сквозь планки забора и потек по двору, как по каналу. Настало время наших пряток.
– Чур, считаю! – крикнул я, и тотчас образовался круг.
Считал я ловко, водящего выбирал заранее и почти никогда не ошибался.
Ули-дули, доф,
Кинди-лада, коф,
Кофе-лада,
Кинди-лада,
Ули-дули-доф,
быстро отмолотил я несколько раз, и Генка, не успев сообразить, что к чему, отправился к сарайчику водить.
Кинулись кто куда. Я – на улицу. У ворот оглянулся – Томка бежала следом. Бегала она плохо, как-то боком и тяжело, как будто не воздух, а воду рассекала. Я схватил ее за руку, и мы свернули в палисадник, где было уже совсем сумрачно. Проскочили один палисадник и в конце второго спрятались под акацией, под которой днем метали ножичек.
– Ну вот, тут нас нескоро найдут, – уверил я, зябко ежась от радости, что остался, наконец, один на один с Томкой. – А если не вылезем, то вообще… Удобно, Том?
– Ага, – ответила она, еле переводя дыхание.
– Попробуй найди тут нас – Я кашлянул, прочищая горло. – Забились в самые дебри Уссурийского края… Том, так это, слушай, мы не нарочно отказались от концерта. Честное слово! Зря Мирка кричит… Просто так получилось. Не знаю, что вам там плел Борька, но…
– А я и не слушала, – перебила Томка. – Все прямо помешались на концерте!.. Концерт да концерт, подумаешь!.. Да еще Анечкин огород!
– А что, мы и там не виноваты! Я уже Мирке говорил.
– Опять Мирка!.. Ну, и нечего было со мной прятаться, раз ты без Мирки не можешь! – обиженно выпалила Томка и опустила голову.
Кое-как проглотив какой-то мерзлый ком в горле, я сказал:
– И вовсе могу без нее.
Томка глянула исподлобья, выше подняла лицо, улыбнулась и проговорила:
– А я знаю, почему ты бросил играть в садовника… Потому что я не играла. Да ведь?
– Да, – тихо признался я. – Я хотел сразу бросить, да Мирка опять, тьфу ты, черт, навязалась на язык!.. Ну, опять завопили бы, что мы ничего не хотим: ни концертов, ни садовников!.. Вот… Да, Том, а почему тебя в программе нет?
Она сперва будто не поняла вопроса, потом коротко бросила:
– Да так.
– Хитрый номер, да?
– Нет. – Она дернула плечами, водя пальцем по земле, потом отряхнула руку и подобрала под себя ноги. – Я просто не выступаю, вот и все.
– Как? – удивился я.
Она покосилась на меня и ответила:
– Не выступаю… Я ничего не умею.
– Ну да-а, – лукаво протянул я. – Каждый человек что-нибудь да умеет… Нет такого, кто бы ничего не умел.
– Есть. Я.
– Чудачка. – Я не очень весело, но рассмеялся. – Что-то же ты умеешь, только надо подумать.
– А я и думать не умею, – сказала она, и мне стало так стыдно, как будто я обозвал ее дурой, но Томка и не поняла, и не заметила этого стыда и бодро заявила: – Я уезжаю… На Черное море… В Крым… С родителями… Недели на три… Ты будешь скучать без меня? – спросила она и чиркнула меня пальцем по колену.
Не задумываясь, я сказал:
– Буду.
Она рассмеялась, пряча лицо в ладонях, потом смолкла, наклонилась ко мне и, коснувшись губами уха, прошептала:
– Вов, я знаю про тебя секрет!
Меня прошиб холодный пот.
– Какой секрет?
– Не скажу пока.
– Почему?
– Потому что – это секрет.
– А когда скажешь?
– Не знаю… Я больше ничего не знаю, – протянула она, закрыв глаза и покачивая головой, потом вдруг быстро, по-птичьи, клюнула меня губами в щеку, задохнулась на миг и, выскользнув из-под куста, убежала.
Какое-то время, зажав рукой поцелуй, как пойманную бабочку, я сидел обалдело-недвижно, потом отнял руку и глянул на ладонь, точно ища на ней что-то, и вдруг вскочил, задирая ветки акации, и, подхваченный ураганом счастья, бросился за Томкой.
Генка зачикал меня последним, водить, значит. Я уткнулся лбом в согнутый локоть и с радостью закрыл глаза. Мне нужны были темнота и одиночество. Я даже забыл, что надо считать до десяти, а сразу как провалился и опомнился тогда, когда рядом кто-то запыхтел.
Это был Славка, загнанный и потный.
– Ты чего не прячешься, Флокс? – спросил я.
– Как не прячусь?.. Я уже крюк дал и прибежал чикаться.
– Да?.. Хм. Ну, тогда чикайся, а остальных я!..
Как я водил в этот раз! Как артист! Как фокусник! Я шмыгал по двору охотничьей собакой, я улавливал слабейшие шорохи и малейшие движения подкрадывающихся. Я застукал всех, даже Томку – по инерции. Мы играли еще и еще, но больше я с ней не уединялся, почему-то не хотелось, мне хватало ее случайного взгляда.
Вскоре появилась тетя Тося Головачева, вежливо напомнила нам о времени и об утреннем собрании. Генка, пятясь, раскланялся с нами, как будто сцену покидал. Тут же попрощались Люська с Борькой – они жили рядом в другом конце двора. Ушла и Нинка, и наша троица двинулась восвояси. Мирка осталась одна-одинешенька, тоскливо поглядывая в нашу сторону и уже думая, может быть, о завтрашней маяте. Это ужасно – когда друзья еще вместе, а ты уже один.
– Славк, махни ей, – шепнул я.
– Зачем?
– Зачем, балда!.. Что тебе, тяжело? Как на крыльце, так провлюблялся с Настурцией весь вечер, а как взбодрить человека на прощание – так нет, флоксина-мопсина!
И я сам помахал, но Мирка показала мне кулак.
– Намахал! – буркнул Славка.
– Это она любя.
Славка вздохнул и рукавом прошелся по лбу. От бедняги пыхало жаром, как от нашего самовара. Беготня давалась ему нелегко. Свою полноту он старался скрыть тем, что носил узкие штаны, до того узкие, что, будь они чуточку пошире, они все равно оставались бы узкими. В карман даже рука не лезла.
– Вовк, ты никому не рассказывал про это, про мою писанину левой рукой?
– Нет.
– Забыл?
– Не забыл. Тебя бы дразнить начали.
– Верно… Я, пожалуй, брошу ее, эту левую руку.
– Конечно брось. Это ты, Славк, так, сдуру.
Небо уже погасло. Из тополей, которые тучами громоздились за домами, сочился во двор густой сумрак. В окнах вспыхивал свет, на крылечках отдыхали люди. Кое-кому мы желали спокойной ночи, кое-кто ворчал нам в спину.
Томка шла впереди шагов на пятнадцать.
– Смотри, оглянулась, – прошептал Славка. – На тебя.
– А может, на тебя.
– Может, путает – она же близорукая.
Я улыбнулся и ничего не ответил. Мне было хорошо: и оттого, что я влюблен в Томку, и оттого, что Славка это понимает, и оттого, что Томка знает про меня какой-то секрет.
– Пока, – сказал мой друг.
– Пока.
Я задержался у дверей, глядя на темное Томкино крыльцо. Мне вдруг подумалось, что Томка затаилась в сенях и ждет, когда я останусь один. Ну, вот я остался один, выходи, скажи, что за секрет ты знаешь!.. Никого… Тишина…
КОНЦЕРТ
Спохватившись, что родители вот-вот придут с работы, а на столе груда грязной еще с обеда посуды, я схватил ведро и помчался в кочегарку.
Дядя Илья, голый по пояс, в брезентовых штанах и в незашнурованных ботинках, подкармливал топку одного из котлов. Другой стоял холодный, отдыхал. Истопник работал просто и четко: с маху вонзал округлую совковую лопату точно в границу между углем и полом, как в горизонт, подтягивал ее и прямо с пола мощным швырком метал уголь в ненасытную пасть, где бились, пожирая друг друга, огненные языки…
Разлилась река
Во все стороны,
почему-то вспомнил я чьи-то стихи… Эх, и любил же я иногда зимой, пробежавшись налегке по морозцу, ворваться в этот рай и замереть перед топкой, растопырив руки, чтобы тепло доползло до самых подмышек… И еще любил, договорившись с дядей Ильей, привести сюда вечерком своих друзей – в душ, привести украдкой, потому что вход посторонним в кочегарку был строго воспрещен, а ну как подсунут что-нибудь под котел – и прачечная разлетится, и мехмастерские. Моясь под этим засекреченным душем, мы чувствовали себя почти контрразведчиками…
Разлилась река
Во все стороны, —
опять повторил я про себя, удивляясь, откуда же явились эти строчки.
Дядя Илья оставил лопату торчать из угля, как зенитку, чтобы потом сразу схватить ее, захлопнул дверцу топки и обернулся. На его потном чумазом лице, с крупными порами, забитыми угольной пылью, держался еще азарт работы и вроде даже отсветы пламени, от чего он казался моложе, хотя ему было уже далеко за сорок.
– А-а, Володя, привет.
– Здрасьте, дядя Илья… За водой вот. – Я качнул ведро.
– Бери.
Он сел на лавку, достал из висевшей на гвозде куртки кисет с газетным клочком и принялся крутить цигарку. Я прошел за котел к вмурованному в пол баку, из люка которого валил густой пар и где что-то постреливало, нацепил ведро на тут же лежавший крюк и с его помощью зачерпнул кипятку.
– Ну, как там, ничего нового не слышно? – спросил дядя Илья, когда я поравнялся с ним.
– Где?
– Да на складе на вашем.
– На каком?
– Ну, брат, ты навроде чеховского мужика, который гайки от рельсов отвинчивал ему вопрос, а он два… На бельевом, понятно. Разве не говорил отец?
– Нет. Он еще на работе.
– А, ну тогда вопросов не имею.
Но я поставил ведро и заинтересовался:
– А что там, дядя Илья?
Кочегар затянулся, размышляя, наверно, продолжать разговор со мной или нет, пустил струю дыма, как котел пускает лишний пар, и сказал:
– Да жуликов, говорят, раскрыли.
– Каких жуликов?
– Опять – каких… Откуда мне знать. Сам, вишь, любопытствую… Говорят, старое белье за новое пускали… У них, говорят, порядок такой: списали белье уничтожь, и они будто бы топором его, по живому.
– Топор я слышал, – подтвердил я, вспомнив Борькин вопрос.
– Ну, вот… Отдай народу, если негоже, а не тюкай! – крикнул дядя Илья. Не тюкать-то додумались, а до народа где там. Себе! Да мало – крупнее жульничать понесло!.. Тьфу, бесстыжие! – кочегар сплюнул и бросил окурок в поддувало.
– А при чем тут мой отец? – встревожился я.
– Завхоз, как-никак. Может, подробности какие.
– Хм… Ну, ладно, дядя Илья, я пошел.
Странно, Борька обратил внимание на топор, а я – хоть бы хны. За стеной жулики, а я спокойненько в шахматы наяриваю!.. Испускали бы мошенники какие-нибудь лучи воровские, их бы сразу – приборчиком, а то ведь такие же люди, как все.
Кипяток плескал на ботинки, на штаны, обжигал колени, я только дрыгался, крякал, да менял руки.
Разлилась река
Во все стороны,
снова прозвучало во мне. Чьи это стихи? Чего они ко мне привязались? И без окончания… Пушкина?.. Нет, вроде… Может, из «Деда Мазая и зайцев», там тоже наводнение?.. Нет, там по-другому… И вдруг мне захотелось, чьи бы ни были строчки, закончить их, чтобы складно было. Рифма – хоть килограмм: река – дурака, чеснока, свысока. Вон сколько! Дурака, конечно, не надо в наводнение впутывать, а то еще утонет, а вот «свысока» – хорошо, сразу много получается: и река, и небо, и в небе – самолет или птицы. Лучше птицы, стаями, тревожно – ведь наводнение. Кстати, стороны – вороны самая та рифма. Ага-а, стишки, попались!
Я не заметил, как оказался дома, как начал мыть посуду, и, лишь ополаскивая последний стакан, опомнился, потому что стих, наконец, получился.
Разлилась река
Во все стороны,
Зырят свысока
Злые вороны, —
продекламировал я и вдруг понял то, что все стихотворение – мое. Все! Никаких Пушкиных и дедов Мазаев! Мое! Просто первые строчки как-то сами сочинились, а последние сочинил я сам. Ну, и Гусь! В поэты попал!.. От восторга у меня пересохло горло, я нацедил самоварной воды, чокнулся со своим уродливым отражением в самоваре и выпил.
Было полседьмого, а родители не приходили. Я забрел в спальню и, прислушиваясь, уставился на ядовито-желтое пятно на стене, которое потому, наверно, и пожелтело, что сочились из склада какие-то нечистые пары, раз там жулики. Смутно-смутно доносились голоса. Я забрался на спинку кровати и припал к стене ухом. Голосов было много, и много каких-то шуршаний-шелестений. Значит, разбираются. Может, уже и милиция нагрянула.
– Ай-ай-ай, Володя, нехорошо! – донеслось вдруг, как мне показалось, из-за стены, и от неожиданности я чуть не брякнулся на пол.
За косяком кто-то прыснул. Я, сжав кулаки, бросился в кухню. Конечно, это был Борька. Извиваясь от смеха, он бессильно поднял руки.
– Сдаюсь!
– Нет уж, хохотун! Ты меня сколько раз пугал! – крикнул я и для проучки влепил ему щелчок.
Борька притворно сморщился и, почесывая лоб, зашипел:
– Ну, Гусь!.. Хотел до концерта отомстить ему за вчерашний проигрыш, а нарвался на мордобой… Конечно, так легко: сперва дураком делать, а потом обыгрывать.
– Тебя и кувалдой не свихнешь, мститель! Сколько до концерта?.. О, хватит на партию, садись, проверю, что ты за мститель, остра ли у тебя шпага.
Мы начали.
Борька решил ошеломить меня и первые восемь ходов сделал пешками. Это меня не ошеломило. Я спокойно развил свои фигуры, рокирнулся и кинулся в атаку. Борька задумался и закрякал, набирая под верхнюю губу воздух. Поздно задумался, уже трех пешек и слона нет, теперь крякай не крякай – крышка.
– Петрушка, Боб, получается, – заметил я. – Утром тебе не везет, вечером – тоже.
– Похоже, – согласился Борька.
– Так всю жизнь и промаешься, если книжки по шахматам читать не будешь… Вон их у меня сколько, бери.
Борька глубоко и печально вздохнул и, после того как я с шахом взял у него конем ферзя, молча смахнул с доски всю свою черную армию. То ли Борькина печаль, то ли эта разлетевшаяся черная армия напомнили мне вдруг сочиненное стихотворение. Я вздрогнул, поймал Борьку за руку и прошептал:
– Слушай, Боб, я стихи сочинил!.. Сам! Понимаешь?.. Ничего ниоткуда, ни слова, все сам! – Борька поднял на меня серьезные глаза. – Хочешь прочитаю? Слушай! – И, задрав лицо к потолку, я протрубил:
Разлилась река
Во все стороны,
Зырят свысока
Злые вороны.
Ну как?
Я знаю, что у Борьки критический нрав, а проигрыш мог распалить его еще больше, но стихи мне казались такими безгрешными, что к ним просто невозможно придраться.
– Ничего, – сказал Борька, чуть подумав. – Только страшновато: и река разлилась, и вороны.
– Наводнение, – пояснил я, ликуя.
– А-а, и по воде, наверно, утопленник плывет.
– Почему? Никаких утопленников! Вода чистейшая!
– А чего тогда воронам зырить?.. Они что, дураки, что ли, зырить на чистейшую воду!
– Хм… Ну, ладно, пусть утопленник, – согласился я горько, потому что именно от этого вся картина стала страшной.
Борька что-то прикинул и произнес:
– Теперь лучше… А кто утопился?
– Я откуда знаю! Ты же сам придумал.
– Так из-за твоих же ворон, – оправдался Борька.
– Не ворон, а воронов! – зло поправил я.
– Какая разница!
– А такая, что у ворон нету рифмы, а у воронов есть! – прокричал я. – И хватит!.. В стихах ты хуже разбираешься, чем в шахматах!.. Тебе только покойников подавай!
Борька небрежно усмехнулся, поставил на доску белую пешку и щелкнул ее по голове. Я решил, что под белой пешкой он имеет в виду меня, выдвинул на середину черную пешку и так долбанул ее, что она сделала двойное сальто-мортале. Под ней я подразумевал, конечно, Борьку. Он это понял, и мы вместе отходчиво рассмеялись.
– Боб, уже семь! – спохватился я и опять глянул на желтое пятно, точно обвиняя его в отсутствии родителей.
Борька уловил мою тревогу и спросил:
– Ты чего сегодня к складу прицеливаешься?
– Да так, – уклончиво ответил я, не желая посвящать Борьку в темные складские делишки. – Айда на концерт.
Мы зашли за Славкой, за Юркой и отправились.
У крыльца Куликовых уже теснились двумя рядами стулья, табуретки и даже одна скамейка, опертая одним концом на чурбак, потому что была без ножек. Взрослых пока не было, зато мелюзга, пища и повизгивая, барахталась клубками, спихивая друг друга с двухметровой доски, специально, видно, положенной для них на землю. Карапузам этот живой концерт – зрелище ого-го-го! А то у них ни песочниц, ни качель, ни лесенок – ничегошеньки, один шлак у забора да картофельные очистки.
Мы уже заранее выбрали себе место – на дровянике. Он стоял, врезавшись в огород, прямо против сцены. По углу вскарабкавшись, как коты, мы улеглись на ржавую крышу так, что видны остались одни наши макушки.
Сени Куликовых были открыты, там чувствовалась возня и нервозность. На крыльцо выскочила Нинка, в царском венце с лентами, в марлевом пышном платье до пят, и стала привязывать веревку поперек сцены. У нее не клеилось, она злилась, дергалась. А у меня даже ладони зачесались – эх, как бы я сейчас эту веревочку натянул!.. Наконец, кое-как, с провисом, закрепив ее и перекосив свой царский венец, Нинка шмыгнула за кулисы, мелькнув марлевым подолом.
– Для занавеса! – хихикнул Юрка. – Химики.
Хмыкнул и Борька, но заинтересованно.
Закутанная в черную цветастую шаль, пробежала Мирка. Вернее, не пробежала, а не знаю, как это назвать одним словом, потому что Мирка не просто бегала, а вертелась на бегу, прыгала боком, по-сорочьи, и скакала задом. Копошащихся малышей она перемахнула, как костер.
– О! – крякнул уважительно Юрка. – Ха, гляньте, – дрессировщик с волкодавом!
Это был Генка, в черных брюках и белой рубашке. Круто изогнувшись, он тащил тяжеленный футляр с баяном. Рядом, чуть выше Генкиного ботинка, преданно семенил Король Морг. Мы свистнули Генке. Он натужно улыбнулся нам, махнул рукой и, пыхтя, поднялся на крыльцо. Король Морг метнулся на нижнюю, самую высокую ступеньку, сорвался и заскулил. Малыши подсадили его, и дальше полез он сам, прямо по-пластунски. Наверху щенок наткнулся на козявку, наверно, потявкал на нее, заходя с разных сторон, ударил лапой, понюхал, фыркнул, тряхнул большой ушастой головой и уплелся в сени.
Выскочил Генка и с неожиданной проворностью подтянул веревку, а тут же подоспевшие Мирка с Нинкой подвесили к ней на прищепках две простыни, которые тотчас превратили крыльцо в настоящую сцену.








