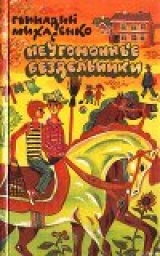
Текст книги "Неугомонные бездельники"
Автор книги: Геннадий Михасенко
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 11 страниц)
– Один – ноль, – сказал он. – Все, завожу таблицу Не против?
– Давай! – согласился я радостно.
Тут на волейбольной площадке засвистели, закричали – к нам катился мяч. Женька вскочил, поднял его и так пнул, что он чуть не вышел на орбиту спутника.
КРИК НА РЕКЕ
Утром чуть свет, часов в десять, я помчался к Куликовым.
Нинка с матерью пили чай. Они жили вдвоем, отца не было, только на стене висела его нечеткая коричневая фотография. Нинка вскочила, бросив недопитый чай, утянула меня в спальню, усадила и, тыча костлявым пальцем в листки на столе, возмущенно воскликнула:
– Ведь эта фифа наотрез отказалась играть!.. Хоть, говорит, зарежьте!.. Надо убирать роль. А тут все связано!
– Не надо убирать, – сказал я. – Я нашел, кто будет играть ее. Девчонка из соседнего двора.
– Но-о? Вот красота!
– В пять часов я приведу ее на репетицию.
– Почему в пять? В три.
Я прошептал:
– По «Союзу Чести» вышел приказ – на реку! А к пяти вернемся.
Нинкины глаза как будто налились дегтем.
– Да? Ну и пожалуйста! Можете вообще!.. – Она вдруг маханула со стола все листочки прямо в королевский угол и отвернулась вместе со стулом.
На шум заглянула тетя Шура и, увидев разлетевшуюся бумагу, спросила:
– Что это за фырк?
– Да вот, – замялся я смущенно, – я говорю: пойдем на речку, а она – репетировать.
– На речку – и никаких разговоров! – пристрожилась тетя Шура. – В такой день задыхаться в квартире!
– Ничего подобного, в квартире прекрасно! И никуда я не пойду! – отрезала Нинка.
– Ты же позеленела вся со своими куклами и пьесами. Сходи проветрись, клушка. И у бабушки, наверно, из избы не вылазила – не порозовела даже. Посмотри на Вову!.. Вова, потолкуй с ней по-мальчишески!
– А бить можно? – спросил я.
– Можно.
И тетя Шура ушла.
И я бы давно ушел, если бы Нинка не нравилась мне сейчас больше других девчонок во дворе. Будь она еще чуть повеселей, попроще и – совсем бы хорошо. Она и в сказку столько понапихивала серьезного, что я разбавлял ее шутками, разбавлял, но так и не разбавил.
– Беги купайся, чего ты, – сказала Нинка, не оборачиваясь.
– А ты?
– Я сказала – не пойду!
– У нас камера будет! – как высшую приманку ввернул я.
– Подумаешь! – бросила она через плечо. Конечно, где ее удивишь настоящей камерой, была бы кукольная!
Уже устав от уговоров, я заявил:
– В конце концов, можно и на пляже репетировать.
– Ну, знаешь что! – Тут она обернулась и окатила меня презрением с макушки до пят. – На пляже можно ходить вниз головой, а чтобы ставить пьесу, надо голову вверху иметь, ясно?
Я поднялся и ушел. Это тоже мальчишеский разговор – молча подняться и уйти.
Предстояло еще выручить камеру из подпола. Славка сказал, что хоть это и пятиминутная операция, но один он с ней не справится – мать с отцом мешают. Все сводилось к тому, чтобы на пять минут обезвредить его родителей. Случайного ухода нечего было и ждать. Если тетя Валя еще бегала туда-сюда, то дядя Вася, работавший проводником, после поездки сиднем сидел дома. Правда, он часами загорал на крыльце, но кто мог поручиться, что в следующие пять минут дядя Вася не встанет и не ввалится в кухню попить, например квасу? Вот его-то, любившего иногда сгонять партию-другую в шахматы, я и взялся обезвредить.
В половине двенадцатого Борька занял пост в палисаднике, против окна Афониных, а я, гремя доской, вырос перед дядей Васей, как новорожденный груздок перед старым мухомором. Дядя Вася, в майке, пижамных штанах и в широкополой соломенной шляпе, своим телом занимал полкрыльца по фронту и столько же в глубину. Он просматривал Скопившиеся газеты и почему-то двигал челюстями, как будто после осмотра съедал газеты.
– А-а, соседик! – рокотнул он и жестом пригласил сесть.
Я с доской еле уместился на остатке крыльца, и мы начали. Дядя Вася играл по пятому-четвертому разряду, но думал по-гроссмейстерски. Это было кстати. Славка виселицей склонился над нами, как будто что-то понимал в шахматах, а сам один глаз – на доску, другой – на мать. И едва она сошла вниз и занялась чем-то на клумбе с тетей Шурой-парикмахершей, он в кухню – шмыг! А я впился в часы на волосатой руке дяди Васи. Минута… Две… Три… Четыре… Тетя Валя поднялась на крыльцо вместе с появлением Славки, который подмигнул мне, мол, все в порядке, сдавайся. Я, уступая тете Вале дорогу, сказал:
– Вы бы хоть раз, тетя Валя, поболели за дядю Васю, а то он мне нынче все партии продул, то есть проиграл!
– Ой, Вова, не потому он проигрывает, что я не болею, а потому что за своим животом фигур не видит, – весело ответила тетя Валя.
Я рассмеялся и вроде бы из-за смеха оставил под боем коня. Дядя Вася съел его и так потер ладони, что запахло гарью. Я скорчил жалкую мину и сдался, но пригрозил завтра же отомстить.
– Давай-давай, соседик, – колыхаясь, сказал дядя Вася.
В палисаднике мы собрались только впятером – Нинка так и не пошла, Генку мать не пустила, узнав, что идем без взрослых, а Томку никто не видел. Славка встал к насосу и включил свои рычаги. Мертво-холодная камера, вздрагивая то одним боком, то другим, ожила и стала подниматься. Мы повернули ее на попа, и она раздулась в такую громадную черную баранку, что оказалась с нас ростом. Мы дикарями плясали вокруг нее, пролазя в дыру, как в волшебное окно. А тут из пропила высыпали соседи во главе с Марийкой, и камеру свою мы выкатили из кустов им навстречу, как тяжелую артиллерию в бою. Те, вскидывая руки, точно сдаваясь, с криком перебежали к нам и давай щупать, давить, взвешивать ее, гадая, сколько человек она удержит на воде. Решив, что удержит всех, мы двинулись, запружая тротуар.
Туннель под железной дорогой, потом кривая пыльная улица, потом широкий и пологий спуск к реке – все это за новыми разговорами мы протопали быстро и очутились на пляже.
Вдали, выше по течению, чернел новый мост, там недавно открыли второй пляж, поэтому наш поредел, но все грибки были заняты, да и так, вне грибков, хватало народа. Где-то кто-то горланил допотопную тесню про пташечку-канареечку, которая жалобно поет, где-то кто-то бил по гитарным струнам. Под десятками завистливых глаз мы, разувшись, побрели вдоль берега у самой воды, подыскивая местечко посвободнее.
– Смотри-ка! – Борька толкнул меня локтем и кивнул в сторону.
Под перекошенным грибком возлежала наша дорогая и давно не виданная гоп-компания: Юрок, Блин, Дыба и Кока-Кола резались в карты. Они тоже увидели нас и подняли головы, а Юрок, наоборот, прижался к песку. Блин пронзительно свистнул, и вдруг они разом грянули:
Соловей, соловей, пташечка,
Канареечка
Жалобно поет
Раз поет!
Два поет!
Три поет!
Обернется и поет
Задом наперед!
На миг я подумал, что не меня ли, то есть Гуся, они имеют в виду под пташечкой, по усмехнулся и спокойно сказал:
– Мымры-то водоплавающие! – Нас было слишком много, чтобы думать об опасности.
Наконец мы остановились, покидали ворохом одежду, взбежали повыше и катнули оттуда камеру, как колесо, подгоняя ее звонкими шлепками. У самой воды она налетела на круглый камень, подпрыгнула и, описав дугу, стоймя упала на воду, но не сразу завалилась, а побуксовала. Мы плюхнулись следом, и началась битва!..
Когда интерес к камере поослаб, мы принялись беситься кто как: бросали друг друга со сцепленных рук, играли в чехарду, но не перепрыгивали, а подныривали, боролись, на выдержку сидели без дыхания. Я с криком «утоплю» гонялся за Марийкой, на которой был купальник с разноцветными полосами, кругами и искрами – ну прямо как на Борькиной картине «Любовь с первого взгляда». Мазня мазней, а теперь я нашел в ней смысл! Люська, не умевшая плавать, лежала на камере, как принцесса, и Борька катал ее где по грудь.
– Чего вы в лягушатнике? – крикнул я. – На глубину!
– Давай, Боря! – задорно отозвалась Люська. – Не боюсь.
Тут меня под воду – дерг! Вылетаю – Марийка рядом хохочет. Я в нее ладонью струю! Она мне две! Я – на сближение, ничего не видя в брызгах. Вдруг шипение, хлопок и визг! Я обернулся. На том месте, где только плыла камера, камеры не было, а Борька с Люськой барахтались, захлебываясь.
– О-оп! – крикнул Борька, скрываясь и тут же показываясь.
У плеча его выскочила Люськина голова, и оба они снова унырнули. Я понял, что она тонет и вцепилась в Борьку и что ему едва ли хватит сил отодрать ее от себя. Но Борька всплыл один и в изнеможении погреб к берегу, – значит, отодрал, хватило сил. И вдруг меня как током дернуло: ведь я же не кино смотрю, ведь это же тонет живая Люська! Я испуганно вымахнул на берег, как будто с Люськой должны утонуть все, кто в воде, и заорал:
– Тонет!.. Тонет!..
Мне показалось, что река мигом опустела, точно каждый решил, будто он сам тонет, и – скорей на сушу, убедиться, что жив. А потом мне показалось, что, наоборот все кинулись в реку спасать утопающего. Кинулся и я. Но мне навстречу выбредали уже из воды двое парней, неся на руках Люську. Я пятился до тех пор, пока они наступали на меня. Потом один из парней перевалил Люську через колено, и из нее хлынула вода, много воды. Потом ей разводили руки, и она задышала, потом повернулась набок, и ее рвало еще. Потом она медленно села и, вся синяя, проклацала:
– Хо-олодно-о.
Мы замотали ее во все наши тряпки, но и под ними она продолжала трястись. Все расселись вокруг, только Борька, худой и дрожащий, да я остались стоять.
– Ничего, Люсь, главное – жива, – утешала Мирка, обняв подружку за плечи. – А так подрожишь-подрожишь и отойдешь… Борьк, что случилось-то?
– С камерой что-то, – хмуро ответил Борька. – Плыли-плыли, потом – пш-ш-ш, бух! – и все.
– Тут доски плавают. Могла быть с гвоздем, – сказал кто-то.
– Да и без гвоздя могла остряком…
– А может, камера старая. Держала-держала и лопнула.
Люська высвободила косы и, отжимая их, проговорила:
– Лишь бы не узнали.
– Не узнают! – уверила Мирка.
В воду никто больше не полез. Сработала наша тяжелая артиллерия! Туда ей и дорога! Со страхом досталась нам, со страхом и пропала. Списанные шахматы сгорели, краденая камера утонула, сорванные ранетки – в мусорном ведре дяди Феди. Вот как все оборачивается…

Я смотрел на кособокий грибок. Мымры там что-то не поделили, размахались руками, вскочили даже. И вдруг Блин так ударил Юрку, что тот отлетел метра на два. Поднялся, опасливо подошел к одежной куче, выдернул свою и, не оглядываясь, подался прочь, вспахивая босыми ногами песок. Остальные что-то крикнули вслед, улеглись и снова взялись за карты… Интересно, за что его?.. Свой своего… Или у них нет своих, а так?..
Когда Люська отогрелась, мы отправились домой, помаленьку оживляясь. Женька, идя почти боком, что-то рассказывал Мирке, и та посмеивалась. Марийка, я и ребята из контрдвора заспорили о секретах киносъемок: как делают крушения, пожары, падения с лошадей. Только Борька с Люськой брели молчаливо. Расставаясь, я напомнил Марийке о репетиции и шепнул, что в пять часов буду ждать ее у третьих ворот. Везучие ворота – тут и дерутся, и листовки развешивают, и вот свидание назначают.
Во дворе Мирка похвасталась мне:
– А меня-то Женька пригласил в волейбол играть!
– Но?.. А как же Славка? – вдруг спросил я.
– Что Славка? – насупилась Мирка.
– Ну, это… – я растерялся.
– Дурак ты, комиссар, и не лечишься! – бухнула она, дергая головой, и убежала.
Славка, оказывается, отстал, и никто этого не заметил. Вообще, в теперешней нашей суматошной жизни медлительный и молчаливый Славка как-то потерялся. Я подождал его, и мы пошли рядом. Что сказать ему насчет Мирки? Нечего… И мы бросаем, и нас бросают!..
Ключ лежал в трещине. Родители не любили сидеть в этом семейном склепе, как говорила мама, и чуть чего – уходили в гости. Я съел кусок колбасы с хлебом, завел будильник на без пятнадцати пять и прилег на постель, потревожив Вуфа. Он судорожно, точно умирая, потянулся и потом лишь открыл глаза. Борька прямо наколдовал – Вуф так и прилипло к котенку. Выступают Вов и Вуф!.. Таскать шахматные фигуры я его, конечно, не научу, а вот под гитару он у меня замяукает, пусть только окрепнет чуть-чуть!.. Но чем бы я ни занимал себя – Марийкой, колбасой, Вуфом, – я все равно видел пляж, видел, как я выскакиваю на берег и кричу «тонет» вместо того, чтобы самому кинуться и спасти Люську. Хоть бы поколебался, а то даже и мысли не было. Утешало немного то, что и никто из наших не кинулся. А кто кинется, если комиссар стоит и орет?.. Красивая получается картинка: я уговорил Славку стянуть камеру, я подзадорил Борьку с Люськой уплыть на глубину, а как беда – меня тю-тю. Хорош Гусь!.. От раздумий заболела голова, и я уснул.
А проснулся раньше будильника, от боязни опоздать.
Умылся, еще раз пожевал колбасы и не спеша двинулся на свидание, которое было уже не совсем деловым. Я решил, что не сразу поведу Марийку к Нинке, а прогуляюсь с ней по палисадникам, покажу, в каких кустах надежнее прятаться, покажу, где играем в ножичек, где росла ветка-мостик, и саму засохшую ветку покажу…
И вдруг голос…
– Ваш правый!
Я был против крыльца Бобкиных. На нижней ступеньке сидел Юрка, с синяком под левым глазом, который заплыл и налился краснотой. Юрка выжидательно-робко смотрел на меня, уверенный, что я пройду мимо. И я бы прошел мимо, если бы не увиденная сцена под грибком, которая задела меня и которую хотелось выяснить. К тому же непонятной была эта неожиданная выходка Юрки: избегал-избегал нас и вот тебе – сам лезет в пасть.
Юрка чуть выждал – не уйду ли я все-таки, – подошел и, со сдержанным удовольствием запустил руку в мой правый карман, вытащил расческу. Ухмыльнувшись, он провел ногтем по ее зубцам, продул их и глянул на меня. Подтек был ужасным, у меня аж слезы навернулись.
– Ладно, – сказал Юрка, – прощаю для начала, – и спустил расческу обратно.
– Для какого начала? – не понял я.
– Ну, вообще… Мы же давно не проверяли… Лезь!
И он подставил мне свой правый. Я сунулся и извлек зажигалку и девять копеек, ровно столько, сколько можно брать. Надавил зажигалку – загорелась. Чудеса! Юрка, не клавший в карман и пуговицы, так оплошал! Ведь и крикнул первым, мог бы переложить!.. Все ясно – нарочно.
– Ладно, – сказал я. – Прощаю.
– Никаких прощаю!.. Прошлепал – все! Закон!
– Тогда расческу возьми.
– Кого мне, бабку Перминову чесать? Я же лысый.
– А зачем мне зажигалка, я же не курю. А ты что, начал потягивать?
– Иногда. Заставляют, – ответил он и пощупал синяк.
И тут я спросил:
– За что тебя Блин?
– Видел?.. Подлюга! Я ему еще устрою! – стянув губы кисетом, пригрозил он. – А ветку не я спилил, не думай! Что я, дурак – свои ветки пилить. Без меня они. Я даже поцапался, когда узнал. И Генку ударил не я – Блин.
Я удивился:
– А вы что, Генку били?
– Да не били… Просто он бежал куда-то, мы его подозвали. Блин и спрашивает: ты что, мол, тоже в «Союз чести» вступил? А он – вступил, говорит. А ну, говорит, доставай билет и рви, Блин это. Он всегда так – чтобы человек сам себе вредил… А Генка – нет, говорит, не порву. Порвешь, говорит, и по носу его – раз! Кровь! Ну, мы и драть…
– Ах, вон это когда! А Генка сказал, что запнулся… Ну, и гады же вы!
– Вовк, я с ними кончил! – торопливо заговорил Юрка. – Намертво завязал! Вот чтоб мне!..
Я перебил его:
– Постой, а вы что, и про «Союз Чести» знали?
– Знали, – почти радостно признался Юрка.
– Откуда?
– Да вот я нашел, – Юрка быстро вынул из левого кармана бумажный прямоугольник и протянул мне.
Я обалдел, узнав членский билет. Раскрыл – Томкин! Вот разиня, вот квашня – потеряла! Или выбросила?.. Потом разберемся! Я спрятал его в карман и опять уставился на Юрку – какую же подлость он мне еще выложит. Он как тюбик с подлостями – только нажимай!
Но Юрка молчал, растирая скулу под синяком и глядя в землю. Он точно ждал наводящих вопросов, как троечник у доски, и я спросил:
– А Анечкин огород?
– Мы… Но тоже не я. Дыба с Кока-Колой. А мы с Блином рыбачили.
– Все не ты!.. Там не ты, тут не ты. А ведь все ты! Ты рассказал, ты показал, ты намекнул. А дальше как Блин – чужими руками!
– Ну, ты не очень-то! – огрызнулся, наконец, Юрка, кусуче зыркнув на меня здоровым глазом. – Я говорю – кончил с ними, и все!.. Чтоб вы знали, а не чтоб читали мораль! Мораль я сам себе прочитаю!
– Ладно, – сказал я. – Ну, а Блин-то тебя за что сегодня?
– Да тоже поцапался, с Дыбой… – Он поморщился, покосился на солнце, не сразу решаясь на полную откровенность, и вдруг сказал: – В общем-то, это Дыба камеру под Люськой порезал.
– А-а! – задохнулся я, – как это мне сразу в голову не пришло?
– Но тут я – пас! Вот чтоб мне!.. Я наоборот. Блин послал его, а я говорю: подождите, мол, другой сядет, а то Люська не умеет плавать. Ничего, говорит, там мелко. Там и правда было мелко, но пока Дыба шел, Борька утолкал камеру на глубь, видно. А Дыбе что, он бестолочь, он поднырнул и бритвой – чирк! Ну, и это самое… – Юрка глянул на меня и отпрыгнул, отчаянно крича: – Бить?.. Давай! Я не убегу, как тот раз!.. Я тебя уделаю так, что не захочешь!.. Думаешь, меня все могут бить, и наши и ваши?.. Шиш!
На крик выскочили соседи, спрашивая, в чем дело.
Я расслабился, отвернулся от скрюченного в защитной позе Юрки и молча направился к третьим воротам.
НУ, ХИТРЕЦЫ
Концерт был назначен на сегодня.
На всех домах уже висели афиши, с театральной маской вверху, одна половина которой смеялась, другая плакала, – Борька постарался. Но Нинка сказала, что афиши афишами, а еще нужны пригласительные билеты в каждую квартиру – вот тогда будет публика!
Нинка впрягла всех с самого утра, освободила только меня и Борьку. Борька сел за пригласительные, а я – за частушки. Кроме тех трех куплетов, ничего не было. А это разве борьба? Надо всех пробрать и в первую очередь Лазорского, который хоть бы палец о палец для нас стукнул!.. Сейчас я ему врежу! Как там кончается куплет?.. «Вот бы сделать спортплощадку там, где зреют огурцы…»
Ага… А дальше так… «Мы бы сделали и сами, если б дали огород…» Какую бы рифму к «сами»?.. «Огурцами» уже были, усов ни у кого нет…
И только я приблизился к цели, как влетел Борька.
– Гусь, давай стихи на пригласительный!
– Некогда, себе сочиняю.
– А пригласительные мне, что ли?.. Давай, а то Нинке скажу, она заставит.
– Ну, на-на!.. Что там тебе надо? Уважаемый сосед?.. Пожалуйста, – и я застрочил на бумажке. – «Уважаемый сосед!.. Приглашаем на концерт!» На и отвяжись!
– Мало! – сказал Борька. – Куда приглашаем? Что смотреть?
– О, нашел Пушкина!.. Хотя… где наша не пропадала. Дай-ка! – Я взял листок и приписал: – «Торопись под третью крышу!.. Что смотреть?.. Смотри афишу!..» На, Кощей Бессмертный!
– Во жарит! Во комиссарище! – воскликнул Борька и убежал.
Едва я снова задумался, заскочил Генка.
– Нинка коврик какой-то просит… Говорит, ты обещал.
– А, черт!
Я достал «Богатырей», отдал Генке и сел. На пригласительных стихах я набрал такую скорость, а тут тормозят!.. Значит, мы бы сделали и сами, если б дали огород… Сами – с усами… Как бы Лазорскому усы приляпать?.. Ха! Сам с усами! Это же не обязательно усы иметь!.. И я живо докончил куплет, и еще какой! Степан Ерофеевич только крякнет!..
Не успел я переписать его начисто – опять примчался запыхавшийся Генка и сказал, что Нинка меня требует немедленно, потому что есть идея, с которой без меня не справиться. Я любил быть там, где без меня не справляются, и мы понеслись к Куликовым. Оказалось, что Нинка решила крыльцо превратить в настоящую сцену, а для этого его нужно чем-то закрыть сверху.
– Тогда и темней будет, и уютнее, и вообще! – сказала Нинка. – Подумай, по-мальчишески!
– А частушки?
– Хватит сколько есть. Все равно ты еще на руках ходишь. Сцена важнее… Бери Славку и думайте.
Мы со Славкой задрали головы, переводя взгляды с одних сеней на другие. Метра три с гаком… Можно просто: две жерди и доски, но где их взять?.. К Лазорскому сходить. Не насовсем же, вернем после концерта. Я сказал Славке, и мы пошли к управдому.
Лазорский, раздетый по пояс, сидел на крыльце и хрумкал огурцом. Мы ему выложили просьбу. Он подумал, доел огурец и повел нас в свой огород.
– Вот такие сгодятся? – спросил он, указывая в подсолнухи, за морковную грядку, где вдоль забора лежал штабелек длинных брусков пять на пять.
– У! – гуднул я. – Самый раз.
– Берите пару.
– А можно три, чтоб не провисало?
– Берите три, но не сломайте. Сцена – это хорошо, а мне забор надо перегораживать.
Бруски были новенькие – белые и пахли смолой. Мы отделили три штуки и понесли. Лазорский развалисто шел впереди.
– А вы читали программу концерта? – спросил я.
– Читал. Существенная программа.
– А придете?
– Не знаю. Разве что оградные частушки послушать.
– Конечно. Там даже один куплет про вас есть.
Лазорский остановился и, обернувшись, спросил:
– Про меня?.. Это какой же?
– А вот приходите – услышите.
– А все-таки?
– Не можем – концертная тайна! – гордо заявил я.
– Ишь ты. А если что нехорошее?
– Все равно тайна.
– А ну-ка опустите пока бруски. А то, я смотрю, вам тяжело держать их вместе с тайной-то, – добродушно, но твердо сказал вдруг управдом.
– Да что вы, Степан Ерофеевич, ничего плохого про вас! – воскликнул я.
– Опустите-опустите… Вот так… Так что там про меня?
– Да то, что…
– Стихами-стихами, – перебил Лазорский. – А то не выпущу.
– Пожалуйста! – небрежно сказал я. Черт меня дернул выболтнуть! Не отказываться же теперь от брусков! И я прочитал:
Нам приходится несладко,
Дяди, тети и отцы!
Вот бы сделать спортплощадку
Там, где спеют огурцы!
Мы бы сделали и сами,
Если б дали огород.
Но Лазорский, сам с усами,
Огорода не дает!
Лазорский шоркнул пальцем под своим носом, точно проверяя, нет ли в самом деле усов, и воскликнул:
– Ах, вон куда прицел!.. Так-так. Сейчас я кое-что начинаю понимать. Значит, в лоб не удалось, решили сбоку ударить!
– В какой лоб? – спросил я.
– Анечкин огород – это что, не лоб?
– Это не мы. Вы сами разбирались.
– Вас разберешь! На то вы и ребятня, что – хвать! – и концы в воду!.. А на меня частушки зря сочинили. Народ хозяин над огородами, а я тут – ноль без палочки. Так что, Кудыкин, вычеркивай свои куплеты к чертовой матери! Прославите ни за что на весь город. Мучитель детей, скажут. Вычеркивай.
– Ну, тогда сами вместо частушек выступите и потребуйте, чтобы нам дали место! – заявил я.
Растопырив толстые пальцы, Лазорский прижал к груди ладонь и умоляюще протянул:
– Ребятки, ну какой дурак, извините, отдаст вам свой огород под футбол? Вы подумайте!
Славка не выдержал и сказал:
– А разве дядя Федя дурак?.. Он нам отдал весь свой огород. Пять метров!
Лазорский нахмурился.
– Это какой дядя Федя? Федор Иванович?.. Ну, милые, не знаю. Если уж вы меня лично берете за горло, то пожалуйста – метр от моего огорода режьте! А чтобы весь – вы хоть на вокзальной площади пойте про меня – не дам.
– Метр – что? Один да пять – шесть, – грустно подвел я. – На шести метрах только семечки щелкать.
– Не знаю, – повторил управдом. – Говорите с народом сами, а меня ни в частушки, никуда не втягивайте. Обещаете – берите бруски, а нет… – он расстроенно махнул рукой.
Жаль было сдаваться, но Степан Ерофеевич так серьезно расстроился, и так нам требовались бруски, что я сказал:
– Обещаем, – и вздохнул.
– Ну и молодцы.
– Только нам бы еще три-четыре доски метра по два.
– Глянем в сарайке.
Все нам дал Степан Ерофеевич, даже гвозди и молоток, буркнув, что у Куликовых, наверно, и этого нет. Мы сложили бруски носилками, погрузили доски и пошли. Щедро уплатил управдом за куплеты, за нашу борьбу. А писать другие, безуправдомные, стихи уже было некогда. Что же делать? Неужели концерт вхолостую выстрелит?.. Горько пережевывая весь разговор с Лазорским, я вдруг в последних его фразах уловил какой-то пульс. Странный я комиссар – сам почти ничего не выдумываю, а все подхватываю да улавливаю… Пульс этот так растокался, что я замедлил шаги. Стой-стой, да это же гениальная мысль! Я выронил бруски, так что загремели доски, быстро повернулся к Славке и, протянув к нему руки, крикнул:
– Славка, ура-а!.. Сегодня будет революция!.. Сегодня мы получим землю, как крестьяне в семнадцатом году! Вот от этого столба, – я хозяйски зашагал вдоль забора. – И вот до этого!.. Пять огородов! Хватит?
– Хватит, – невесело сказал Славка.
Он не верил. Я рассмеялся, подхватил бруски и у крыльца Куликовых шумнул:
– Эй, люди!
Я хотел им объявить о сегодняшней революции, но вместе с нашими девчонками выскочила и Марийка, прибежавшая без нас. Я обрадовался, но осекся – Марийка была еще не нашей. Но девчонки и так возликовали, увидев столько строительного материала и решив, наверное, что для этого я их и звал. Эх, курицы близорукие!
С перекрытием мы со Славкой провозились недолго. Затащили все на крышу дома, сколотили там прямо против крыльца раму, обтянули ее тремя старенькими одеялами и, спустив на сени, подвинули вплотную к стене. Рама легла точно на оконные наличники. На кухне, конечно, сразу потемнело, и девчонки довольно загудели.
Потные и усталые, мы сунулись было напиться, но артистки завизжали, и тетя Маша, помогавшая им подгонять костюмы, вытолкала нас.
– Вова, подожди! – крикнула Томка и вынесла мою белую, с нашитыми на грудь красными полосами, царскую рубаху, сделанную из отцовской. – Давай примерь еще раз… Пошли вон к тете Маше.
– Мы же вчера кончили.
– Значит, нет, раз говорю! – Тут уж была ее власть – она портняжничала.
Мы оказались в тихой тети Машиной квартире.
Томкин билет «Союза Чести» все еще лежал в моем кармане. При всех я решил не стыдить ее – что с нее возьмешь? – а наедине оставаться с ней избегал, чуя в этом какую-то неприятность для себя.
– Ты как будто боишься меня, – обиженно упрекнула Томка.
– Чего это мне тебя бояться?
– Уж не знаю… Надевай.
Я скинул свою выпачканную ржавчиной рубаху, вытер о подол пальцы и осторожно натянул царскую рубаху. Томка велела поднять руки и заходила вокруг, что-то поддергивая и просматривая.
– Ты вот скажи, где твой членский билет? – спросил я, заранее усмехаясь над тем, как она будет выкручиваться.
Томка испуганно замерла передо мной, сложила ладони лодочкой и прошептала:
– Потеряла… Ругай, Вов, не ругай – потеряла!
Признание как-то смутило меня, и вместо того, чтобы дать ей нагоняй, я просто вынул билет и протянул ей, сказав только:
– На, растеряха.
– Нашел?.. Ой, Вовка! – Она схватила мою руку вместе с билетом. – Надо же, ни кто-нибудь, а ты нашел!.. Примета! – протянула она загадочно-слащаво.
– Не примета, а Юрка нашел, – сказал я, опять поднимая руки.
– Бобкин?.. Вот паразит, везде успеет!.. А ты никому не говорил?
– Нет.
– Ну и молодец!
– Да уж молчала бы! – Я поморщился, второй раз зарабатывая сегодня этого «молодца», и все за то, за что надо бить по шее.
– Вов, ну что ты все дуешься на меня? – капризно спросила Томка, близко уставясь в мои глаза. – Ведь все равно… – она замялась.
– Что? – не понял я и нахмурился.
– Помнишь мой секрет?.. Ты все равно влюблен в меня! И лучше не дуйся!
– Влюблен? – крикнул я, сдергивая с себя царскую рубаху так, что она затрещала. – Да я скорей в бабку Перминову влюблюсь, чем в тебя! – и вылетел вон.
Ведь живу спокойно, ничем не трогаю человека, даже наоборот, оберегаю от лишних шишек, так нет, надо лезть со своей влюбленностью!
– Что? – спросил стоявший у крыльца и разгибавший проволоку Славка, когда я уперся в него невидящими глазами. – Давай занавес делать.
– Давай… Только я пробегусь маленько, – сказал я и, как главный скороход какого-то тридевятого царства, вдарил по двору.
К шести часам все было готово: костюмы, декорации и занавес. Отличный занавес из четырех простыней. Хватило бы и трех, но тогда он был бы плоским, как экран, а тут собрались настоящие складки. Подвешенный на шторные зажимы, он легко скользил по проволоке, натянутой под самым бруском перекрытия. Дунешь – откроется. Моя и Славкина работа!
«Богатырей» Нинка приказала повесить между окон, чтобы вся сказка шла на этом фоне. А Борька сдурел – целый день ухлопал на пригласительные. Но зато вышли они – хоть в оперный иди: снаружи – маска, как на афише, внутри слева – музыкальный ключ соль, набрызганный акварелью, справа – мои стихи, написанные зеленой тушью.
Но мне до семи тридцати оставалось еще два дела: написать задуманное обращение к народу и постричься. Обращение получилось длинным. И только в семь я побежал стричься. Я пересек двор и торопливо, не поднимая головы, взбежал на крыльцо тети Шуры-парикмахерши. Нашего брата она не стригла, она делала женские прически. Но я решил попробовать. Тете Шуре я не досаждал давно, старые обиды не в счет, а что я крикнул про мыльную воду, так тети Шуры не было дома.
Я вошел.
Посреди комнаты сидела на стуле женщина. Голова ее была часто утыкана какими-то прищепками, от которых вверх, к электрическому патрону, тянулись провода – прямо пытка готовилась. Тетя Шура, в темно-сером не платье, а вроде мешка, безжалостно проверяла провода, а с печки за ней одобрительно наблюдала белая кошка – все как у ведьмы. А тут еще кошка сиганула с плиты – да ко мне и давай, вздернув хвост и мурлыча, крутить восьмерки вокруг моих ног – Околдовывать меня.
Не знай я тетю Шуру четыре года, я бы испугался, а тут я понял: это, наверно, завивка, после которой женщины обычно сидят на крыльце и сушат кудри, склонив голову набок, как Аленушка у пруда.
– Здрасьте, – сказал я. – Вот вам, тетя Шура, пригласительный на наш концерт.
Точно не слыша меня, тетя Шура еще раз потихоньку подергала все провода разом и щелкнула выключателем на стене. Я поднял плечи, ожидая, что женщина сейчас вскрикнет, или задергается, или загудит, как стиральная машина. Но она и ухом не повела.
Тетя Шура подошла, взяла билет и разглядела его.
– Хорошо сделали.
– Это Борька. Он и афишу написал!
– Читала… Что это у тебя там за «Гимнастический этюд»? – сурово спросила она.
– Это не этюд, это вверх ногами буду ходить.
– Я так и подумала. Уж знаю твои этюды.
– Но я еще в пьесе играю, Ивана-царевича, – ввернул я.
– Ого!.. Хорош царевич! – тяжело усмехнулась тетя Шура.
– Мне бы чуть подстричься, тогда бы… – сказал я.
– Садись! – вдруг коротко бросила она и указала на табуретку, указала глазами, а как будто пятерней схватила и усадила.
Достав из сумки на столе черную электрическую машинку, тетя Шура включила ее в розетку, повернула меня затылком к свету и так жадно врубилась в мою гриву, что пролысина от шеи до лба появилась скорее, чем я заикнулся о чубе.
– Нафорсишься еще! – сказала парикмахерша, угадав мой порыв. – Сколько лет? Тринадцать? Нафорсишься!.. Летом стригись наголо. Волос будет лучше.
– Дергает! – крякнул я.
– Волосы мокрые… Ну, отрастил!
– Ой, тетя Шура!
– А что я сделаю?.. Не можешь терпеть – иди посиди на крыльце, проветрись, а я тетю обслужу.








