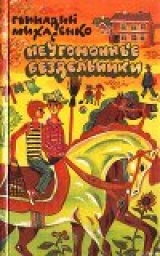
Текст книги "Неугомонные бездельники"
Автор книги: Геннадий Михасенко
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 11 страниц)
Когда мы снова вышли во двор, Борька выпалил:
– Понял – они нас по одному будут ловить!
– А что, это мысль, – задумчиво согласился Славка.
– Только зря она, Боб, явилась тебе, вздохнул я.
– Почему? – спросил Борька.
– Потому что ловлю, начнут с тебя ты же на отшибе.
– Хм!
– Может, проводить?
Борька еще раз хмыкнул, сунул руки в карман и, беспечно засвистев, отбыл в свой край. Алеша Попович!.. То исчезая, то вновь появляясь, он спокойно пересекал световые аквариумы, а мы следили за ним, готовые кинуться на помощь», если он вдруг метнется, как пойманная на крючок рыбина.
Но никто не вспугнул нашего друга – не посмел.
– Разлилась река во все стороны, – загадочно проговорил я. – Ну, Муромец, бай-бай!.. Сегодня мы заработали свой сладкий сон, как ты думаешь, а?
Славка неожиданно сгреб меня и давай ломать, мягко, по-телячьи, бодая в грудь. Я хлопнул его по тугой спинище, и, рассмеявшись, мы расстались.
Мне было слишком хорошо, чтобы тотчас идти домой, тем более, что я уже знал: дома порядок, не обыскивали. После работы я расспросил отца о жуликах, признавшись, что слышал о них от дяди Ильи. Отец невольно поморщился, но сказал, что жуликов будут, естественно, судить и что на складе у него была ревизия, однако ничего страшного не обнаружила.
Прислонившись к двери, я глянул на звезды, на тополя, на белую тети Шурину кошку, сидевшую на крыше сеней, и остановил взгляд на темном Томкином крыльце, куда и стремился, беря этот космический разбег. Неужели она только сегодня уехала?.. Да, утром. Сегодня утром уплыл мой парус. А ведь столько уже прошло!.. Со мной вдруг сделалось что-то таинственно-неладное: я прямо почувствовал какое-то шевеление в мозгах и, пораженный, прошептал:
Ты уехала вот-вот,
А мне кажется, что год.
Ужас!.. Голова моя, как электронно-вычислительная машина, сама выдавала стихи!.. Что же это такое?
Радостный, я ворвался в квартиру.

Отец сидел в кухне и играл свой любимый романс «Калитка». Не знаю, умел ли он толком играть на гитаре, но кроме этого романса да «Марша Наполеона» – каскада мощных аккордов – я от него ничего не слышал, да он и редко брал гитару, поэтому-то она месяцами и пылилась на дезкамере. Увидев меня и чуть заметно покосившись на будильник, отец забренчал громче и запел:
Отвори потихоньку калитку
И войди ты неслышно, как тень…
Я подмаршировал к нему, вытянулся и, козырнув, доложил:
– Товарищ Кудыкин, ваш сын явился вовремя!
– Браво, сынище! – Отец приглушил струны и погладил гриф. – Музыка ведь, а не шаляй-валяй!.. Разумно ли совать ее куда попало, а, Вов?
– Конечно нет… Да и вообще красивая штука. Вбить гвоздь да повесить… Мама вон обещала мне котенка, я его буду дрессировать под гитару, как Генка своего Короля Морга под баян. Не слышал, как он поет, Король Морг?.. У-у.
– Что ж, пробуй… Кстати, я что-то не видел на дезкамере стареньких шахмат.
Я рано или поздно ожидал этого, поэтому, не моргнув, ответил:
– У Борьки. Давал сеанс… Кстати, а «Богатыри» на месте?
– На месте.
– Тоже ведь не шаляй-валяй, а произведение искусства.
– В общем-то да, – согласился отец.
– Тоже надо пару гвоздей и – пусть висит, там, у меня за дезкамерой.
– Пожалуйста… Ну, ладно, развлекся маленько, надо заканчивать бухгалтерию.
Просто так дернув струны, отец отставил гитару к стенке и придвинулся к столу, на котором теснились большие, как наши классные журналы, конторские книги, счеты, стопки бумажек, схваченные скрепками, – деловая обстановка завхоза, делающего отчет.
В спальне стрекотала швейная машинка.
Я умылся, выпил стакан молока, улыбнулся маме и, взяв тетрадь с карандашом, юркнул в постель. Тревожно и торжественно, не дыша и боясь хоть чуть ошибиться, я записал стихи про реку, которая разлилась во все стороны, и про Томку, которая уехала вот-вот. Записал и понял, что надо немедленно сочинить стихотворение про драку! Да, да, потому что драка эта была необыкновенной! Мы с друзьями как будто плыли на плоту, легко, играючи, но неожиданно перед нашими носами пучина забурлила и вспучились пороги, чтобы разбить нас и перетопить, но мы устояли и лихо несемся дальше, теперь уже зная, что пороги еще будут!.. Даже не про саму драку хотелось написать, а про то вечернее, трехбогатырское ощущение…
С полчаса я, наверно, мучился, но неприступные богатыри так и не поддались мне. Зато драка получилась настоящая. Вот она:
Пострадал от булок Блин,
Потому что был один,
Ну, а булок было две —
Хвать! Блина по голове.
Уж к этим Блинам Борька не подскребется!
И, довольный, я откинулся на подушку.
«СЧ»
Месть!
Хоть ее сразу и не последовало, но потом вся наша жизнь свелась к пугливо-настороженному ожиданию этой мести.
Гараж умер для нас: мехмастерские обнесли таким крепким забором с колючей проволокой поверху (мы подбирались и обследовали его), что ни о каком новом лазе не стоило и заикаться, да и в самом гараже все, видно, посдавали в металлолом – что-то уж очень много там гремели. А тут еще Нинка Куликова укатила в деревню, и нашим привычным вечерним играм не хватило сил перепорхнуть на другое крыльцо, они просто заглохли, как моторы без горючего.
Когда компания сокращается наполовину, жизнь замирает раз в пять. И если бы не Блин со своими прихвостнями, незримо кружившими вокруг двора, мы бы вообще засохли от скуки, а тут скучать особо не приходилось, зная, что тебе в любой миг могут набить морду.
Каждое утро, в постели или за завтраком, я горячо разворачивал возможные встречи с неприятелем: то нас осаждают на крыше, и мы стряхиваем с ветки одного противника за другим; то вдруг окружают на велосипедах посреди улицы, а мы запрыгиваем в кузов проезжающего мимо грузовика и – были таковы; то поджидают у дверей магазина, а мы объясняемся с продавцом, и он выпускает нас через черный ход. Но время шло, а мы никого и не встречали и не видели издали, даже Юрку. Может быть, они отступились?.. Хорошо бы! Но в глубине души сидело егозливо-занозистое желание еще схлестнуться с Блинами.
В это утро я проснулся с четким ощущением, что опасности больше нет. Я не стал даже вдумываться в это, нет – и все!.. Потянувшись, я сполз с подушки, достал ногой радиоприемник и большим пальцем нажал клавишу Приемник наполнился нарастающим гудением Нажал другую – гудение растаяло, как будто мимо пролетел самолет Да, самолеты летают! Прачечная гудит! Где-то в песках отдыхает Томка! Дней через десять она будет здесь, и жизнь опять пойдет на всю катушку!.. Садовник! Прятки! Я забиваюсь с Томкой в какую-нибудь дыру, и она нашептывает мне свой дивный секрет!..
– Спорим, что он спит! – раздался Борькин голос.
– Не спорь, не сплю, – отозвался я.
Борька появился с трубкой ватмана под мышкой и с обычной косоротой ухмылкой.
– Вовк, – сказал он, – прочти-ка мне снова твой стих.
– Какой?
– Да не про воронов же!.. Про поединок булок и Блина.
– А-а, этот – пожалуйста! – Я приподнялся и с размашистыми жестами, точно держа в руке сетку с хлебом, прочитал.
– Прекрасно, Гусь!.. Вот тут ты поэт, а не водолаз, который вытаскивает утопленников! – Борька бросил на диван ватман и сел. – Слушай, давай сделаем листовку с этими стихами и приляпаем ее на забор у Юркиных ворот!.. Если сорвут, значит, мымры здесь, а нет – нет. А то как-то противно! Может, они давно плюнули на нас, а мы все, как дураки, с оглядкой да с опаской ходим!.. А так станет ясно.
Я чуть помыслил и ответил:
– По-моему, и так ясно – их нет, чую.
– Мало ли что ты чуешь, надо проверить.
– Ну, давай!
Я вытащил красную и черную тушь, плакатное перо, и, расположившись на диване, Борька принялся делать листовку. В правой половине ватмана он быстро и красиво написал стихи, черной тушью, а в левой, красной тушью, вдруг так похоже изобразил Блина, в плоской кепочке и со ртом до ушей, что я рассмеялся.
– Сойдет? – спросил Борька.
– Еще бы!.. Ну и даешь!
– А ты думал, один ты ферзь, остальные пешки?.. Хочешь, тебя нарисую?
– А сможешь?
– Конечно. Я себя перед зеркалом несколько раз рисовал… Пока тушь сохнет, я тебе такой портретище отгрохаю, что закачаешься!
– Рисуй! – радостно согласился я. Фотографий моих много, но чтобы кто рисовал меня – ни-ни.
– Давай альбом, линейку и карандаш.
Я все ему представил, натянул штаны и сел торжественно, как саблю проглотил.
– Так, – сказал Борька азартно. – Начнем… Только ты помягче-помягче рожу, я ведь не бить тебя собираюсь… Во-о!..
Он засек расстояние между моими глазами – отметил в альбоме, определил длину носа – занес, прикинул, сколько от носа до подбородка – засек и, довольно крякнув, с любопытством уставился на пустой лист.
– Ты рисуешь или выкройку для намордника мне делаешь? – спросил я.
– Хочешь быть похожим?
– Хочу.
– Ну, и не мешай!
И зажал мне губы линейкой, измеряя поле между носом и верхней губой. Потом пошла ширина рта, высота ушей, размах лба – и все это отмечалось. Потом Борька задумался – не пропустил ли какого-нибудь измерения.
– Язык не надо? – напомнил я.
– И так знаю, что он у тебя длинный… А вот ширина носа по ноздрям пригодится.
После этого Борька отложил линейку и принялся увязывать все мои размеры, задрав альбом так, чтобы я ничего не видел, и скача взглядом с меня на лист.
– Скоро? – устав позировать, спросил я.
– Молчи, я как раз рот рисую… Ох, и ротик у тебя!.. Не швыркай носом, кривым получишься!
Наконец, минут через пятнадцать он гордо вручил мне альбом. Я взял его, не сдерживая улыбки, глянул и нахмурился – на меня с листа глядела какая-то египетская мумия, с пустыми глазницами, без штрихов и теней, обведенная одной бледной линией.
– Это кто – я?
– А кто же!.. Чей чубчик?
– Чубчик-то вроде мой, но… – Я приближал портрет, удалял, выпучивал глаза, щурился, косился одним глазом – ничего не нашел, никакого сходства и со вздохом заключил: – Извини, Боб, но это седьмая вода на киселе.
Борька нервно дернул губами, выхватил у меня альбом и отвел его дальше.
– Ну?.. Вылито! – заявил он.
– Где же вылито?.. Нос-то кривой!
– Я говорил: не швыркай! Дошвыркался!
– А уши?.. Что я, и ушами швыркал – одно выше другого и разные!
– Да что ты понимаешь? – возмутился Борька и тут же снисходительно объяснил: – Вообще-то у тебя, Гусь, мелкие черты лица, трудно рисовать. Вот погоди, Славку нарисую – увидишь. У него морда здоровая – хорошо измерять.
– Он тебе измерит!.. Ну, ладно, Боб, спасибо и за это! – сказал я миролюбиво и сунул альбом в стол.
Борька, сияя, подхватил листовку и с хрустом тряхнул ее. Черные стихи, красная рожа – замечательно, но чего-то тут не хватало.
– А подпись-то? – спохватился я. – Подписи нет!.. Слушай, Боб, подпиши «СЧ»!
– Сыч?.. Это что, твой псевдоним?
– Не сыч, а просто «СЧ», то есть «Союз Четырех»!
– Каких четырех?.. А-а, ты вон о чем! Давай!.. Союз так союз! Четырех так четырех!
И внизу на границе стихов и рисунка Борька крупно вывел две красные буквы – СЧ. Теперь в листовке было все: кто, кого и зачем – хоть на выставку! Мы взяли кнопки и, не заскакивая к Афонину, который собирался сегодня в больницу лечить зубы, побежали к Юркиному дому.
Листовку прикололи к забору с уличной стороны. Выглядела она захватывающе! Повертевшись вокруг да около и повосторгавшись, мы убежали, потирая руки и покрякивая от нетерпения. Было такое чувство, словно мы поставили жерлицу на щуку и теперь осталось только ждать, когда она попадется. Сперва казалось, что щука шастает рядом и хапнет живца, едва мы уйдем, но минут через пятнадцать «жерлица» была еще не тронутой, и мы поняли, что все на так-то просто.
Второй раз мы не проверяли дольше, но и здесь листовка уцелела, лишь возле нее мы застали старика с тростью и в очках, надвинутых на лоб.
– Что, дедушка? – спросил я.
– Смотрю вот, – бодро ответил он. – Думал, какого пьяницу продернули, а тут непонятно кого… Но тоже, видать, хорош, раз публично повесили.
– Хорош! – сказал Борька.
Приближалось обеденное время, когда Борьке нужно было ехать обедать к отцу в мастерскую, а мне – разогревать приготовленную мамой еще с вечера еду, и я спросил:
– Дедушка, у вас есть часы?
– Часы? – удивился дед. – К-к-какие часы?
– Да любые, лишь бы время. Ручные.
Старик опустил очки, тревожно глянул на нас, на пустынный тротуар и робко ответил:
– Ручных н-нету.
– Ну, карманные – все равно.
Неожиданно старик попятился, оборонительно подняв трость и бормоча:
– Карманные?.. А з-зачем карманные?.. Карманные д-дома, – он попятился до угла палисадника и, осмелев, крикнул оттуда: – Я вам покажу часы, шпана этакая! Я вам дам время! – И стремительно заковылял прочь.
– Псих! – фыркнул Борька.
– Не псих, а опытный. Видать, на каких-то мымр натыкался… Собаки, даже взрослые шарахаются от них. Виси, виси! – пригрозил я портрету.
Время мы узнали у парочки, которая остановилась у куста, лезшего через забор, поболтать. Было без десяти час, и, охнув, мы бросились по своим делам.
За обедом я много и громко пустомелил, суетился, все подавал маме и отцу, наливал им чаю из самовара, а перед глазами так и маячил Блин: вот он натыкается на листовку, узнает себя, надвигает кепку на брови, читает и с рыком, садя занозы под ногти, сдирает вдруг ватман с шершавого забора!.. Родители уже наелись и ушли, а я, расфантазировавшись, доканчивал только тефтели. Потом чай швырк-швырк – скорей!
Стукнула дверь. Я оглянулся и обмер – Юрка Бобкин.
– Ты один? – нахально спросил он.
– Один, – пораженно ответил я.
Он кому-то хозяйски махнул рукой, и в сени со стуком ввалились Блин, Кока-Кола и Дыба. Дверь они заперли на крючок. Разжав челюсти, но не размыкая губ, так что недожеванная баранка повисла у меня во рту в состоянии невесомости, я поднялся и стал шарить позади себя, почему-то решив, что табуретка приклеилась к штанам.
Не столько задирая голову, сколько изгибаясь сам, Блин осмотрел нашу странную раздевалку, со сплетением труб у потолка, с толстым канализационным стояком, и по плечи высунулся в кухню, держа одну руку за спиной.
– Подкрепляешься? – спросил он, оглядывая кухню.
Я принялся медленно дожевывать баранку, бешено ища спасение. На улицу сквозь них не пробиться; в туалет не заскочить – он на защелке и открывается наружу, пока возишься – схватят; орать и звать на помощь стыдно, да если кто и придет – заперто. Значит, все – исколотят так, что никакая больница не примет, как и грозил Юрка.
Блин вдруг увидел свое отражение в самоваре, который стоял на столе сразу за косяком, осклабился и даже прихорошился, поправив кепку.
– Шик моде-ерн! – довольно протянул он, перекидывая на меня еще теплый взгляд. – Не бойся, Гусь, бить не будем, если, конечно, договоримся по-джентльменски.
С арбузной улыбкой он вывел из-за спины руку. В руке была свернутая трубочкой листовка. Я вздрогнул, значит, вон почему они явились, значит, все шло так, как я и воображал. Не воображал, а прямо по телевизору смотрел. Но почему ко мне?
– Твоя работа? – спросил Блин, сбросив улыбку и резко расправив ватман.
– Что?
– Вот это! – Он тряхнул листовку.
– Что это?.. Там много.
– А-а, уточняешь? Не один, значит, трудился?.. Ну, стихи – твои?
– Его-его! – крикнул Юрка. – Я знаю, только он пишет стихи!
– Замолчь… Твои?
– Мои.
– А рисунок?
Я чуть помедлил и сказал:
– Тоже мой.
– А это что внизу, что за «СЧ»?
– Это… мое дело, – ответил я, потихоньку набираясь мужества.
Приятели Блина зашумели, мол, это шифровка, и посыпали разгадки – «счастливый человек», «санитарная часть», «суд честных». Блин шевельнул кожей на голове, отчего кепка его дернулась, и все замолчали.
– Ладно, твое так твое, – сказал вожак. – Перейдем к нашему… Ты, Гусь, мозгастый парень, нам такого не хватает, и я пожал бы тебе руку, если бы это было не обо мне… Но это обо мне, и руку я тебе жать не буду. Я тебе, Гусь, зажму горло, – прохрипел он, – если ты не разорвешь свою мазню на мелкие клочья, не попросишь у меня прощения при всем этом народе, – не оборачиваясь, он оттопыренным большим пальцем указал назад, через плечо, – и не выложишь камеры.
– Камер у меня нет, – живо ответил я.
– Врет, Блин, у него! – торопливо вмешался Юрка. – Чего, Гусина, врешь, я же сам видел, как вы со Славкой скатывали!
– Ладно, камеры потом, – остановил Блин. – А пока рви. – И он протянул мне листовку.
Я машинально взял ее… Вот уж не думал, что за стихи мне придется расплачиваться, и так быстро. Но ведь в них – правда, правда нашей победы! И в Борькином рисунке – правда! Почему же я должен рвать эту правду и просить за нее прощения?
– Ну! – подхлестнул Блин. – У нас мало времени.
А за ним выжидательно теснились ухмыляющиеся рожи, готовые ухмыльнуться еще подлее. Нет, я им не дам повода! Я подал листовку обратно и, чувствуя, что вот-вот навернутся слезы, не проговорил, а прошептал:
– Не буду.
– Ха! – воскликнул Блин. – Слышите? Он не будет рвать!.. А я, думаешь, буду терпеть?.. Ты мог нарисовать его, его и его, – он перетыкал пальцем всех своих холуев, – мне плевать, по личных оскорблений я не терплю!.. Я еще с прошлого раза натерпелся так, что сыт, а вы новых подкидываете!.. Ладно, шик модерн, рви без прощения!
– Не буду, – повторил я, качая головой.
– Будешь!.. Дыба, Юрок! – коротко приказал он.
Выступили Бобкин и тот коротыш, которого массажировал на земле Борька. Они, видно, знали, что делать, и молча двинулись ко мне. Я попятился, как щитом, прикрываясь листовкой и соображая, где же самый дальний угол… В родительском тупике, за дезкамерой. За. А если – на дезкамеру?.. Жар охватил меня при этой мысли, и ко мне мигом вернулось все: уверенность, сила и расчетливость. Я сразу увидел нашу стычку на пять ходов вперед и замер в дверях спальни. Юрка тоже остановился, но Дыба оттолкнул его, бросился на меня. Я отпрыгнул, уронив перед собой стул поперек прохода. Невезучий Дыба запнулся, как и в прошлый раз, и шмякнулся на пол. Юрка, метнувшийся следом, упал на него, а я тут же очутился на дезкамере.
– Что, съели? – крикнул я пацанам, когда они, расчистив в дверях завал, ошеломленно уставились на меня.
– У него же там камеры! – просияв, сказал Юрка.
– Конечно! – поддразнил я. – У меня тут всего полно! Может быть, тебе, Юрок, правый карман дать? Лезь без очереди! По знакомству! – Я нервно хохотнул. Добро пожаловать, Блин Оладьевич! Говоришь, у вас мозгов не хватает? Подставляй свою драгоценную голову, добавлю, поварешкой начерпаю!
– Ну, Гусь, не я буду, если не ощиплю тебя сегодня! – взъярился Блин.
Он рыскнул вправо, влево, ища, наверное, какую-нибудь подставку, но, ничего не найдя, полез по болтам, велев подстраховать его. А я подтянул тюк ваты, замотанный в простыню, и едва над дезкамерным горизонтом мелькнули руки Блина, столкнул этот тюк. Он был тяжелым. Он сшиб атамана и повалил всю шайку, окутав их пылью.
– Получили? – торжествовал я. – Кому мало, подходи за добавкой!
Отплевываясь и ругаясь, Блин приказал:
– Диван!
И осаждающий вцепился в вокзальный диван, подтаскивая его к моей крепости. А я лихорадочно оглядывал дезкамерное хозяйство – чем же лучше обороняться. Жаль, отец гитару снял, а то бы я их гитарой! Можно, конечно, и шахматной доской, можно и самими фигурами, они со свинцом, как пули, можно, в конце концов, и новогодними игрушками, но это напоследок, а пока… И я плотно ухватился за конец скатанного в рулон ковра с «тремя богатырями» внутри. Теперь и нас четверо! «Союз Четырех» действует! Ну, родненькие богатыри, не подведите своего братишку!
И только Блины вскочили на диван и кинулись на штурм по всему фронту, я как давай махать ковром, словно палицей, над их головами, как давай низвергать на них тучи пыли, и атака белых снова захлебнулась.
Блин пошел на переговоры:
– Гусь, гони камеры, и мы уйдем, не тронем тебя!.. Даю слово, если хочешь!
Придержав ковер на кромке, задыхаясь в пыли, я устало ответил:
– Нет у меня камер.
– А там?
– Нету.
– Дай взглянуть.
– Взгляни.
Блин пружинисто взметнулся и лег грудью на край дезкамеры, поводя сощуренными глазами. Ничего не обнаружив, он присвистнул и спросил:
– А где они?
Меня так и подмывало без лишних слов врезать ему ковром по уху, но он был парламентером, и я ответил, не юля:
– В гараже… Мы их обратно стаскали.
– Врет! – опять крикнул Бобкин. – Ну, гад, врет!.. Не слушай его, Блин! Я сам видел, чтоб мне сгнить!
Блин стал сползать и вдруг молниеносным движением цапнул ковер и, вырвав его из моих расслабленных рук, спрыгнул с ним на диван под злорадный гогот дружков. Но я тут же вооружился шахматной доской и не знаю, дошло бы дело до новогодних игрушек или нет – а защищался бы я до последнего «патрона», – как вдруг где-то стрельнуло, забарабанило по стеклам, заплескало, зажурчало.
Кока-Кола сиганул в кухню и панически заорал:
– Потоп!
Я догадался, что это пробило в стояке прокладку, как не раз бывало при засорении, и теперь там веером хлещет мыльная вода, но я не понял, почему эта банда, не побоявшаяся ворваться в чужой дом и натворить в нем черт знает что, вдруг перепуганно бросилась вон, действительно, точно крысы с тонущего корабля. Я слышал, как они ойкали и взвывали, проскакивая бешеную завесу, как звякнул в сенях откинутый крючок, как хлопнула распахнутая дверь и как мимо окон пронесся топот.
Враг бежал.
Мне бы на радостях крутануть с дезкамеры сальто-мортале, пройтись присядкой и прокукарекать, но я спустился медленно и почему-то с шахматами, будто еще не додрался. Подобрав невредимую листовку, которую сам же уронил, я, как полусонный, прошел в раздевалку, поправил на вешалке специально прибитый клеенчатый полог, подставил ванну и два ведра под самые сильные струи, запер дом и, мокрый насквозь, как из стирального барабана, побежал к отцу доложить об аварии, побежал спокойно, точно перед этим ничего не произошло… Это потому, что произошло слишком много…








