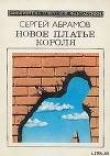Текст книги "Дай лапу"
Автор книги: Геннадий Абрамов
Жанры:
Домашние животные
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Появился кот неожиданно, как с неба слетел. Скорее всего его кто-то подкинул. Гладкошерстный, в черном атласном фраке, белой манишке с белым галстуком-бабочкой и белыми же оторочками-подпалинами на славной мордашке и лапах. Вылитый метрдотель. Кустистые локаторы-усы – тоже белые. И такие же брови – торчком. Тщедушный, щупленький. Душа еле в теле – как и полагается подкидышу. Однако хитрый, быстрый, ловкий. И невероятно настырный.
Гоняли его все кому не лень. И мальчишки-дачники, и овчарка Бяка, и эрдель Шериф, вороны, сороки, свирепый рыжий кот, и даже я, грешник, потому что Лена строго-настрого приказала: ни в коем случае и ни под каким видом: при такой сумасшедшей жизни только кота нам еще не хватало. Его бы и Минька гонял, когда бы чуял и слышал и лапы не подгибались.
Несчастливцу выпала тяжкая доля – бездомье, беспризорное детство, голод, постылая борьба за существование. Верхолазом он сделался поневоле – иначе как на деревьях спастись от угроз не мог. При первых же признаках опасности стремглав взбирался по стволу ракиты или терна и усаживался высоко на ветке, настороженно покачивая хвостом, а Шериф или Бяка внизу исходили злобой, надрывая глотки. Приставучих ворон, тучных и наглых, он просто бил по лицу растопыренной лапой, а завидев главного недруга, матерого рыжего кота, выбирал дерево хрупкое и потоньше – с таким расчетом, что прогнувшаяся под ним ветка двоих наверняка не выдержит, и с риском для жизни избегал бандитской разборки. В те редкие минуты, когда ему ничто не угрожало, он сидел на куче хвороста за нашей компостной ямой и умывался. Чистил себя, холил – с завидным тщанием. Меня он совершенно не интересовал. Я и знать не хотел, чей он, откуда, как добывает пищу и где восстанавливает силы, спасается от дождя, спит. Нам с Минькой было всё равно, что с ним станет – пожалеет ли, пригреет ли его кто-нибудь, своей ли волей покинет наши края в поисках лучшей доли или останется зимовать в опустелых деревенских домах и на бескормице с божьей помощью одолеет невзгоды. Как любят выражаться прагматики, это его сложности. Мы его к себе не звали.
Правда, однажды, когда я поднимался от ручья к дому с ведерком грибов и увидел, как он, греясь на солнышке, спит, свернувшись калачиком на сухой теплой кочке – что-то во мне екнуло, я впервые его пожалел. Он не слышал меня, не видел, хотя я прошел неподалеку от него. Измученный погонями, он крепко и мирно спал. Такой одинокий, крохотный. Такой славный и незащищенный.
И тем же вечером, когда приехала Лена и мы сидели после ужина у костра, я признался:
– Жалко кота.
– Очень, – согласилась Лена.
– Прилип как банный лист.
Минька прислушался. И напомнил:
– Учтите, он сирота.
– Мне кажется, – Лена сказала, – надо его кому-нибудь предложить.
– Некому, я уже всех опросил.
– Отнеси в Гребино и подбрось.
Минька поморщился:
– Верная гибель.
– Ну тогда придумай что-нибудь получше, – выговорил я ему. – Ишь какой. Критиковать я тоже могу.
– Поздно мне брать на себя ответственность, – буркнул пес и отправился спать в сарайчик.
Кот между тем усиливал натиск. Стал подворовывать. Стоило на секунду замешкаться, как он внаглую опорожнял бесхозную миску. У Лены во время готовки прямо из кастрюли сардельку стянул. Тащил всё, что можно съесть, не брезгуя даже недожаренными кабачками, нашпигованными чесноком и перцем. И хотя мы душой понимали, что он изголодался и его просто жизнь вынуждает так поступать, теплых чувств к нему это не добавляло – все-таки вековечный запрет существует, и заповедь «Не укради» приличных животных тоже касается. Наш всепрощенец Минька и то грозно лаял и долго бурчал, когда кот без приглашения являлся к ужину или обеду и, из вредности желая испортить всем настроение, закатывал «фирменные» истерики.
Я диву давался, с каким неземным упорством добивался он своего. Насколько искусно обращал себе же на пользу крайнюю неопределенность своего положения. В конце концов заставил-таки думать и говорить о нем постоянно – во всяком случае, много чаще, чем нам бы хотелось. А кое-кому даже внушил, что мы совершаем нравственное преступление и, безусловно, будем наказаны. Ибо с сиротой и найденышем грех так бессовестно поступать.
– Гневите Всевышнего, – шамкал Минька беззубой пастью.
Избавиться от кота, освободиться, прогнать с участка не удавалось. Не хватало ни мужества, ни крупицы необходимой в таких случаях подлости, ни силы воли, ни уверенности в том, что так будет лучше всем и, прежде всего, ему самому. На что он рассчитывал? Лена твердо решила: в связи с общей невнятицей и неразберихой пока неясно, как выжить самим, и брать на себя новую обузу нельзя. На носу холод, зима. Пропадет чертенок – если не перестанет упрямиться и не снимет осаду. Несколько раз я пытался побеседовать с ним по душам, умолял, убеждал, даже швырял в него палки. Просил Миньку вмешаться:
– Шугани его, а? Цапни как следует – для его же блага. Чтоб навек дорогу сюда забыл.
Бесполезно. Пес темных моих замыслов не одобрял. А кот, убедившись, что Минька соблюдает нейтралитет, лишь крепче закусил удила. Откровенно брал нас измором.
Как-то вечером, когда мы по обыкновению семейно сидели у костра и мирно разговаривали под звездным небом, Лена вдруг посветлела лицом и показала на кучу хвороста, которую я набросал внавал, приготовив жечь. Я присмотрелся. Из-под колючих веток терновника за нами по-партизански наблюдали два желтых глаза.
– По-моему, – предположила Лена, – нежданчик просится к нам.
– Перетопчется, – отмахнулся я.
– Ему скучно и одиноко. Он замерз.
– Принести ему ватное одеяло?
– Иди ко мне, миленький. Не бойся. Сюда. Никто тебя здесь не обидит, иди, погрейся.
Кот благодарно мяукнул и немедленно вспрыгнул к ней на колени.
Я расстроился.
– Ну и привет. Куда мы его теперь денем?
– Посмотри, какой он красивый. Носочки, грудка. Запорожские усы. И гладенький. Попробуй, возьми. Ты не представляешь, как приятно его трогать.
– Прости. Я не ослышался? Мы же точно решили – не брать.
– А худющий, мама дорогая. Кожа да кости. Мне нравится, что он такой чистый. Ну, не упрямься. Погладь его. Ты только попробуй.
– Миня! – позвал я на выручку пса. – А ты что молчишь? Как будто это не семейное дело и тебя не касается.
– Я воздержался, – сказал Минька. – Когда у вас разногласия, ты же знаешь, самое время вздремнуть.
– Дела…
– А как ты думаешь, – улыбалась Лена, разглядывая брюшко кота, – мальчик пришел посидеть у костра или девочка? Не вижу. Найти не могу. Нет ничего.
– Ну, Лен. Бесполых котов не бывает.
– В смутные времена все бывает. Какое-то пятнышко. Сам посмотри.
– Стало быть, девочка.
– Барышня. А как мы ее назовем?
– Франсуаза.
– Отлично. Мне нравится. Чужестранка ты наша. Франсуаза, – попробовала Лена имя на звук. – Азочка. Ма-а-аленькая. Продрогла.
На следующий день, привадив кошку и тем самым сильно осложнив нам жизнь, Лена умчалась в Москву.
Я пропадал на стройке с самого утра и пока не свечереет, трудился с воодушевлением, под интерес. Минька, как и водится, лежал в сторонке, издали помогая советами, а Франсуаза, обеспечив себе тылы, где-то охотилась или прохлаждалась. Стук молотка и прочие зудящие звуки, похоже, действовали ей на нервы, так что она не баловала работников чрезмерным вниманием. Но когда наступал перерыв, время скромного застолья, тотчас являлась откуда ни возьмись и начинала безостановочно клянчить, канючить, криком кричать, требуя, как она считала теперь, законно положенного.
Я выделил ей запасную Минькину миску. Кормил строго в одно время, разведя четвероногих по участку: пса – на крыльце, а не умеющую себя вести нахалку-новобранку – под трухлявой сваленной черемухой у рукомойника. Уминали оба жадно, наперегонки. Франсуаза аж дрожала, так боялась не успеть, по-моему, ей было наплевать, что у нее в тарелке. Частила безбожно, шлепая язычком с такой скоростью, как будто цель была не насытиться, а примчаться к финишу первой. Минька же чмокал солидно, с прихлебом, и хотя здоровых зубов у него практически не осталось, всё равно заканчивал раньше, а потом подстраивался к ней сзади и стоял над душой до тех пор, пока у нее не сдадут нервы.
– Обжора несчастный, – фыркала Франсуаза.
Дрыгая передними лапами, оправляясь после еды, она отступала в сторонку, а старый скупердяй, дабы показать, кто здесь главнее, через силу вылизывал ее миску дочиста.
Как она ни просилась, в кособокий наш домик я ее не пускал. Честно говоря, сам не понимая почему. Не велено, и всё. Так приказала Лена. Крайнее, взрывное неудовольствие Франсуаза выплескивала на нас тогда, когда мы запирали дверь и укладывались на ночь. Разумеется, спать с двумя нескладными мужиками в планы ее не входило. При луне и под звездами ночная дева бодрствует, вовсю наслаждаясь жизнью, а не тратит драгоценное времечко на тупой сон. Спесивая гулена просто требовала, чтобы ей предоставили возможность, как полноценному члену семьи, свободно, то есть, когда вздумается, шляться туда-сюда, войти, если продрогла, и выйти, если вдруг приспичило. Пищала снаружи и обзывалась. Обвиняла нас в черствости, эгоизме, грозилась пожаловаться Лене. В конце концов, охрипнув от площадной брани, вскарабкивалась по отвесной стене на чердачок, расположенный аккурат над спящими, и в отместку, как можно громче, шуршала там сеном, скреблась когтями о потолочные балки и за кем-то гонялась, как наскипидаренная.
Я не в силах был ее полюбить. В отличие от Миньки, с которым был заключен вполне приемлемый договор – он нас обожает, хранит нам верность, а мы в свою очередь помогаем ему забыть про древний инстинкт – добывать себе пищу, умерщвляя слабого, – с Франсуазой подобные отношения исключалось. Любовью сыт не будешь. Она рождена для другого. Получать еду в награду за преданность, верность и самопожертвование для нее неприемлемо. Пресно, скучно, чересчур приземленно. Страсть и радость ее – охота, прежде всего она хищник. Остальное – как бог даст. Можно скормить ей все Минькины суповые наборы, все жареные антрекоты, всю рыбу на свете – всё равно она будет жонглировать пойманными мышами и ловить глупых птичек. Спору нет, она не виновата в том, что такой уродилась. Но и я не виноват, что убийц по природе своей не жалую.
Вместе с тем кое-что мне в ней все-таки нравилось. Я рассыпался в благодарностях, когда хмурым стылым вечером она приходила незваной к костру и без спросу устраивалась у меня на коленях. Минька умиротворенно посапывал на крыльце, а мы с Франсуазой довольно урчали, посматривая не завораживающий огонь, отрешенно погружались в покой, в зябкую тишину, в самих себя, под треск поленьев внимали говору ночных птиц или просто слушали радио, дабы не одичать окончательно и быть в курсе того, чем живет просвещенная общественность. Весьма мило с ее стороны. И хотя я и прежде не тяготился одиночеством, вот так, к обоюдной пользе, скоротать вечерок в обществе мурлыкающей подружки мне теперь казалось гораздо привлекательнее и приятнее.
В самом конце сентября, много раньше, чем мы ожидали, внезапно ударил холод. Небо укрылось за бегущими толстыми тучами, налетел с северо-запада студеный ветер и нещадно, с воем, содрал с захваченных врасплох ветвей примороженный ломкий лист, оставив деревья голыми, без последней одежки. Снег повалил – жижа. Запуржило, завьюжило.
Мы стали мерзнуть. До планового отъезда, до четверга, когда Лена должна была за нами приехать, оставалось три дня и три ночи, и я смутно представлял себе, как мы сможем выстоять. Не было теплой одежды, соответствующей обуви. Деревья больше не защищали, сарайчик оказался на семи ветрах и так скверно обшит, что его продувало насквозь. К утру вода в ведрах и умывальнике превращалась в лед. Днем минус шесть, ночью мороз покруче. Снегу намело по щиколотку. Просто настоящая зима, и никакой надежды, что со дня на день отпустит.
Животные мигом сообразили, что в такую стынь от меня мало проку и им следует побеспокоиться о себе самим. Минька резко прекратил помогать мне по хозяйству, из-под одеяла и носа не казал, дремал дни напролет на кушетке. Вставал разве что по нужде или наскоро перекусить. И Франсуаза недолго храбрилась. Когда осознала, что холод не тетка, оккупировала чердачок, обложилась сеном и недовольно мяукала оттуда, требуя, чтобы еду ей доставлял туда же, по лесенке и в кровать. Раскапризничалась. Стала проситься внутрь, в сарайчик. Умоляла, чтобы мы разрешили ей войти, пусть ненадолго.
– Хоть у двери погреюсь. Пустите. Что вам, жалко, что ли?
Она неостановимо бранилась, уличая нас в бессердечности, и я не выдержал.
– Разоралась. Ну, пожалуйста, заходи. Минька все равно тебя съест.
– У пенсионера здоровья не хватит.
И деликатно вошла. Пес к законной своей лежанке ее не подпустил. Рыкнул.
– Да ладно тебе, – отмахнулась Франсуаза. – Подумаешь, барин выискался. Одному, что ли, тебе полагается?
С толком-расстановкой обошла углы, все разведала. По вагонной стойке ловко вскарабкалась на подвесную кухонную полку, уложила лапки себе под живот и успокоилась, присмирела. Хитрунья добилась своего. Наверху, под потолком, было как на печи, ее ласкал и окутывал горячий воздух, поднимавшийся от газовой плиты – две конфорки я ни на секунду не выключал, и на каждой грел пирамиду из кирпичей, иначе к утру мы бы закоченели.
– Ну что? Сильно я вас стеснила?
– Отстань.
– Лежебока. Эгоист беззубый.
– Ну вот, – вздохнул Минька. – Пустили скандалистку на свою голову.
Ночью я проснулся от умопомрачительного грохота. В потемках, спросонья, почудилось, крыша рухнула. Включил свет. Франсуаза с невинным видом стояла возле кровати, предлагая разделить с ней добычу, в пасти ее попискивала мышь.
– Уйди с глаз долой! – замахал я на нее. – Поди прочь, живодерка несчастная!
– А дед? Могу ему половинку отдать.
– Он нормальный. И по ночам спит, а не ест.
– Ну извините, – картинно пожала плечами Франсуаза. – Я хотела как лучше.
На рассвете, когда я открыл глаза, обнаружил, что справа меня согревает Минька, а слева, в пазухе, между двумя ватными одеялами, предовольная лукавая Франсуаза.
Наконец наступил долгожданный четверг. Перемен с погодой не предвиделось, и мы с Леной загодя договорились: если дорога станет непроезжей, мы сами как-нибудь дотопаем от деревни до шоссе, а она будет ждать нас у поворота на Горбуниху в полдень.
С утра я наспех закончил с обшивкой веранды. Прибрался. Припрятал дорогие инструменты, вещи, книги – в общем, всё, что можно, от здешних любителей красть, по принципу: плохо не клади, вора во грех не вводи.
До шоссе, если напрямик, примерно полтора километра, в нормальных условиях сущие пустяки. При нашей отменной физической форме и бездорожье невелика помеха.
Если бы не взбрык зимы.
Колючий, пробирающий до костей ветер, метель. Снег с округлых макушек сдувало в низины. Сугробы намело по колено. А у меня, между прочим, ручной клади порядочно, рюкзак и неподъемная сумка, пес, хотя и отваги недюжинной, но которому все-таки по западным меркам перевалило за сто лет, и юная, лишенная такелажного опыта Франсуаза со склочным нравом, к тому же не подозревающая, что ее ждет. Гадкая непредсказуемость ее характера нервировала больше всего. Я вынужден был собираться тайком. Совершал неподобающие моему возрасту отвлекающие маневры, чтобы она раньше времени не заподозрила, что мы без ее позволения, под нашу с Минькой общую безответственность, меняем ей среду обитания, в сущности, ломаем жизнь. Прежде всего я тщательно приготовил в дорогу себя. В галоши натолкал пакли, ею же обмотал ноги до икр, перевязал тесьмой, две шапки на голову натянул – вязанку, а сверху ушанку, шарф на шею, куртку на плечи и поверх нее Ленкин махровый халат. Остатки еды скормил животным. Медлить было нельзя, а я всё не мог решить, как бы попроще, без ссор, нытья и грубой перепалки, справиться с Франсуазой. Пробовал сунуть ее в сумку на молнии, упрятать, как куклу, в чемодан – она меня чуть не загрызла. Царапалась и дралась с такой страстью, словно я ее злейший враг и пытаюсь ее погубить. Минька, наблюдая эту недостойную сцену, жестко критиковал подругу за столь дикие предположения. Убеждал, что она темная, глупая, провинциалка и просто счастья своего не понимает.
– Как тебе только не стыдно. Мне-то могла бы поверить?
– А ты еще хуже обманщик.
Тем не менее лишь с помощью пса удалось ее успокоить и приманить. Я сунул ее, буквально затолкал за пазуху, застегнул куртку. А чтобы она ненароком не вывалилась по дороге, в качестве дополнительной страховки перетянул халат крест-накрест автомобильным фалом. Под горлом оставил дырочку небольшую, пусть кошка дышит.
– Видок у вас тот еще, – хихикал Минька. – Полоумная толстуха на сносях.
С превеликой осторожностью, опустившись на корточки, я нацепил рюкзак и связал с ним сумку. В эту минуту я готов был на любые лишения, лишь бы Франсуаза чувствовала себя комфортно.
Минька вспомнил:
– А присесть на дорожку?
– Конечно. Прости.
Мы содержательно помолчали.
– Ну, с Богом, ребятки.
Повесили на сарайчик замок, окинули прощальным взором занесенную снегом обитель. Я закурил, и мы тронулись в путь.
Мела поземка. Мглою заволокло дали, и где твердь кончается и начинается небо – не различишь. В овраг я спускался ощупкой, выверяя каждый шаг. Минька топал за мной след в след, частенько проваливался по самую холку, шел мужественно, не роптал. А Франсуаза вскоре запсиховала.
– Надоело. Куда вы меня несете? Пустите. Не хочу. Не желаю. Я здесь останусь.
– Поздно, красавица, – подтрунивал над ней Минька. – Привыкай к другой жизни.
– То есть как это к другой? – взвилась Франсуаза. – Да вы с ума сошли! Кто вам дал право лишать меня родины?
– Кончай. У нас родина всюду.
– Вот удеру, тогда будете знать.
– Скатертью дорожка. На тот свет?
– А хотя бы. Тебя не спросилась.
– Вертихвостка. Все вы, кошки, плебейки.
– Пудель драный! Дурак!
Разругавшись, всполошная Франсуаза под курткой с силой упиралась лапками мне в грудь. В поисках свободы глупое животное пыталось ослабить путы и в дым разорвать ненавистные оковы. Я был начеку. Волей-неволей приходилось останавливаться и принимать меры. Иначе погибнет. Всё насмарку. Я теснее прижимал ее. Призвав на помощь всё свое красноречие, льстил ей, врал и ласкал до тех пор, пока она снова не затихла. Минька использовал вынужденные паузы с толком – для сбережения и без того скудных сил. Расслаблялся по своей системе. Ему было труднее всех. Борода в сосульках и инее, из пасти валил морозный пар. Когда же я с сочувствием посматривал на него, он жмурился и всем своим видом показывал, что для жалости я выбрал неподходящее время.
– Ветер проклятый.
– Держись, дедуня. Вот там, за рощицей, дорога тверже.
– Я в порядке.
Овраг мы прошли без потерь. Пакля моя уцелела, не разболталась. Минька прополз на брюхе самое топкое место и не выглядел сломленным или выбившимся из сил. Скорее слегка перевозбужденным, сам себе удивляясь, что такое ему по плечу. Слава богу, Франсуаза вела себя в низинке так, будто с новой участью примирилась.
Я надеялся, что трудный участок мы уже миновали, что в поле нам будет легче, однако, здесь, на голом взлобке, дул яростный ветер, колкий косой снег забирался мне под очки, на бугристых кочках чуни мои и Минькины лапы с хрустом давили льдистую корку, в ловушках-впадинках вязли. У пса развевались уши, их раздувало, как паруса, и казалось, он вот-вот взлетит. Но стихия его, похоже, даже веселила – сказывался бойцовский характер.
– Вот это, я понимаю, туризм, – гавкал старик ветру наперекор. – Рассказать кому-нибудь – не поверят.
В самом деле, со стороны было на что посмотреть. Замотанный дядька в женском халате. Ноги обернуты паклей. На горбу здоровенный рюкзак, болтается и подстегивает на ходу увесистая сумка. Очки залеплены снегом. На груди что-то шевелится и вспухает, жалобно стонет. И след в след, выстреливая паром, ползет какое то обсыпанное снегом четвероногое, переваливается из ямки в ямку, взмахивая ушами, как диковинная птица.
Мыском выступал в поле осиновый перелесок, и когда мы с боем взяли и его тоже, я услышал странный отдаленный зов. Поднял голову, протер рукавицей очки, и… не поверил глазам.
До шоссе еще топать и топать, метров шестьсот, а Лена стояла посреди снежного поля перед застрявшей машиной, и махала, и кричала нам:
– Вы живые?
Бог ты мой, зачем она съехала в снег?
– Вы живые?
Я знаками показывал ей – да, да, успокойся, живые. Хорошо бы ей молча дождаться, пока мы подойдем, потому что Франсуаза, услышав знакомый голос, на радостях потеряла голову. Вся искрутилась, шипела и ерзала, отчаянно царапала мне грудь, норовя вырваться и лететь по сугробам хозяйке навстречу.
– Как вы? Замерзли? Окоченели? Я села! – ликуя, кричала Лена. – Нам отсюда не выбраться!
Я был сам не свой от волнения. Пройти осталось пустяк, и если твердокаменная Франсуаза меня одолеет, страшно подумать, что может произойти.
Лови ее потом в чистом поле.
– Боже мой, на кого ты похож. Халат мой. Что у тебя на ногах?
– Бурки. Пакля. Отличная вещь.
Минька лез целоваться. Лена его обняла.
– Здравствуй, Минечка. Здравствуй, мой дорогой. Сусанин. Хорошо сохранившаяся пожилая собака. Ой!.. А мурлыкает кто?… И Франсуазу с собой прихватили?
– Она меня доконает. Пожалуйста, освободи.
Лена извлекла вздорную девчонку, потискала и заперла в салоне машины.
– Ни звука у меня, путешественница.
Я снял рюкзак, сумку, уложил вещи в багажник.
– Зачем ты в сугроб-то въехала?
– Соскучилась. Думала, проскочу.
– Придется толкать.
Минька вылез:
– Мужское дело. Я подсоблю.
– Куда тебе. Помощничек. Еле стоишь.
– Да ладно. Я с краешку. Под крыло.
– Залезай, залезай, – усадил я упрямца в машину. – Наставник молодежи. Посторожи ее, приголубь.
Лена легко завела неостывший двигатель. Я поднапрягся. Не сразу, с трудом, но машину мы все-таки развернули носом к шоссе. Мы поменялись с Леной местами, я сел за руль и, прежде чем тронуться, погладил старушку по приборному щитку.
– Ну, милая, выручай.