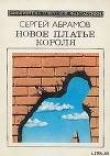Текст книги "Дай лапу"
Автор книги: Геннадий Абрамов
Жанры:
Домашние животные
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
3
Мягкий желтый свет бра падал пучком-конусом на стол, заставленный чашками с остывающим чаем, пустыми тарелками, хлебницей.
– Не сердись, – сказала Ирина Сергеевна.
Денис двинул из-под себя табурет, пискляво чиркнувший по полу, и демонстративно ушел к себе, заперся. И сейчас же телефонный аппарат затренькал – сел названивать приятелям.
– Нет, Глеб, – сказала Ирина Сергеевна, стряхивая пепел. – Нет.
– Ну, хорошо. Давай спокойно, без эмоций. Подумаем еще раз.
Она вяло помола плечами.
– Как хочешь.
– Хромой, увечный. Жалкий. Это же постоянный укор.
– И пусть.
– Ему нужна сиделка.
– Это легко решается.
– Пес на трех лапах. Все глазеют. Всем его жалко. Сплетни, пересуды.
– Что делать – потерпим.
– Во имя чего? Объясни мне. Вылечить его мы не сможем. Охранять его старость? Ждать, чтобы похоронить?
– Пусть так.
– Глупо. Он всего лишь собака. Собака, пойми.
– Тише. Я слышу.
– Собака, Ир. Пес. Они живут десять – пятнадцать лет. Бурбон прожил шесть.
– Он жив.
– Мог и умереть… Если бы не Виктор.
– Он жив, Глеб. Жив.
– Ну как ты не понимаешь? Не жилец он на этом свете. Он обречен. Будет сохнуть и чахнуть у нас на глазах. Подумай. Представь. Что за обстановка? Что за климат будет у нас дома?
– Не хуже, чем сейчас.
– Ошибаешься. Я знаю, что такое безнадежный больной в доме. Мой отец…
– Не надо.
– В конце концов, я не хочу. Понимаешь? Мне же с ним возиться, вы же с Денисом нежненькие, себялюбцы, вам наплевать.
Ирина Сергеевна отвернулась и, прекратив бессмысленный спор, принялась мыть посуду. Звонко зацокали вилки в раковине, ложки, зашумела вода.
Глеб Матвеевич сидел с опущенными плечами, жадно потягивая сигаретный дым. Последние дни, когда надо было что-то решать, они с женой и сыном постоянно говорили об этом – до оскомины, до того, что стали противны друг другу. Спасительный выход для всех, для каждого в отдельности и для семьи Глеб Матвеевич видел теперь только в том, чтобы избавиться от Бурбона. Может быть, даже не забирать его из лечебницы.
Ирина Сергеевна замедленными движениями водила губкой по давно уже чистой тарелке. Спина ее, перекрещенная лямками фартука, была чужая.
– Пап, – позвал Денис, выглянув из своей комнаты. – Тебя к телефону.
Глеб Матвеевич взял трубку параллельного аппарата.
– Слушаю вас… Да… Здравствуйте, Лукьян Лукич… Хорошо. Когда?… Да, конечно, не беспокойтесь… Как вам удобно… Минутку, я соображу… Устраивает, Лукьян Лукич… Всего доброго, до свиданья.
– Что с ним? – спросила Ирина Сергеевна.
– Говорит, держать бессмысленно. Даже во вред. Надо забирать.
– Поедешь? Когда?
– Сейчас, – упавшим голосом сказал Глеб Матвеевич.
– А что ты кислый, па? – Денис расслабленно стоял на пороге кухни. – Нормально же всё.
– Нормально, говоришь? – усмехнулся Глеб Матвеевич. – А кто с ним возиться будет? Ты?
– А хоть и я, – спокойно сказал Денис.
Глеб Матвеевич удивленно на него посмотрел.
– Мать, ты слышишь?
– А что тут такого? – всё так же спокойно рассуждал Денис. – И возьмусь.
– Нет, ты серьезно?
– Вполне.
Ирина Сергеевна подошла и поцеловала сына в волосы.
– Я тебе помогу, – сказала тихо.
– Сам справлюсь. Один.
– Мешать я тебе не собираюсь, – уточнила Ирина Сергеевна. – Сам так сам. Я просто хотела сказать, если будет вдруг тяжело, я помогу.
Глеб Матвеевич, не веря, отказываясь верить, изумленно разглядывал собственного сына.
– Берешься, значит?
– Ага, – небрежно подтвердил Денис.
Глеб Матвеевич улыбнулся.
– Удивил, – сказал он. – Не ожидал… Настоящий мужской поступок. Ты понимаешь, как это серьезно?… Ответственно. Очень даже ответственно.
– Между прочим, быть человеком, – обняв сына, с благодарной улыбкой, радуясь, напомнила Ирина Сергеевна, – значит чувствовать свою ответственность.
– Подумаешь, – пожал плечами Денис. – Что тут такого?
4
Исхудалый, жалкий, со свалявшейся шерстью, Бурбон кособоко стоял возле машины, покачиваясь на трех лапах.
Омертвелую левую заднюю держал на весу, выставив вперед, как штык. Слабо шевелил опавшими ушами, часто моргал и щурился от непривычного света и белизны.
Со второго этажа лечебницы, продираясь сквозь окна и стены, слетал тоскливый вой Марты.
– Я ваш должник, Лукьян Лукич. Спасибо.
– Не за что, это наша работа.
– Сам сможет?
– В машину? Нет.
– А раньше – только моргни.
– У вас будут с ним сложности.
– Догадываюсь, – вздохнул Глеб Матвеевич, открывая заднюю дверцу.
– Разрешите, я.
– Что вы, не стоит.
– Хочу поухаживать за ним напоследок.
Лукьян Лукич взял безропотного пса на руки и поставил в машину между передними и задними сиденьями.
– Хозяин поедет осторожно… Всё будет хорошо… Крепись, дружище… Что делать, милый, надо жить дальше, – он нежно и ласково потрепал Бурбона по холке. – Марта по тебе очень скучает.
Пес так и стоял, как поставили, смирно и отрешенно, как лошадь в стойле. Лишь изредка, когда хозяин тормозил или резко набирал скорость, его пошатывало, толкало, прислоняло к обтянутым чехлами сиденьям, и он невольно переступал, перебирая оставшимися тремя лапами, чтобы не упасть, упирался, царапая коврик. Хозяин иногда оборачивался, ожидая привычной реакции, говорил псу что-нибудь знакомое, однако Бурбон молчал, был безразличен и тих, в щель между сидениями глядел его угрюмый костлявый бок, и хозяин, окончательно расстроившись, вскоре оставил попытки с ним разговаривать и сам замолчал.
Январский день, по диковинному совпадению, до деталей походил на тот декабрьский, когда он поздним вечером зацепился лапой за колючую проволоку, повздорил с глупым и злым человеком и угодил под нож. Такой же серый, низкий, с набрякшими тучами, сухим колючим морозным ветром и выпавшим накануне обильным снегом, с которым и теперь яростно сражались уборочные машины. Под колесами, когда ехали, чмокало, чавкало и клокотало, разлетались по сторонам бурые жирные брызги.
Въехав на пустырь насколько это было возможно, хозяин остановил машину неподалеку от их дома и выпустил его погулять. Поднял, вынес и поставил в снег. Сказал:
– Разомнись.
А он стоял и не двигался. Как будто лапы его отвыкли, разучились ходить.
Мелко подрагивая спиной и боками, стоя на тощих, ссохшихся лапах, он отуманенными глазами грустно, заново узнавая мир, смотрел прямо перед собой на чернеющие дома, светлые квадратики окон, столбы, фонари и снег. Ощупав носом морозный воздух, пахнущий привычным жильем и свободой, медленно выпрямив шею, он попробовал шагнуть, переступить и сразу понял, что ему предстоит учиться всему этому заново. Он дернулся, неуклюже-тяжко вытянул переднюю лапу и снова встал.
– Взбодрись, дружище, – услышал он голос хозяина. – Жди здесь, мне надо позвонить.
Вытянув морду, он какое-то время смотрел вслед удаляющемуся хозяину. Потом лизнул снег, прогнул спину и сел, выставив вперед неживую, негнущуюся ногу.
Истоптанная дорожка. Справа и слева рыхлый свежий высокий снег – как будто даже и не подрос, пока он отсутствовал. Следы глубокие, но небольшие, должно быть, дети играли, школьники, когда возвращались домой. Чуть дальше – старая снежная баба, ее еще до разлуки соорудили, и всё стоит, не сломали, побуревшая, заледенелая, понизу в свежих обливах. А вон прутик торчит, у которого обыкновенно останавливался, штабель забытых строителями плит, и по ним лазили дети, забор, куда нельзя, не разрешают, и липа, у нее корни близко, за ней канавка и взгорок, и там, вдали, прячась за сугробами, купается и тонет в снегу старый забытый грузовик.
– Ну? Нагулялся?
Хозяин энергично прошел мимо него, не задерживаясь, и его обдало, как ветром, человеческой раздражительностью.
– Я в машину. Идешь?
Он неторопливо поднялся на три свои лапы и повернул голову.
– Не могу смотреть на тебя. Прости.
Хозяин поднял его на руки и затолкал в машину.
Стоя сзади между сиденьями, он чувствовал, что хозяин какой-то странный сейчас, непохожий на себя, раздраженно-задумчивый, подавленный чем-то. Он и припомнить не мог, когда бы тот просто так сидел более минуты, неподвижно, без дела, никуда не спеша. Прежде он не видел его таким молчаливо-озадаченным, будто бы потерявшим привычный интерес, забывшим вдруг про свои бесконечные ближние и дальние цели, которые когда-то ненасытно преследовал.
– Знаешь, – медленно произнес Глеб Матвеевич вслух. – Я сейчас говорил по телефону. С Виктором. Врачом, который тебя оперировал. Просил укол. Для тебя, приятель. Извини. Но это пришло мне в голову. Виктор накричал на меня. Мы крепко поссорились…
Не дослушав, он заскулил.
Он понял. Он ждал. Он догадывался, знал это.
Царапнул лапой пол и оторвал зубами кусок болтавшегося чехла. И захрипел – от тоски, от удушья. Всем телом задергался, как от подступившей сильной тошноты. На губах его повисла пузырившаяся белая пена.
Перегнувшись через сиденье, Глеб Матвеевич открыл заднюю дверцу и осторожно вытолкнул Бурбона наружу.
Пес неловко покачнулся и встал. Из горла его рвался свистящий хрип, спина крупно изгибалась, живот сокращался резко, толчками.
Глеб Матвеевич вышел из машины и растерянно склонился над ним.
А он замотал головой, разбрасывая с губ пену. Передние лапы его надломились, он клюнул мордой в сугроб и, скрутив шею, застыл, обмяк.
– Папка! Бурик! Я здесь!
Глеб Матвеевич поднял голову.
К ним бежал Денис – крупно, спеша, радуясь. Он бежал и придерживал подпрыгивавшую на бедре наплечную сумку.
Обогнув стоящую на обочине машину, ломко плюхнулся перед псом на колени.
– Бурик мой… Здравствуй… Приехал… Вернулся. Ну, здравствуй.
Говорил он, хотя и запышливо, но ласково, нежно, и гладил пса по спине, почесывал у него за ушами.
Бурбон приподнялся. Неуклюже оперся на здоровую заднюю лапу и вопросительно, кротко взглянул сначала на Дениса, а потом на Глеба Матвеевича.
– Ничего, Бурик. Всё нормально. Оклемаемся, – говорил Денис. – Поправишься. Я тебя никому не отдам. Согласен? Нет возражений? Теперь я за тобой буду ухаживать.
– Кажется, ожил, – сказал Глеб Матвеевич. – Думал, богу душу отдаст.
– Да что ты, па? Он крепкий. Правда, Бурик? Ты ведь не подведешь? А?
– Без меня тут справишься? – спросил Глеб Матвеевич. – Пойду машину поставлю.
– Да-да, иди. Я сам его принесу.
Бурбон печально, прощаясь, смотрел, как Глеб Матвеевич садится в машину и отъезжает, чтобы припарковаться.
– Встать можешь? – спрашивал Денис, поглаживая Бурбона. – Помочь?… Давай вместе… Ага, вот так… Хорошо… Бурик… Бурик мой… Бурик…
Пес поднял согнутую в локте лапу. Помедлил.
И сделал навстречу новому хозяину первый робкий шаг.
ДАМКА
1
Работал Колобков сервис-менеджером в небольшой компьютерной фирме. К тридцати годам был всё еще холост, и в ближайшее время обзаводиться семьей не собирался. Однообразным и скучным одинокое свое существование он считать решительно отказывался. Любил одиночество и полагал, что у каждого человека одиночества должно быть столько, сколько он сам хочет.
– Кругом столько необязательного, навязанного общения, – сетовал он, – что это уже проблема – остаться одному.
Колобков предпочитал проводить отпуск на даче. Заграничные курорты, путешествия, шумные компании, в отличие от большинства своих сверстников, он недолюбливал. Ему по душе было тихое Подмосковье. Многолюдный шумный город его угнетал, он уставал от его суеты и неразберихи.
Если всё складывалось удачно, то для отпуска выбирал он непременно сентябрь, лучше середину или конец, когда его пожилые родители и сестра Маша с трехлетним сыном перебирались окончательно в город. В это время в Подмосковье, как правило, наступало бабье лето или, во всяком случае, нежаркая мягкая погода, которая его более чем устраивала. Листья на деревьях желтели, лес был невероятно красив. Некричащее пышное разноцветье, беззаботность и тишина сами располагали к одиночеству.
Свободными днями, проведенными на природе, Колобков очень дорожил. Он старался сделать всё от него зависящее, чтобы никто его напрасно не беспокоил и ничто постороннее ему не мешало. Запрещал себе думать о работе и доме, о друзьях-приятелях, о нерешенных проблемах и уж, тем более, о пустых городских развлечениях. Намеренно отключил мобильный телефон, не смотрел телевизор, не слушал радио, ноутбук оставил в Москве, чтобы сестра по вечерам могла раскладывать свои любимые пасьянсы. В общем, как он сам это называл, старался жить растительной жизнью. Если небо вдруг хмурилось, капал дождь, и за окном было сыро и холодно, топил печь и сидел у огня. Сам себе готовил еду и гулял по лесу – в хорошую погоду трижды в день, утром, после обеда и вечером. В сумерках на участке разводил небольшой костер и подолгу сидел и смотрел на огонь, думал о всякой всячине, о каких-нибудь пустяках. Перед сном иногда просматривал глупенькие иллюстрированные журналы, до которых Маша была большая охотница, или читал что-нибудь, непременно легкое, не волнующее ни сердце, ни ум, лучше всего какую-нибудь научно-популярную брошюрку. Через день или два Колобков ездил на велосипеде в деревенский магазин, чтобы купить йогурт, хлеб, яйца (остальные продукты раз в неделю привозила ему Маша из города). И очень был доволен собой и такой своей жизнью.
Однажды, погуляв по лесу, возле дома отдыха, находящегося по соседству с дачными участками, он встретил сторожа с незнакомой собачкой.
Сторож приветливо поздоровался с Колобковым и неожиданно предложил:
– Погуляй, друг сердечный, с собачкой. Вдвоем всё же веселее. Чего ты все попусту один ходишь. А она потом домой сама прибежит.
Колобков посмотрел на собачку, и собачка на него посмотрела.
Это была темно-серая, небольшого роста, невзрачная дворняжка с наполовину отгрызанным левым ухом и обвисшими сосками на животе, видимо, после недавних родов. От левой задней ноги по шубке наискосок тянулось тусклое оранжевое пятно. А морда ничего – неглупая.
– Ну что, мать-героиня, – дружелюбно обратился к ней Колобков и постучал по коленке. – Я не возражаю. Если хочешь, пошли.
Собачка повела половинным ухом, но с места не сдвинулась. Сторож легонько ее подтолкнул.
– Иди, иди, пока приглашают. Не будь дурой-то.
Колобков улыбнулся и развел руками – мол, насильно мил не будешь. Отвернулся и пошел куда шел.
Однако вскоре услышал за спиной характерный цок лап – это собачка его догоняла. На радостях она промчалась мимо, стала тормозить, а когда тормозила и поворачивала, поскользнулась на асфальтовой дорожке и шлепнулась на бок. Подобострастно завиляла хвостом, присев на задние ноги, потом легла на живот и поползла к Колобкову навстречу, видимо, желая понравиться. Он нагнулся, чтобы ее погладить, а она подпрыгнула и на лету лизнула ему руку.
– Вот этого не надо, – недовольно сказал Колобков. – Я этого не люблю. Хочешь со мной гулять – пожалуйста, мне не жалко. А этого не надо.
И вместе с новой спутницей Колобков продолжил прогулку.
Когда обходили пруд, она спустилась к воде и попила.
Собачка ему не мешала. Он шел, как всегда, в своем ритме, любовался окрестностями, мысленно разговаривая сам с собой, и когда обращал внимание на собачку, бросал ей палки, и она убегала искать, правда, обратно в зубах ничего не приносила.
– Не дрессированная, – решил Колобков.
Время от времени он прятался от нее за дерево или в кустах, и она его быстро и легко находила.
Вернулись на дачу. Колобков в дом ее не пустил. С трудом разыскал две старые миски и вынес ей попить и поесть. Собачка с аппетитом всё съела и даже пустую миску от излишнего усердия опрокинула. Причмокивая, попила водички и, сообразив, что в дом ей нельзя, выбрала сухое местечко возле крыльца под скамейкой и там залегла.
– Тебе пора домой, – сказал ей Колобков. – До встречи. Пока. Благодарю за компанию.
И ушел в дом заниматься своими делами.
Вечером приехала навестить брата Маша. Привезла продуктов на неделю, сварила вкусный борщ.
– Завел себе охранника? – спросила она.
– Какого охранника?
– У тебя под лавочкой дворняжка лежит.
– Странно, – удивился Колобков. – Почему она домой не идет?
– Верни ее. Она какая-то кособокая, некрасивая и неопрятная. От нее псиной несет.
– Конечно, – согласился Колобков. – Зачем мне такая собака?
Ночь собачка проспала под скамейкой.
Утром она Колобкову обрадовалась, подползла, виляя хвостом, и ткнулась носом ему в коленку.
Маша уехала, а Колобков решал зайти к сторожу, чтобы узнать, чья это собака, и отвести ее настоящим хозяевам.
Однако сторожа на месте не застал.
Постоял перед запертой дверью вагончика, не зная, что теперь делать. Чья она – неизвестно, сторожа дома нет, и спросить больше не у кого.
Но и ему она тоже не нужна.
– Слышь, подруга, – грубовато обратился Колобков к собачке, сидевшей возле его ног. – Где твой дом? Ты что – бомжиха? Есть у тебя прописка, адрес, телефон?
Собачка робко смотрела на него снизу вверх.
– Я тебя русским языком спрашиваю. Можешь мне объяснить, как и где ты жила до сих пор? Кто твой хозяин? Почему домой не идешь?
Собачка слушала его с интересом, переваливая голову со стороны на сторону и шевеля ушами.
– Извини, дорогая, – сказал Колобков. – Мы так не договаривались. Если ты по-хорошему не понимаешь…
Он поднял с земли увесистую палку, дал ее понюхать собачке и зашвырнул подальше в кусты. Она бросилась искать палку, а Колобков развернулся и убежал. Нарочно сделал крюк по поселку, чтобы запутать ее, и другой дорогой вернулся на дачу. На всякий случай даже заперся изнутри.
Однако через четверть часа под окнами на участке он услышал тягучий, берущий за душу вой. Трудно было поверить, чтобы такая малюсенькая собака выводила такие рулады, выла глубоким поставленным басом. До сих пор, пока они были знакомы, она все время молчала, ни разу голоса не подала – не гавкнула, не заворчала. А тут откуда-то прорезался утробный, грубый, гнетущий, слезливый тоскливый плач.
– Ладно, ладно, кончай, – недовольно сказал Колобков, выходя на крыльцо. – Разоралась. Ну-ну, пошутил я. Ты что, уже шуток не понимаешь?
Собачка выть перестала, поставила на крыльцо передние лапы и виновато завиляла хвостом.
Колобков сходил в дом, вынул из кастрюли с борщом кость и отдал собачке.
Пригрозил:
– Если еще раз затянешь свои дурацкие оперные арии, пеняй на себя. И вообще. Я снимаю с себя ответственность. Завтра мы с тобой расстаемся. Жить на этом участке даже не рассчитывай.
Наблюдая, как она жадно грызет кость, Колобков вдруг подумал: «А ведь она не верит, что я мог поступить с ней так подло – убежать и бросить. Похоже, ей это даже в голову не приходит. Она просто испугалась. Боится, дурочка, одиночества. Ей страшно на этом свете. Она не хочет меня терять».
Утром Колобков сел на велосипед и поехал с ней в магазин. Собачка бежала у переднего колеса. Как бы быстро Колобков ни ехал, она не отставала, все время бежала у переднего колеса. Пока он покупал в магазине продукты, собачка несколько раз заглядывала внутрь, словно проверяя, здесь ли он, не сбежал ли от нее через черный ход.
На обратном пути, огибая пруд, он наконец-то встретил сторожа. Несмотря на нежаркую погоду, тот стоял по пояс в воде и намыливал голову.
– Вот ваша собака, – сказал Колобков. – Два дня у меня жила. Забирайте.
Сторож непонимающе, словно вспоминая что-то давно и прочно забытое, посмотрел на него и отвернулся, продолжая намыливать голову.
– Она не моя.
– А чья?
– Ничья, – пожал плечами сторож, и стал смывать мыло с головы и волосатой груди.
– Послушайте, уважаемый, – Колобков едва сдерживал раздражение. – Нельзя же так. Что мне прикажете с ней делать? Пристала и не отстает.
Сторож реденько рассмеялся.
– Покормил?
– А как же.
– Так чего же ты хочешь? Не надо было кормить.
– Как, то есть, не надо? – не понял Колобков. – Она же голодная.
– Ничего. Не померла бы.
– Я же не знал, – растерянно произнес Колобков. – Вы же меня не предупредили.
– Не маленький. Сам соображать должен.
Колобков стоял, переминаясь с ноги на ногу, с видом обиженным и сердитым.
– Где она до сих пор жила? – спросил, помолчав. – Хозяева у нее были?
– Нет у нее хозяев. И живет она неизвестно где. Вот как с тобой – кто пожалеет, у того и живет.
– Она старая?
– Да нет. Годика три-четыре.
– Ну как же так можно? – возмутился Колобков. – Вы мне ее нарочно подсунули?
Сторож искоса на него посмотрел.
– Не было у меня умысла, – сказал он. – Пускай, думаю, прогуляется.
– Всё вы заранее знали. Обманщик. Не верю я вам.
– А хоть бы и так. Греха тут большого нет.
Сторож окунулся с головой в воду, почесался, побрызгался и снова стал намыливаться.
– Как зовут-то ее? – поинтересовался Колобков.
– Дамка, – ответил сторож, отфыркивая с губ мыльную пену.
Колобков сел раздраженно на велосипед и поехал.
Дамка бежала у переднего колеса.
– Глупенькая, – увещевал он собаку, медленно накручивая педали. – Все-таки ты какая-то недоразвитая… Мне-то что, я уеду через пару недель. А ты с кем останешься? Где зимовать будешь?… Одумайся. Напрасно ты ко мне привязалась… Пока не поздно, поискала бы еще кого-нибудь. Иначе пропадешь… Жалко мне тебя… Тебе, моя дорогая, не позавидуешь. Такой судьбы я бы не пожелал никому. А впрочем… Поступай как знаешь. В конце концов, ты уже взрослая. Кучу детей нарожала. Пора иметь свою голову на плечах.
Постепенно, как-то незаметно для себя Колобков смирился с ее присутствием. Перестал волноваться и переживать.
Каких-то особенных забот собачка не требовала. Сильно не докучала. Терпеливо ждала, когда он выйдет из дому, даст ей попить и поесть, или предложит съездить в магазин, или пригласит в лес на прогулку.
По вечерам, когда он жег костер, собачка лежала возле его ног и довольно урчала.
Спустя неделю Дамка стала облаивать редких прохожих, появлявшихся возле дачи, – с хрипотцой, глухо, простуженным голосом, – желая таким образом показать, что она работает, охраняет дом и хозяина, бережет его покой.
– Молчала бы лучше, – ворчал Колобков.
В пятницу, в конце рабочей недели, в очередной раз приехала Маша. И сказала:
– Между прочим, братец, тебе звонили из твоей конторы. Очень они недовольны тем, что ты выключил телефон. Зачем-то ты им там понадобился, я не поняла. Какие-то драйвера полетели, вирусы, почтовый ящик завис, что-то в этом роде. Просили, чтобы ты срочно приехал. День-два, не больше. Потом они тебе всё возместят.
Колобков позвонил, выяснил в чем дело.
Маша уехала в воскресенье, а он отправился в Москву в понедельник.
На автобусной остановке к Дамке прямо на шоссе стал приставать крупный дворовый пес, живший при столовой в доме отдыха. У этого пса собачьего имени не было, все звали его Аркадий Семеныч, потому что он был вылитый управляющий дома отдыха Аркадий Семеныч.
Такому стечению обстоятельств Колобков даже обрадовался. Этот пес, скорее всего, отвлечет Дамку. Все-таки она девочка и должна быть неравнодушна к мужским ухаживаниям. Когда столь бравый и видный из себя пес признается в своих лучших чувствах, недвусмысленно дает понять, каковы его истинные намерения, у такой столбовой дворянки, как Дамка, без сомнения, должна закружиться голова. Она забудется, развлечется и не станет так сильно переживать, что Колобков уезжает.
Подкатил автобус, и Колобков со спокойной душой вошел в задние двери.
Однако Дамка, несмотря на настырные приставания кавалера, тотчас почуяла, что хозяина рядом нет. Она больно укусила Аркадия Семеныча, прошмыгнула между колесами и сунула морду в дверной проем. Поставила на ступеньку передние лапы и попыталась запрыгнуть внутрь, но Колобков ее не пустил. Чуть толкнул ладонью в грудь.
– Собакам нельзя. Не положено. Иди домой.
Водитель закрыл двери, автобус тронулся.
Сквозь заднее стекло Колобков видел, как Дамка, стремительно перебирая лапами, ринулась вслед удаляющемуся автобусу, потом вдруг резко остановилась и села, как будто недоумевая. Озадаченная ее фигурка всё уменьшалась и уменьшалась.
Прежде чем она совсем исчезла из виду, Колобков заметил, как к ней подтрусил Аркадий Семеныч и вновь начал ее домогаться.