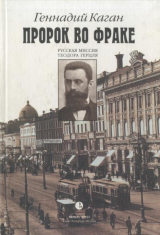
Текст книги "Пророк во фраке. Русская миссия Теодора Герцля"
Автор книги: Геннадий Каган
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 10 страниц)
Герцль уже давно привык к тому, что каждый, с кем он ведет переговоры или доверительные беседы, оставляет себе запасной выход и, получив мяч, тут же отпасовывает его обратно. Так было в Лондоне и в палаточном лагере германского императора у въезда в Иерусалим, не иначе обстояло дело и в Константинополе, и, разумеется, в Петербурге. Устное одобрение и фактическое согласие противоположной стороны всякий раз звучали двусмысленно, и практическая реализация вроде бы достигнутых соглашений неизменно требовала дополнительной работы на уровне чисто дипломатической рутины.
Но оставались ли у Герцля на это силы после всего, что пришлось ему пережить на конгрессе?
Герцль вернулся домой тяжело больным человеком. Испытания и потрясения, обусловленные поездкой в Россию и практически сразу же вслед за ней начавшимся и продлившимся целую неделю Базельским конгрессом, не прошли для него даром. Прежде всего, это отразилось на сердце. Тем не менее, он уделил столь необходимому сейчас отдыху всего несколько часов. Прогулки по идиллическим окрестностям летнего курорта Альт-Осси и по тамошнему променаду были омрачены ни на мгновенье не оставляющими думами и сомнениями.
Разве не он сам перед отъездом из Базеля серьезно взвешивал возможность сложить с себя все полномочия в рамках сионистского движения, выбив тем самым главный козырь из рук политических оппонентов? Но такой поступок оказался бы равнозначен капитуляции, драматическое эхо которой прокатилось бы не только по рядам сионистов, но непременно отозвалось бы повсюду – от Лондона до Санкт-Петербурга. Герцль сдался, вождь всемирного сионизма вывесил белый флаг! Герцль живо представил себе, как Плеве у себя в кабинете снимает с полки роскошную папку с золотым обрезом и, презрительно улыбаясь, хотя, не исключено, испытывая и некоторую досаду, разбирает переложенные закладками документы. Да, именно так, – с презрением и досадой! И разве поняли бы Герцля разогнанные полицией в день его приезда, но так и не ушедшие с улиц виленские евреи? Их пророк, их Моисей (одному Богу ведомо, кем на самом деле они его считают) бросает их в годину опасности и губит тем самым прекрасную мечту о Сионе!
Герцль улыбнулся – мучительно и, вместе с тем, снисходительно к самому себе: то была минута слабости, но никак не более. Уже в Майнау ему удалось полностью восстановить уверенность в собственных силах. Бросив взгляд из окна кабинета на горную вершину, маячащую на горизонте, Герцль подвел трезвый и честный баланс:
Россию, имея в виду переговоры с Плеве и Витте, надо несомненно записать себе в актив. И здесь железо следует ковать, пока оно горячо. Сюжетный замысел, пусть и проработанный во всех деталях, это еще не пьеса, постановка которой обернется театральным триумфом. И течение конгресса лишний раз доказало ему это. Возможно, отправившись в Базель сразу же по возвращении из России, он несколько переоценил свои тамошние достижения или, как минимум, то впечатление, которое они должны произвести на делегатов конгресса. Вообразил себя чуть ли не ангелом – то есть высшим существом, приносящим благую весть! А ведь ничего, кроме двусмысленной, на делегатский слух, вести, он преподнести им не смог или не сумел. Значит, победоносный подход к делу оказался тактической ошибкой. И хотя его достижения в России и впрямь оказались весомыми (по меньшей мере, для тех, кто не решил загодя, еще до начала конгресса, утверждать прямо противоположное), руками-то их было не пощупать! А вот альтернативное предложение английской стороны оказалось более чем осязаемым. Конечно, неоднозначное и, в известной мере, сомнительное предложение, однако как раз поэтому его имело смысл сделать отправной точкой дальнейших переговоров. 14, скорее всего, угандийский вариант куда реалистичнее, чем упомянутые Англией в этой связи ранее Кипр или “египетская Палестина”, против которой, разумеется, категорически выступило бы египетское правительство. И понятна (до некоторой степени понятна) реакция русских делегатов конгресса и прежде всего – сионистов из Кишинева. Они – в самооценке – повели себя честно и благородно. Правда, но это уже на его собственный, Герцля, взгляд, – близоруко. 14 все же ему следовало проявить большую гибкость. И главное, ни в коем случае не допустить столь резкой конфронтации. Конечно, дело сионизма не разбилось по итогам конгресса вдребезги, однако пошло трещинами, наспех и кое-как залатанными и залепленными – и способными в любой момент обрушить всю конструкцию, если он сам не примет достаточно энергичных контрмер. Ну и какой же из всего этого следует вывод? Взять себя в руки, забыть обиду, пренебречь собственной гордостью, избавиться от разочарования и гнева, – и сосредоточиться на главном, на насущном, на сугубо конкретном. И продолжать продвижение вперед без оглядки на то, сколько горных вершин еще предстоит покорить и сколько пропастей перепрыгнуть одним прыжком.
Герцль уселся за письменный стол и принялся за письмо: “Его светлости господину Плеве, государственному секретарю и министру внутренних дел России”.
Исписав несколько страниц, он подробно изложил русскому министру драматическое течение Базельского конгресса и конфликтную ситуацию, сложившуюся в результате “угандийского” предложения Англии, пренебрежительно и гневно отвергнутого представителями “палестинской” фракции, состоящей чуть ли не полностью из русских сионистов. Его самого, не утаил от министра Герцль, обвинили в измене общему делу. А те немногие делегаты из России, которые проголосовали за принятие английского предложения, сделали это исключительно из личной симпатии к Герцлю и веры в то, что, даже согласившись на восточно-африканский вариант на словах, он никогда не даст сигнала к общему исходу в означенном направлении. И Герцль вновь напомнил Плеве о согласии того выступить ходатаем перед Николаем II, с тем чтобы самодержец, в свою очередь, повлиял на турецкого султана. Сейчас, подчеркнул Герцль, все зависит от этого и только от этого. И на этом же основываются все его надежды. А если они не сбудутся, то с ним самим, равно как и с политическим сионизмом, будет покончено – и верх возьмет партия, ориентирующаяся на революцию в России. Герцль прекрасно понимал, что подобный поворот событий никак не может устроить хитрого лиса Плеве. И вновь попросил министра внутренних дел о протекции перед государем:
“Заступничество Его Величества перед турецким султаном наверняка окажет решающее воздействие... Я представляю себе это вмешательство следующим образом: если Его Величеству самодержцу соблагорассудится передать мне грамоту, одобряющую палестинский проект, я предъявлю ее Его Величеству султану, соблаговолившему предоставить мне аудиенцию еще в 1901 году. И если одновременно и наряду с этим посол России в Константинополе получит инструкцию поддержать мой демарш, я немедленно отправлюсь в Константинополь, питая надежду на успех, переходящую в полную уверенность... Что касается Германии, то, как мне представляется, с ее стороны препятствий возникнуть не должно. Я имел честь получить в замке Майнау аудиенцию у великого герцога Баденского, и его королевское высочесто соизволили дать мне понять, что немецкое правительство не будет иметь ничего против исхода русских евреев в Палестину, хотя и не готово взять инициативу в свои руки.
И наконец, наверняка не будет преувеличением подчеркнуть, что английский кабинет, уже доказавший сделанным им великодушным предложением свое небезразличие к судьбе нашего несчастного народа, поможет нам и в деле колонизации Палестины.
Так что все зависит исключительно от действий кабинета Его Императорского Величества, причем, по возможности, безотлагательных... Как мне представляется, вопрос поддается решению в кратчайшие сроки, если, разумеется, мои усилия будут надлежащим образом поддержаны. И это означает, что еврейская эмиграция из России может начаться уже через несколько месяцев.
Нижайше ожидаю решения кабинета Его Величества”.
Этим письмом к Плеве Герцль куда решительнее и безоговорочнее, чем в предыдущие две недели, вывел на авансцену палестинский проект, прекрасно понимая, однако же, что тем самым ни в коей мере не отказывается от промежуточного и компромиссного угандийского. Прежде всего следовало оказать помощь влачащей жалчайшее существование массе российского еврейства – причем сделать это надо было как можно быстрее. Их отчаяние и надежды ни в коем случае нельзя было откладывать в долгий ящик. Царю и царскому правительству надлежало наконец-то понять это – или они окажутся выставлены на посмешище перед всей Европой. Но в такой поворот событий
Герцлю верить не хотелось, по меньшей мере, с тех пор, как ему довелось побывать в Петербурге и побеседовать с глазу на глаз сперва с Плеве, а потом с Витте. Потенциал загнанной в глубь агрессии, накопленный угнетаемым еврейством России, был настолько велик, что не заметить это мог разве что слепец, а слепцами оба всесильных министра не были. До сих пор русские евреи безропотно покорялись бесчинству кишиневской черни и произволу виленской полиции, но такое положение не могло сохраниться надолго. И кто возьмется предсказать, много ли времени потребуется евреям на то, чтобы вместо замышляемого ими ныне панического бегства из России – в любую европейскую страну и даже за пределы Европы, где они в любом случае оказались бы – хотя бы на первых порах – отверженными, с еще большей решимостью, чем сейчас, влиться в революционное движение, и без того набирающее силу в России, или в массовом порядке перейти к вооруженной самообороне? Решить эту проблему можно лишь совместными усилиями сионистов и царского правительства. А тот факт, что при подобном стечении обстоятельств большинство покидающих Россию евреев устремится в Палестину, на Землю обетованную, не вызывал ни малейшего сомнения.
Вспомнив свои разговоры с генералом в отставке Киреевым и с начальником департамента Министерства иностранных дел Гартвигом и не желая пренебречь малейшей возможностью дополнительного заступничества в Санкт-Петербурге, Герцль написал сейчас так же им обоим. Никогда ранее, даже в ходе дискуссии с российскими делегатами, развернувшейся на последнем конгрессе, он не ощущал себя подлинным заступником русского еврейства сильнее, чем сейчас. Вослед за письмами в Россию, были написаны и отправлены и другие – послу Германии в Вене, великому герцогу Баденскому, лондонским банкирам. В конце концов Герцль обратился даже к папе римскому, испросив согласия на еврейскую колонизацию Палестины и, разумеется, дав гарантию неприкосновенности тамошних католических святынь. Казалось, он ощутил приток свежих сил. Даже подпись под письмами стала столь же самоуверенно-размашистой, как прежде.
Но как раз в этой фазе Герцля поджидал предательский удар в спину, угроза которого выявилась, впрочем, еще в ходе конгресса. Один из ведущих русских сионистов инженер Усыскин из Екатеринославля не приехал на конгресс, ограничившись отправкой приветственной телеграммы, текст которой сам Герцль, однако же, принял к сведению с явным неудовольствием. Усыскин еще в июне побывал в Палестине и развил там активность, так сказать, на собственный страх и риск. В компании с несколькими единомышленниками и, разумеется, с колонистами он созвал альтернативный, так называемый “палестинский” конгресс и вдобавок к этому принялся в частном порядке скупать у арабов землю. Герцль раздраженно прореагировал на обе инициативы Усыскина, успевшего к тому времени выступить в печати с острой критикой трактата “Еврейское государство” как произведения более чем поверхностного и не делавшего секрета из категорического неприятия им угандийского проекта. Герцль в резкой форме отклонил и осудил “самодеятельность” Усыскина в статье, опубликованной во влиятельном журнале “Вельт”. Деятельность Усыскина приносит делу сионизма только вред, написал он. Приобретение сионистами земельных участков в Палестине может и должно проводиться исключительно на основе международных правовых гарантий, как это и сформулировано в “Базельской программе”. В той же статье Герцль вновь выступил в поддержку угандийского проекта, руководствуясь доводами разума, поскольку душа не лежала к такому и у него самого, и назвал его вполне уместным промежуточным решением на пути к конечной цели, которой, конечно же, является защищенное международными гарантиями независимое еврейское государство в Палестине. Однако этой статье откровенно не хватало всегдашней у прежнего Герцля неумолимой логики, одни ее постулаты приходили в противоречие с другими. Кроме того, раздражение самоуправством Усыскина подвигло Герцля на формулировки, граничащие с личными оскорблениями. Поэтому и отклики на статью в “Вельт” оказались как минимум неоднозначными. Конечно, в стане сионистов к мнению Герцля еще прислушивались, однако и число противников неумолимо росло. Трещина, возникшая на конгрессе, углублялась и расползалась.
И это был уже не первый поединок Герцля с “неистовым Роландом”, как порой именовали Усыскина, и его укорененными в религиозной традиции идеями. Еще в написанном на рубеже веков утопическом романе Герцля “Древняя новая родина” высмеивается узколобость некоего фанатичного еврейского националиста, которому вольно или невольно приданы многие черты Усыскина.
Герцль и сам в эти дни пребывал в полной растерянности. Самоуверенно-размашистая подпись под письмами была своего рода самообманом. Смятение охватило его ничуть не в меньшей мере, чем в Базеле, – в те часы, когда он объявил ближайшим сподвижникам о том, что покидает все посты в сионистском движении. Именно в таком настроении он и набросал черновик “Обращения к еврейскому народу”. В этом “Обращении” речь идет о трещине, проходящей через сердце вождя сионизма, и о последствиях, со всей непреложностью из такой ситуации вытекающих. И, еще раз изложив собственную позицию и поклявшись в верности идеям сионизма, Герцль со всей откровенностью пишет далее, что Палестина, которую можно было обрести еще в 1901 году, прислушайся тогда кто-нибудь к его словам, обернулась недостижимой целью и останется таковой в обозримом будущем. Это был серьезный упрек как соратникам, так и оппонентам, и Герцль усугубил его следующим пассажем: “Раз вы этого сами не желаете, то сказка в наше время не станет былью!” Разумеется, остается в высшей степени сомнительным, что Турция согласилась бы в 1901 году на массовую колонизацию Палестины евреями, даже если бы те смогли изыскать на нее у своих богатых европейских соплеменников и единоверцев достаточные финансовые средства. Необходимо также задаться вопросом, искренни ли были эти сетования вождя мирового сионизма или же упоминание нереализованной возможности являлось всего лишь отчаянным жестом утопающего, хватающегося за соломинку. Но как бы то ни было, Герцль в очередной раз (и, не исключено, с оглядкой на виленские впечатления) призвал сионистов сделать хоть что-нибудь для облегчения участи порабощенной еврейской массы. Уточнив, что это будет возможно только после обретения твердой почвы под ногами, – собственной территории, которая, на его взгляд, может находиться хоть в Уганде. Тогда как категорическое противопоставление угандийского и палестинского проектов неминуемо приведет к расколу, уменьшить масштабы которого он, Герцль, сможет единственно собственной отставкой: “Тогда я покину движение, не потребовав ничего взамен, и мое решение не будет предосудительным. Сообразно своим скромным силам, мне удалось разбудить еврейский народ и создать для него организационную структуру. Я уйду, не ожесточившись и не обидевшись. Конечно, со мной боролись, на меня клеветали, меня оскорбляли, но, поскольку даже злейшие враги не могут попрекнуть меня тем, что я преследовал личные цели или искал материальную выгоду, не говоря уж о том, чтобы и впрямь извлечь ее, все остальные нападки я имею полное право оставить без внимания и ответа”.
Это исповедальное письмо так и осталось черновиком и, возможно, не в последнюю очередь, не было предано огласке потому, что Герцль, едва вернувшись в Вену, получил тревожные сообщения из России. В Харькове прошла конференция ведущих сионистов России, равнозначная мятежу против него самого. В ходе жарких дебатов на конференции, участники которой с самого начала отказались рассматривать какой бы то ни было проект, кроме палестинского, подверглись уничижительной критике стиль руководства, практикуемый Герцлем, его переговоры с министрами царского правительства и, как это было сформулировано, его безответственное шараханье из стороны в сторону в вопросе о территориальном решении еврейской проблемы. Под сомнение оказалась поставлена деятельность всего центрального исполкома всемирного сионистского движения и прежде всего она была осуждена как антидемократическая. Конференция подавляющим большинством голосов потребовала предоставления русским сионистам большей самостоятельности, потому что, как было подчеркнуто, им одним известно, что хорошо, а что плохо для всего российского еврейства, предъявив Герцлю тем самым ультиматум. Это было равнозначно объявлению войны – да еще той стороной или, если угодно, той страной, за освобождение которой Герцль так отчаянно и неустанно сражался в Петербурге! Что же можно было теперь к этому добавить? Разве раскол движения не приобрел необратимые очертания? И разве не превратились отныне письма, которыми с недавних пор Герцль начал обмениваться с русским министром внутренних дел Плеве, в ничего не стоящую бумагу?
Правда, и в России у Герцля оставалось немало сторонников. Но и они начали выказывать теперь свою озабоченность. Так, в одном читательском письме, опубликованном в петербургской “Будущности”, значилось: “Ходят слухи, будто кое-кто из полномочных представителей всемирного сионистского движения в России, будучи недовольны решениями Шестого конгресса и желая спасти “чистый” сионизм, решили предъявить д-ру Герцлю ультиматум, оскорбительный не только для нашего достославного вождя, но и для всех, кто остается верен ему. Поговаривают также, что сам этот ультиматум является простой формальностью, потому что д-р Герцль непременно должен отклонить его, в результате чего полный и окончательный разрыв с ним станет уже неизбежен”.
Герцль оказался в безвыходной, на первый взгляд, ситуации. Конечно, он понимал, что делегаты Харьковской конференции искренне озабочены судьбой движения, однако их нелепые требования, сводящиеся, по сути дела, к переходу всего всемирного движения во власть русского сионизма, были, разумеется, неприемлемы. И когда к нему в Вену прибыли представители харьковских мятежников – и прибыли именно затем, чтобы предъявить ему ультиматум прямо в лицо, он просто-напросто распорядился их не пускать. И далось это ему тем легче, что другая непосильная ноша внезапно свалилась у него с плеч: Англия ни с того ни с сего резко разочаровалась в угандийском проекте.
Вновь на авансцену выдвинулась Палестина, а значит, у Герцля появилась возможность опереться в решающем вопросе на поддержку большинства сионистов. Правда, раскол движения вовсе не оказался тем самым преодолен. Прежде всего – в кругу русских сионистов; новые, половинчатые и уклончивые предложения английской стороны – в любом случае, однако же, исключавшие малейший намек на Палестину, – были в этом контексте предельно взрывоопасны. В письмах на имя Плеве Герцль настойчиво призывал царского министра внутренних дел сделать наконец все от него зависящее и давным-давно обещанное и добиться заступничества Николая перед турецким султаном. Ответ Плеве, согласно которому министр поручил русскому послу в Константинополе предпринять соответствующие шаги в турецкую сторону, его не устроил. Герцль по-прежнему цеплялся за высказанную еще в Петербурге мысль о личном посредничестве царя, а если и об отказе от такового, то тоже личном. Только так можно было запустить турецкую бюрократическую машину. И хотя Герцль ни на минуту не усомнился в том, что Плеве прекрасно информирован об истинном положении дел в России, в очередном письме к министру он сослался на донесшиеся даже до него в Вене слухи об ожидающихся в России погромах. И не имеет значения, действительно ли Герцль прослышал нечто соответствующее действительности или использовал откровенно паникерские разговоры и настроения для дополнительного давления на Плеве, в любом случае не мытьем так катаньем он решил принудить русского царя и правительство начать наконец действовать. И, чтобы придать всем этим усилиям дополнительный вес, Герцль послал в Петербург в качестве своего доверенного лица все того же Кацнельсона, чтобы тот, действуя прямо на месте, добился все еще не полученного разрешения на открытие филиала Еврейского колониального банка.
В эти месяцы Герцль вел войну на несколько фронтов сразу. И проявлял при этом активность, практически непосильную для его изнуренного тела и пошатнувшейся психики. И все же вошел в новую фазу уверенности в собственных силах. В письме великому герцогу Баденскому он известил своего постоянного благожелателя об ожидающихся шагах русского правительства в Константинополе и попросил его замолвить словечко в Берлине перед Вильгельмом, с тем чтобы немецкий посол в Турции получил указание поддержать инициативу российского. Одновременно он еще раз обратился к своим турецким партнерам по когдатошним переговорам в Константинополе и выехал в Италию, вознамерившись заручиться поддержкой палестинского проекта у папы Пия X и короля Виктора-Эммануила III. Но и в Риме, даже если отвлечься от явного нежелания папы выстлать пухом дорогу в Палестину для не верующих в Христа евреев, все свелось к тому, что первый шаг надлежит сделать России, а уж потом и остальные могли бы призадуматься над тем, не предпринять ли что-нибудь в том же духе.
Борьба, которую продолжал вести Герцль, одолеваемый кошмарами, в которых все предпринимаемые им усилия, да и вся его жизнь казались никому не нужными и бессмысленными, все больше походила на схватку с ветряными мельницами, в которую вступил воспетый Сервантесом Рыцарь Печального Образа. А после поездки в Италию Герцль, по свидетельствам очевидцев, стал походить на Дон Кихота даже внешне – причем на Дон Кихота в самом конце его долгих странствий. Вот как описывает Герцля один из немногих допущенных к нему в те дни посетителей: “На смену гордой осанке пришла сутулость, лицо стало болезненно-желтым, глаза, зеркало высокой души, – бесконечно печальными, уста искривлены страдальческой усмешкой”.
В нем почти ничего не осталось от того Теодора Герцля, который, будучи полон уверенности в собственных силах, отправился в начале августа 1903 года из Вены в Санкт-Петербург – в пресловутое “русское путешествие”, на которое он возлагал тогда столько надежд. Но у него еще доставало сил, чтобы предпринять последнюю отчаянную попытку спасти дело своей жизни и добиться основанного на взаимопонимании примирения со своими оппонентами в рамках всемирного сионистского движения. Через полгода после поездки в Россию он созвал в Вену и сторонников, и противников на чрезвычайное заседание расширенного исполкома.
Речь, произнесенная им на этом заседании, входит в число лучших, какие он держал когда-либо, и кое-кому показалось, будто Герцль огласил собравшимся свое политическое завещание. Он начал эту речь такими словами: “Я решил обратиться к вам со словами мира – и только мира. Я знаю, какой разброд идет сейчас в массе наших отважных и достойнейших сионистов по всему миру, а в особенности – в России... Что касается лично меня, то я отказываюсь от каких бы то ни было обид и претензий, я забываю о них и впредь не вернусь к ним хотя бы словом. Но память возвращается ко мне, когда речь заходит о сохранности и целостности нашей организации, о направлении наших усилий, о стремлении к общей цели и о решении конкретных задач, чем мы, собственно говоря, и обязаны заниматься на основе мандата, выданного нам Конгрессом”.
Герцль еще раз упомянул ход и характер прений на последнем Базельском конгрессе, дополнительно проаргументировал собственное приятие угандийского проекта как временного или же переходного решения и категорически подчеркнул, что и на мгновение в мыслях не держал отказываться от проекта палестинского как от вымечтанной и единственно желанной окончательной цели.
Прения по его докладу, опять-таки бурные и противоречивые, растянулись на два дня. С удивительным для него терпением выслушивал Герцль непреклонных оппонентов, сглаживая в ответных репликах остроту полемики и переводя разговор исключительно на существо дела. И кое-кто из участников конференции, отличающийся достаточной наблюдательностью, с изумлением и не без тревоги констатировал, что “венский” Герцль разительно отличается от “базельского”. Конечно же, вне всякого сомнения, он оставался все тем же общепризнанным вождем всемирного сионистского движения. И все же – далеко не тем же... В звучании его речей, в жестикуляции, которыми они сопровождались, отсутствовал всегдашний блеск или, вернее, тот ветхозаветный огонь, которым былой Герцль умел воспламенить слушателей и заставить в ужасе отпрянуть еще недавно выглядевших предельно самоуверенными оппонентов. Огня не было, но жар еще оставался, могучий жар, не ощутить которого не смог бы никто из членов расширенного исполнительного комитета, съехавшихся в Вену, будь он приверженцем Герцля или его противником. Нынешний Герцль чрезвычайно аккуратно выбирал выражения, семь раз отмерял, прежде чем отрезать, он защищал дело своей жизни перед теми, каждый из которых так или иначе внес в это дело свою лепту, он признавал прошлые ошибки, в том числе и собственные, и тем решительнее призывал к единству. Он боролся за утраченное было единодушное доверие сионистов, обретенное им еще в ходе Первого базельского конгресса и пошедшее столь драматическими трещинами в самые последние месяцы.
Никакого единения ему добиться не удалось, да вряд ли он на это и рассчитывал. Но легкое дыхание примирения веяло над головами уже засобиравшихся по домам делегатов. Герцль с удовлетворением записал себе в актив тот факт, что даже русские сионисты избавились от предубеждения против него в качестве единственного вождя всемирного движения. Теперь мысленный взор каждого устремился к предстоящему Седьмому конгрессу, и все согласились с Герцлем в том, что остающиеся острыми вопросы должны быть обсуждены там без какой бы то ни было предвзятости.
Лишь ближайшие сподвижники Герцля осознавали, чего стоили ему титанические усилия, предпринятые в эти дни. 14 все же он строил новые планы, он замышлял поездку в Париж и отдельно – в Лондон. Слишком многое оставалось в подвешенном состоянии, дожидаясь окончательного решения в ту или в другую сторону. Но больное сердце Герцля уже не выдерживало подобной перегрузки. По настоятельному совету врачей он отправился на отдых и лечение во Франценсбад. 14 оттуда вновь разослал серию писем – в Рим, в Вену, в Санкт-Петербург. В петербургском письме, адресованном Плеве, речь, как и в прошлые разы, шла о необходимости сделать хоть что-нибудь для облегчения участи российского еврейства. Что же касается собственной участи, то на сей счет – после очередного и крайне тяжелого сердечного приступа – у Герцля уже не оставалось никаких иллюзий. Заехавшему во Франценсбад проведать Герцля Кацнельсону он с усталой усмешкой на губах объявил: “К чему обманываться? В моем случае третий звонок уже прозвенел. Я не ослаб духом и ожидаю близкого конца совершенно спокойно, тем более что последние годы жизни оказались потрачены далеко не впустую. Я ведь не оказался нерадивым служкою во храме нашего движения, не правда ли?”
После того, как стало ясно, что лечение не увенчалось успехом и состояние здоровья Герцля только ухудшилось, он вернулся в Вену – физически сломленный и уже носящий на челе печать смерти. Однако климат в австрийской столице подходил ему еще меньше, и вот, в начале июня 1904 года, он в сопровождении преданно и самоотверженно заботящейся о нем супруги выехал в Эдлах на горе Земмеринг. Это был один из популярнейших горных курортов, и здесь ему и впрямь несколько полегчало, и он преисполнился новым оптимизмом. Увы, напрасным... Это был последний всплеск жизненных сил. И 4 июля 1904 года земной путь Теодора Герцля завершился. Было ему тогда сорок четыре года.
И, по случайному совпадению или же в силу часто поминаемой поговорки о том, что несчастья ходят парой, через три недели в Петербурге бомбист-революционер убил министра внутренних дел Плеве. Разрыв бомбы прозвучал дальним зловещим салютом над могилой Герцля.
Мир не содрогнулся, когда скорбная весть из Вены распространилась по странам и континентам. Он был слишком занят самим собою. Лишь в нескольких столицах – в Париже, в Лондоне, в Берлине и в Санкт-Петербурге – вздохнули, возможно, тамошние чиновники: “Ах да, Герцль... Значительный человек. Пожалуй, это потеря". Газеты – да и то далеко не все – поместили более или менее краткие сообщения – в зависимости от собственного политического курса. В стане сионистов на время (пусть и на весьма недолгое) забыли о кричащих противоречиях и облачились в приличествующий обстоятельствам траур. Друзья и сподвижники горевали; к тому же, они сразу же начали догадываться, что с кончиной Герцля сионистское движение расколется окончательно. Горькие вздохи и безысходные стенания прокатились однако повсюду – от Франции до России и от Палестины до Америки, – где во градах и весях жили евреи, величайшая надежда которых была связана с именем Теодора Герцля, посулившего им не только независимое еврейское государство, но и новое – справедливое и гуманное – общественное устройство, при котором все они почувствовали бы себя воистину свободными людьми.
В санкт-петербургском русско-еврейском журнале “Будущность” в нескольких номерах подряд печатались слова прощания и преклонения – последняя дань российского еврейства великому современнику и вместе с тем первые отклики на страшную потерю. Едва ли не самым прочувствованным оказался опубликованный раньше остальных, тогда как в последующих – и куда более трезвых – порой предпринимались попытки подвергнуть деятельность вождя сионизма критическому анализу:
“...Невозможно передать ощущение воистину невыносимого страдания, охватившего евреев, сионисты они или нет, при известии о безвременной кончине. Все были потрясены и смогли в смятении твердо и горько осознать лишь одно: для всего еврейского народа этот уход обернется катастрофой, масштабы и последствия которой непременно окажутся ужасными. Прошло всего несколько дней – и всеобщая печаль многократно возросла. Всему еврейству разом снится словно бы невыносимо страшный сон. Следует признать, что ничья смерть не потрясала еще еврейство столь сильно и единодушно. Плач и стенания охватили наш народ и раскатились по небу над крышами домов, в которых живут рассеянные по свету евреи. И это вовсе не истерия, сформировавшаяся и накопившаяся за годы и столетия адских мучений в гетто и теперь выплеснувшаяся наружу. Это совершенно естественное явление. Смерть Герцля означает уход не только создателя и вождя сионистского движения, но и великого предсказателя горьких несчастий всего еврейства...







