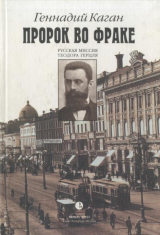
Текст книги "Пророк во фраке. Русская миссия Теодора Герцля"
Автор книги: Геннадий Каган
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 10 страниц)
Герцль привел себя в порядок, переоделся, перекусил в гостиничном ресторане “Крыша” и сел на извозчика, благо, у “Европейской” всегда стояли в ожидании пассажиров несколько экипажей.
“Куда прикажете, ваше высокоблагородие?”
Герцль назвал адрес Полины Корвин-Пиотровской: Гороховая улица, 26.
Полька, в свои сорок с лишним вполне сохранившая то неотразимое обаяние, которое общеевропейская молва приписывает ее соплеменницам, приняла его радостно и без церемоний – как старого доброго знакомого. Едва заметно усмехнулась, когда Герцль поцеловал ей ручку: ничего не скажешь, венская школа! В ответ он подчеркнул, что является уроженцем Будапешта, но светская львица пренебрежительно отмахнулась: по меньшей мере в том, что касается изысканных манер, между Веной, Будапештом и той же Варшавой нет разницы.
В гостиной, после того как Герцль обстоятельно рассказал о своей поездке, перешли к обсуждению подлинной цели его визита в Петербург. Полька извлекла из шкатулки письмо, присланное ей министром внутренних дел, значительным и дальновидным политиком и во всех отношениях рыцарственным мужчиной, как не без восторженности охарактеризовала она его, – так сказать, Людовиком XIV, лордом Пальмерстоном и лордом Гладстоном в одном лице.
Герцль не поручился бы, что этот лестный портрет дан ею без малейшего оттенка иронии, но если даже так, то Корвин-Пиотровская не подала и виду. Он понял, что должен оставить без комментариев и тем более без возражений эту скорее эмоциональную, чем реалистическую оценку министра Плеве, сделанную благородной и великодушной дамой, хлопочущей за него и его интересы в Петербурге и уже выправившей ему подорожную в Россию, что без ее заступничества обернулось бы делом долгим, если не попросту безнадежным. И как знать, может быть, министр внутренних дел и впрямь приятный в личном общении человек. Но Герцлю необходимо было составить о нем собственное суждение, по возможности, не зависимое от каких угодно высказываний и мнений, будь это проклятия, которыми осыпают Плеве здешние евреи, или похвалы, расточаемые вообще-то симпатизирующей идеям сионизма Корвин-Пиотровской. Полезной информацией оказался тот факт, что оба они – министр и светская львица – не коренные столичные жители: полька родом из Вильны, а Плеве – из Варшавы. Впрочем, Плеве уже давным-давно гражданин России, а с некоторых пор – и потомственный дворянин, и за это он должен благодарить собственного отца, который еще до рождения Вячеслава (как доверительно называла министра Корвин-Пиотровская) стал подданным российской короны и в конце концов, всего два года назад, получил личное дворянство.
– Тоже, подобно сыну, высокопоставленный государственный служащий? – поинтересовался Герцль.
– Был начальником штаба Варшавского военного округа, – пояснила хозяйка дома. – Однако удалился на покой и в связи с окончанием службы награжден Орденом св. Владимира четвертой степени.
Герцль позволил себе усмехнуться.
– Варшавский петербуржец, выходит. А если немного соскрести краску с фасада, то, не исключено, и еврей.
В ответ Корвин-Пиотровская тоже усмехнулась.
– А про поляков этого никогда не знаешь наверняка. Что ж, по крайней мере, с моего фасада краску пришлось бы соскребать довольно долго.
– Но, в конечном счете, не без успеха?
– Ну это уж в вас взыграла фантазия еврейского литератора.
Рассмеявшись и шутливо погрозив пальчиком Герцлю, она вручила ему письмо министра внутренних дел.
В своем письме Плеве просил Корвин-Пиотровскую известить Герцля о том, что он ждет его сегодня же, в полдесятого вечера, у себя в кабинете.
– Вам известно, где это? – спросила дама, забирая у него письмо. – Ну, конечно, нет. Да и откуда же? Значит, запоминайте: Фонтанка, 16. Этот адрес знаком каждому питерскому извозчику. Мы теперь говорим “Питер” и “питерский” – по этой детали опознают подлинных петербуржцев.
Разочарование Герцля в связи с отсутствием рекомендательного письма лорда Ротшильда министру финансов Витте оказалось забыто. Какая, в конце концов, разница, кто именно организует ему аудиенцию у Николая II? И, скорее всего, и здесь, как это уже было при дворе императора Вильгельма и турецкого султана, для достижения цели следует руководствоваться указаниями официальных инстанций.
Как ни приятно было общение с очаровательной полькой, Герцлю нечего было рассиживаться у нее в гостях. Он еще раз поблагодарил Корвин-Пиотровскую за ее хлопоты и всего пару минут спустя поймал извозчика. Конечно, всё происходило стремительнее, чем он рассчитывал, и у него практически не оставалось времени собраться с мыслями, но, с другой стороны, разве не устраивал его такой поворот событий? Ведь во время поездки в Россию, с момента пересечения границы, он настраивался на встречу с министром внутренних дел. Интерес к предстоящей аудиенции подогревался и любопытством: каким окажется при личной встрече этот столь лестно аттестованный Полиной Казимировной человек? Герцль без особой нужды поправил “бабочку” – ведь его борода фактически закрывала ее – и почувствовал при этом, что его руки влажны; пришлось вытереть их носовым платком. При всей сдержанности он по-прежнему стремился произвести на любого собеседника самое выигрышное впечатление буквально с первого взгляда. Вспомнить только, какой успех ожидал его некогда в парижском салоне мультимиллионера Хирша, хотя там он был еще никем и ничем и его идеи казались всем чистой фантастикой.
Здание Министерства внутренних дел находилось, как и сказала Герцлю Корвин-Пиотровская, на Фонтанке. Этой реке и еще нескольким рекам и каналам, образующим единую систему, Петербург обязан поэтическим наименованием – Северная Венеция. Летом, впрочем, от водной поверхности порой не слишком приятно пахнет, что и заставляет петербуржцев, имеющих возможность снять дачу на Островах, спешить из города, так рассказывал Герцлю Кацнельсон. Кстати, что-то похожее он читал у Достоевского и, кажется, у Гоголя, сейчас уже не вспомнить. Так или иначе, никакого запаха он не ощущал, полностью уйдя в свои мысли о предстоящей аудиенции. Извозчик придержал лошадей и указал кнутовищем на два подъезда.
– Куда вам, ваше высокоблагородие? Налево или направо? В министерство или в департамент полиции?
Герцль внимательно осмотрел оба здания, благо вид на них открывался прекрасный, и в конце концов сделал выбор в пользу того из них, фасад которого был отмечен большей печатью классицизма. Это решение оказалось правильным. Рассчитавшись с извозчиком, Герцль еще раз окинул взглядом длинный ряд окон балконного бельэтажа и вошел в парадный подъезд. Очутившись в приемной у министра, первым делом назвал свое имя. Плеве, стоя в нише у окна, скрестив руки на груди, посмотрел на него сверху вниз из-за разницы в росте. Не зря Герцль был в молодости драматургом, а в душе оставался им до сих пор. Он отлично знал, какое колоссальное значение имеет первый выход на сцену. Успех актера, да и всего спектакля в целом, порой зависит от этого в решающей мере.
Минуты томительного ожидания в приемной. Тишина. Лишь исполненный напускного безразличия взгляд одного из здешних служащих, скорее всего, сыщика. Герцль выдержал этот взгляд и не без удовлетворения отметил, что чиновнику в конце концов пришлось отвернуться. Меж тем ожидание затягивалось. Еще один служащий (или сыщик) заглянул в приемную, посмотрел на Герцля и вышел. Но вот створки дверей раскрылись. Министр зовет его в кабинет.
Позже, в дневнике Герцль так опишет первое впечатление, произведенное на него министром:
“Шестидесятилетний мужчина высокого роста, несколько полноватый, стремительно шагнул мне навстречу, поздоровался со мной, пригласил присесть и, если мне угодно, закурить (последнее предложение я отклонил), и заговорил первым. Разглагольствовал он довольно долго, так что у меня была возможность хорошенько разглядеть его раскрасневшееся от волнения лицо. Мы сидели в креслах по две стороны журнального столика. Лицо у него в целом строгое и, пожалуй, нездоровое, седые волосы, белая щетка усов и поразительно живые и молодые карие глаза.
Он говорил по-французски – не блестяще, но и не дурно. И начал с разведки местности”.
Поневоле в ходе пространного монолога министра Герцлю пришли на ум слова, сказанные о том Корвин-Пиотровской, и он с трудом удержался от усмешки: ничего себе Людовик XIV! Сравнение, мягко говоря, рискованное. Человек, в рабочем кабинете которого Герцль сейчас находился, был типичным русским начала нового, двадцатого, столетия и, скорее всего, антисемитом, пусть и просвещенным антисемитом. Но будь он хоть самим дьяволом (а в западных газетах его порой характеризовали именно так), то это был дьявол мефистофельской породы, и провести его было бы наверняка не легко. Поэтому Герцлю следовало быть начеку.
О том, какое впечатление сам Герцль произвел на Плеве, можно только догадываться. Возможно, министра поразило то, как не похож оказался этот вечерний посетитель на карикатурного горбоносого еврея. Да и никакого особого чинопочитания, не говоря уж о подобострастии, он явно не ощущал.
Сухо и без обиняков министр объявил Герцлю, что не слишком дружественное отношение царского правительства к сионизму может, на его взгляд, измениться в лучшую сторону, но зависит это исключительно от самого Герцля.
Это было четкое и недвусмысленное изложение собственной позиции. Игра началась, и Герцль вспомнил слова Кацнельсона в купе за шахматами и свой ответ: “Ни ладей, ни ферзя я жертвовать не стану”.
Герцль кивнул в знак согласия и заметил, что, завись отношение от него одного, оно было бы просто-напросто превосходным.
Тут Плеве приступил к развернутому и обстоятельному изложению точки зрения царского правительства:
– Еврейский вопрос имеет для нас важное значение, пусть и не жизненно важное. И мы стараемся решить его по-хорошему. Я дал согласие на встречу с вами, чтобы, выполняя вашу просьбу, провести эту беседу еще перед открытием базельского конгресса. Я понимаю, что ваш взгляд на проблему не совпадает с точкой зрения российского правительства, и поэтому в качестве вступления изложу именно ее.
Российское государство стремится к единству всего населения страны. Тем не менее, мы понимаем, что не все конфессиональные и языковые различия могут быть преодолены полностью. Так, например, мы терпим распространение в Финляндии более древней, чем наша, скандинавской культуры. Но чего мы требуем и всегда будем требовать от всех народов империи, включая, разумеется, и евреев, – это патриотическое отношение к России и государству. Патриотизм как предпосылка и объективная данность. Мы добиваемся ассимиляции русского еврейства и предлагаем два направления для достижения этой цели: получение высшего образования или успешная экономическая деятельность. Тот, кто выполнит определенные условия как первого, так и второго рода, и о ком мы можем с уверенностью сказать, что он в силу полученного образования или достигнутого имущественно-финансового статуса является сторонником существующего порядка вещей, становится полноправным гражданином. Однако, надо признать, столь желанная для нас ассимиляция идет крайне медленно.
Герцль внимательно выслушивал министра. В конце концов попросил у Плеве лист бумаги, чтобы законспектировать главные тезисы оппонента, прежде чем отвечать на них. Плеве тут же кивнул, раскрыл лежащий на письменном столе блокнот и – завзятый бюрократ – бросил взгляд на чистый лист перед тем как вырвал его из переплета. Подавая лист Герцлю, предостерег: “Надеюсь, вы не злоупотребите самим фактом данного собеседования”.
Герцль, с самого начала понявший, что министру менее всего хочется прикасаться к теме кишиневского погрома, заверил Плеве, что беседа и впредь пойдет в избранном самим государственном мужем направлении.
Торопливо записывая на листе самые примечательные высказывания министра, Герцль сперва неуверенно, но с каждой минутой все сильнее проникался ощущением, будто Плеве и впрямь склонен видеть в идеях политического сионизма возможное решение еврейского вопроса. “Неужели, – думал Герцль, – этот дальновидный и прекрасно информированный политик не понял – хотя бы после кишиневских событий, – что погром легко может выломиться из национальных и конфессиональных рамок и вообще выйти из-под контроля? И что массовые антиеврейские акции буквально загоняют евреев – и тоже в массовом порядке – в революцию?”
Плеве подождал, пока Герцль не отложит карандаш в сторону, и продолжил затем свои пояснения:
– Разумеется, благо высшего образования мы можем предоставить лишь ограниченному в процентном отношении числу евреев, потому что в противоположном случае у нас в обозримом будущем не осталось бы достойных вакансий для православных. Также я не упускаю из вида того, что материальное положение евреев в черте оседлости просто-напросто скверно. Согласен, они живут там, как в своего рода гетто, однако в гетто огромном – включающем в себя территорию тринадцати губерний. Ранее мы симпатизировали сионистскому движению, поскольку оно подталкивало евреев к выезду из страны. И вам не придется преподносить мне азы сионизма: я, что называется, в курсе дела. Но после минского конгресса мы обнаружили, что сионизм сменил курс. Теперь речь идет не столько об отъезде в Палестину, сколько о культурной автономии, о формах организации и об осознании себя евреями отдельной нацией. Честно говоря, нас это не устраивает.
Министр изумил Герцля знанием положения дел в деталях и лицах. Судя по всему, его регулярно и тщательно информировали о сионистском движении и о ростках, пущенных сионизмом в России. И, словно в подтверждение справедливости этих мыслей, министр поднялся с места и извлек из книжного шкафа увесистый том в коричневом переплете с золотым ободком – не книгу даже, а роскошную кожаную папку с бесчисленными донесениями о деятельности сионистов в России, проложенными изрядным количеством закладок. Листая папку и не без труда удерживаясь от злой усмешки, Плеве заговорил о тех из числа русских сионистов (называя каждого из них по фамилии), кто в той или иной мере находился в оппозиции к Герцлю. Похоже, эти люди не остановились бы ни перед чем, лишь бы подставить Герцлю подножку, и, кстати говоря, в некоторых случаях им это определенно удалось. Попытку Герцля перевести разговор на другую, не столь взрывоопасную, тему Плеве парировал, заведя речь о руководителе киевского кружка сионистов и начальнике тайного сионистского почтамта. Министр склонился над страницей, словно мучительно разбирая имя, которое было ему, разумеется, прекрасно известно. “Бернштейн-Коган”, – произнес он наконец. Это был, по словам Плеве, непримиримый противник Герцля и, кроме того, человек, о котором в Петербуре знали как об активном участнике и одном из дирижеров развязанной в западной прессе антироссийской кампании.
Герцль решительно возразил министру:
– Ваше сиятельство, в это я просто не верю. Об этом человеке за границей практически никто не слышал. У него нет на Западе ни связей, ни достаточного авторитета. А что касается его оппозиционности по отношению ко мне, то это известный феномен, с которым довелось когда-то столкнуться еще Христофору Колумбу. Когда на исходе многих недель океанского плавания на горизонте так и не показалась суша, матросы принялись ругать своего капитана. Помогите мне поскорее найти сушу – и бунт на борту закончится. Да и отток моих сторонников в ряды социалистов прекратится тоже.
Последний аргумент казался Герцлю, осведомленному о тяготении части еврейского пролетариата в России к социалистическим идеям, особенно важным. И он четко осознавал необходимость предельно ясно растолковать министру альтернативу: “палестинский” политический сионизм противостоит сионизму социалистическому, который пропагандируют отдельные группировки как в Польше, так и в самой России. И пусть тот факт, что сам Герцль еще не пользовался поддержкой большинства русского и мирового еврейства и даже на конгрессах сионистов сталкивался с жесткой оппозицией собственным взглядам, лил воду на мельницу Плеве, сшить шубу из внутриеврейских противоречий министр был бессилен. Скорее, он поневоле должен был осознать, какую выгоду и для него, и для российской внутренней политики в целом сулит согласие на инициативы вождя политического сионизма.
Плеве позволил Герцлю договорить до конца. Откинулся в кресле, закинул ногу на ногу.
– Ну, и какой же помощи вы от нас требуете? – спросил он внезапно и без какого бы то ни было перехода от темы к теме.
Герцль перевел дух. Наконец-то дело дошло до главного. И начал излагать свою состоящую из трех пунктов программу: во-первых, действенное давление русского царя на турецкого султана; во-вторых, предоставление правительственной финансовой помощи эмигрирующим в Палестину евреям, на что должны пойти кредиты и субсидии исключительно еврейского происхождения; в-третьих, создание благоприятных условий для пропаганды идей политического сионизма в России, если эта пропаганда укладывается в рамки принятой на конгрессе в Базеле программы.
Лицо министра оставалось предельно бесстрастным, однако – по крайней мере, сию минуту – у него не нашлось возражений планам Герцля. Плеве попросил Герцля предоставить ему эти предложения развернуто, в письменном виде. Кроме того, ему захотелось заранее ознакомиться с тезисами доклада, который Герцль сделает на ближайшем конгрессе в Базеле, тем более что конгресс этот состоится сразу же по возвращении вождя сионизма из России.
Переговоры ощутимо клонились к концу. Плеве и Герцль, правда, успели коснуться еще нескольких вопросов, и министр счел возможным детализировать кое-что из высказанного им ранее. Но у Герцля оставалась в запасе еще одна просьба к министру. Просьба деликатная, и он оттягивал этот разговор до последнего. Потому что ему было известно (и Корвин-Пиотровская подтвердила это), что Плеве в неважных отношениях с министром финансов Витте. Но, поскольку лорд Ротшильд отказал ему в рекомендательном письме, у Герцля не оставалось другого выхода, кроме как попросить о рекомендации самого Плеве. С особой тщательностью выбирая выражения, он изложил эту просьбу и не слишком удивился, обнаружив, что Плеве она пришлась явно не по вкусу.
“Эта рекомендация необходима”, – торопливо добавил Герцль, потому что ему нужно попросить Витте о снятии запрета с деятельности Еврейского колониального банка, ведь данный запрет существенно затрудняет работу вожаков политического сионизма в России.
Плеве, на мгновение задумавшись, дал согласие предоставить рекомендацию, но добавил, что это ни в коем случае нельзя расценивать как официальное прошение одного министра на имя другого. Вопрос о том, принимать или нет Герцля, он оставит целиком и полностью на усмотрение министра финансов. Плеве уселся за письменный стол, написал примерно полуторастраничное послание графу Витте, вложил в конверт и тщательно запечатал его, прежде чем вручить Герцлю. Тот с напускным безразличием воспринял то обстоятельство, что рекомендацию ему предоставили в запечатанном конверте, хотя, разумеется, содержание письма интересовало его – и весьма. Однако, не подав виду, он поднялся с места, спрятал письмо в карман и попрощался с Плеве, не забыв напоследок испросить у министра еще одну личную аудиенцию – после того, как тот получит программу действий Герцля в письменном виде и ознакомится с нею. Плеве, кивнув в знак согласия, подал ему руку:
– Мне действительно было крайне интересно встретиться с вами, – и не сочтите эти слова за пустую формальность.
– Мне тоже, ваше сиятельство, – ответил Герцль. – Мне очень приятно получить личную аудиенцию у министра Плеве, о котором говорит вся Европа.
Плеве усмехнулся:
– О котором вся Европа говорит сплошные гадости!
И вновь Герцлю вспомнились славословия по адресу Плеве, расточаемые Корвин-Пиотровской.
– О котором говорят такое, что мне заранее стало ясно, что речь идет о человеке чрезвычайно значительном, – дипломатично ответил он.
На этом первая аудиенция Герцля у российского министра внутренних дел и закончилась. В вестибюле, прежде чем выйти на набережную, он наскоро пролистал сделанные в ходе разговора заметки и попытался сделать предварительные выводы. Безусловно умный человек этот Плеве – и к тому же хитрый. Так и не дал поймать себя ни на чем, мастерски отбивая любую подачу. Но чего другого следовало ожидать? Так или иначе, Герцль получил точку зрения российского правительства в некотором роде из первых рук. Оставалось запастись терпением, чтобы выяснить, тех же или других взглядов на еврейский вопрос придерживается Николай II. Плеве ни словом не обмолвился о самодержце—и поэтому Герцль, судя по всему, повел себя правильно, в свою очередь, даже не заикнувшись о содействии в получении высочайшей аудиенции. Об этом можно будет, наверное, попросить министра при следующей встрече. Кроме того, здесь, в Петербурге, даже если отвлечься от министра финансов Витте, конечно же, имелись и другие возможности, которые стоило прозондировать. Так или иначе, первый шаг сделан, и вторая аудиенция у Плеве уже обещана. Министр ждет тезисов в письменном виде – и он их получит.
Выйдя на набережную, Герцль не захотел брать извозчика. Ему нужно было собраться с мыслями, привести разрозненные впечатления и догадки в систему, – и прогулка пешком до гостиницы как раз предоставляла удобную возможность. Он перешел через Фонтанку и скорее наугад, чем повинуясь вообще-то мало уместному здесь чувству ориентации, углубился в лабиринт улочек и переулков, вновь выведший его в конце концов к какой-то реке или, пожалуй, каналу. Осведомившись у уличного разносчика, Герцль узнал, что перед ним Екатерининский канал и что, как объяснил словоохотливый торговец, достаточно пройти по нему несколько шагов, чтобы оказаться буквально рядом с гостиницей “Европейская”. Однако, погруженный в размышления о только что закончившейся аудиенции, Герцль пропустил нужный поворот и внезапно очутился перед массивной кованой оградой, за которой простирался обширный сад, виднелось больше, похожее на замок здание, и высился, вырастая чуть ли не из самых вод канала, великолепный храм со множеством разноцветных куполов и луковок, показавшийся Герцлю любопытным образом не вписывающимся в общий образ города, который, впрочем, открывался ему до сих пор, главным образом, из извозчичьих дрожек.
“Странное место для собора”, – подумал Герцль, и, вернувшись в гостиницу, проинформировав Кацнельсона о встрече с министром и выслушав столь типичные для того ахи и охи, попросил рассказать о соборе.
– Собор Воскресения Христова, – пояснил Кацнельсон. – По стилю зодчества скорее московский или, по меньшей мере, новгородский. Однако есть особая причина тому, что его воздвигли именно здесь, в Петербурге. В точности на этом месте двенадцать лет назад взорвалась бомба, убившая Александра II, реформатора и освободителя. Собор воздвигнут в его память, и в народе его называют Спасом на крови.
– Вот уж город так город – на каждом шагу сталкиваешься с самой Историей, – задумчиво сказал Герцль. И Кацнельсон кивнул в знак согласия:
– Быть российским самодержцем – это чрезвычайно опасное занятие. За триста лет царствования династии Романовых насильственной смертью умерли шестнадцать венценосцев. Но Петербург и в этом отношении совершенно особый город. И его воздух погибелен не только для царей. Так, например, предшественник только что побеседовавшего с вами господина Плеве на посту министра внутренних дел был год назад застрелен террористом в Мариинском дворце, где заседает Государственный совет.
Герцль поневоле вспомнил о шекспировских трагедиях и исторических хрониках. И вновь подумал о министре внутренних дел: представил себе, как тот сидит, нога на ногу, в мягком кресле, – корректно и, вместе с тем, непринужденно. И внезапно у него возникло острое предчувствие сродни мгновенной вспышке ясновидения. Перед его мысленным взором предстал совершенно другой Плеве: глаза закатываются, крахмальная сорочка залита кровью...
– Вам нехорошо? – испугался Кацнельсон. – Вы что-то вдруг побледнели.
Герцль покачал головой.
– Бывает, – сказал он.
Кацнельсон обеспокоенно поглядел на друга и вождя:
– Это всё здешний климат. К нему приходится привыкать. Особенно – в пору белых ночей. Говорят, что у людей с повышенной чувствительностью случаются в этот период галлюцинации. Прямо средь бела дня. Этот город и впрямь на любителя.
– Вздор! – ответил Герцль, вставая с места. И распорядился подать себе в номер кофе. – Крепчайший! – крикнул он вслед коридорному и тут же принялся сочинять письменные тезисы для министра внутренних дел. Но ему потребовалось определенное время, чтобы избавиться от "галлюцинации”, как назвал его странное видение Кацнельсон, и от неприятного осадка, оставленного климатическим объяснением происшедшего. Но вот он разложил на конторке свои заметки, лишний раз пробежал их глазами и обмакнул наконец перо в чернильницу. Два раза он комкал лист с начатым было текстом и только с третьего ему удалось, восстановив душевное равновесие, непосредственно приступить к делу.
"Ваше сиятельство,
суть беседы, удостоить меня которой Вы не сочли для себя за труд, вкратце может быть сведена к следующему:
В намерении решить еврейский вопрос гуманным способом и тем самым воздать должное как требованиям российской государственности, так и потребностям еврейского народа, царское правительство сочло целесообразным поддержать сионистское движение, признав тем самым присущую ему тенденцию к законопослушанию.
Вышеупомянутая поддержка могла бы заключаться:
1. В действенном посредничестве Его Императорского Величества при решении проблем с турецким султаном. Речь идет о получении евреями хартии на колонизацию Палестины за вычетом святых мест. Палестина при этом останется в составе Оттоманской империи. Но местную власть возьмет на себя ведомая и финансируемая сионистами колониальная администрация. Вместо сбора налогов с последующим перечислением в имперский центр эта администрация обяжется ежегодно выплачивать в султанскую казну взаимно обговоренную фиксированную сумму. Средства на это, как и на прочие расходы (общественные работы, образование и прочее), администрация предполагает изымать у новопоселенцев.
2. Правительство царской России окажет финансовую помощь иммиграции в Палестину, пустив на это деньги (включая налоговые выплаты) исключительно еврейского происхождения.
3. Правительство царской России облегчает законопослушную организационную деятельность русских сионистов в рамках Базельской программы. От воли Вашего сиятельства зависит, в какой мере и форме это будет доведено до сведения общественности. Наш Базельский конгресс, открывающийся 10 (23) августа, может в этом плане оказаться весьма полезным. Одновременно положив конец известным умонастроениям и волнениям.
Представляю на суд Вашего сиятельства нижеследующий текст объяснения, с которым предполагаю выступить на конгрессе:
“Я имею полномочия объявить, что царское правительство России намеревается в наших интересах просить у Его Императорского Величества посредничества перед турецким султаном в деле колонизации Палестины. Кроме того, царское правительство предоставит на цели эмиграции, возглавляемой сионистами, финансовые средства еврейского происхождения. И, чтобы дополнительно подчеркнуть гуманистический характер предпринимаемых мер, царское правительство намеревается в ближайшее время изменить черту оседлости в сторону ее расширения для тех евреев, которые пожелают остаться в стране”.
Герцль перечитал написанное и отправил письмо на адрес Министерства внутренних дел. На данный момент никаких других дел у него просто не было.
За окнами с нетерпением дожидалась гостя российская столица, как, впрочем, ждала она каждого, кто приехал сюда впервые.
Но на круговую панораму, на реки с каналами, на дворцы по набережным Невы, на сады и парки в их летнем великолепии, – на всё это при первом восторженном проходе по городу просто-напросто не оставалось времени. И все же —куда от них денешься: от широкой и многолюдной магистрали Невского проспекта, от удлиненного здания Адмиралтейства со знаменитой “иглой” – уходящим в небо золоченым шпилем, от величественного Исаакиевского собора и от конной статуи Петра I работы французского скульптора Фальконе, послужившей Пушкину источником вдохновения в поэме “Медный всадник”! И наконец Стрелка – остроугольный мыс Васильевского острова, делящий Неву на два рукава неподалеку от места ее впадения в Финский залив.
Вот какова она, самая молодая из великих столиц Европы – ведь прошло всего двести лет с тех пор, как ее основал Петр I, по справедливости называемый Петром Великим не одними только русскими историками! Здесь, “из топи блат”, восстала новая столица страны, провозглашенной империей, – город Санкт-Петербург, поразительно отличающийся от всей остальной России, как вычитал Герцль, готовясь к поездке в далекую северную страну. И другими, нежели в Москве, Киеве или Саратове, должны быть здешние люди – и не только потому, что Петербург они называют Питером, как объяснила Герцлю Корвин-Пиотровская. Они здесь и говорят, и живут по-иному. Никому из побывавших в Петербурге до Герцля или после него не удалось избежать очарования открывающейся со Стрелки панорамы, и сейчас он смотрел отсюда на оба берега реки сразу: слева – длинная Дворцовая набережная с Эрмитажем, он же Зимний дворец царей, и Летним садом вдали; справа – устремленный в небеса золотой купол Исаакия, а на противоположном берегу мрачные бастионы Петропавловской крепости, в которых веет самой Историей. Крепость, возведенная Петром I как опора в войне со шведами, использовалась затем как узилище, в котором томились – порой до самой смерти – русские вольнодумцы, как, например, мятежники из аристократической и офицерской среды, восставшие 14 декабря 1825 года против императора Николая I. Конечно, это величавое зрелище произвело впечатление и на Герцля, но, не будучи ни туристом, ни зевакой, он не мог позволить себе бесцельного любования. Он уловил некое напряжение, существующее между царским дворцом на одном берегу и казематами Петропавловской крепости на другом, он вздрогнул, услышав пушечный залп, громыхнувший над водами. С Петропавловки палят ровно в полдень, так заведено с Петровской поры, пояснил ему Кацнельсон. И вновь Герцль вспомнил давным-давно ставшее крылатым выражение: “Россия – варварская страна”; разумеется, это всего лишь клише, но наверняка не лишенное смысла. Он понимал, что у столицы есть лицо, фасад, парадная сторона, тогда как ее подлинная жизнь протекает не на виду; он сам столкнулся с этим при встрече с министром внутренних дел дьявольски умным антисемитом Плеве. И у него не было никаких иллюзий и относительно живущего в Зимнем дворце самодержца: тоже антисемит, пусть и в овечьей шкуре,– и все равно к нему необходимо пробиться, иначе русская миссия Герцля так и останется безуспешной.







