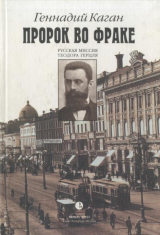
Текст книги "Пророк во фраке. Русская миссия Теодора Герцля"
Автор книги: Геннадий Каган
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 10 страниц)
– Вопрос о Курляндии и Риге не вызывает у меня отторжения, я им, кстати, уже занимался. Мы ничего не имеем против того, чтобы допустить евреев в те края, где их уровень жизни окажется не выше, чем у коренного населения. Поэтому в прибалтийские провинции – к немцам и латышам – мы их, пожалуй, пустим.
А вот с покупкой пахотной земли дело совершенно другое. Я и сам когда-то носился с мыслью предпринять нечто в этом роде. Войдя в правительство, я хотел предоставить евреям в черте оседлости право приобретать от трех до пяти десятин пахотной земли. Однако, когда я запустил пробный шар через прессу, разразилась такая буря протестов с русской стороны, что мне пришлось отказаться от этого плана. “Плеве хочет ожидовить русскую землю”,—так это звучало у моих оппонентов.
Плеве сделал паузу. На его лицо набежала тень воспоминаний. Едва заметно улыбнувшись, он продолжил:
– Вам следует знать, что я пришел во власть как друг евреев. Детство и отрочество я провел в их кругу. Это было в Варшаве, где я прожил с пяти до шестнадцати лет. Я жил в родительской семье, в весьма стесненных обстоятельствах, в доходном доме. Квартирка у нас была крошечная, и детьми мы поневоле играли во дворе. И я водился исключительно с еврейскими мальчиками и девочками. Все мои тогдашние друзья были евреями. Точно так же обстояло дело и в юности. Так что, знаете ли, сама судьба велит мне сделать для евреев что-нибудь хорошее. Поэтому я и не отвергаю ваши предложения с порога. Напротив, первое принимаю полностью, а второе —с оговоркой: пусть евреи покупают пахотную землю только в коллективное пользование. Если вам хочется переселить евреев на землю целыми коммунами – правительство ничего не имеет против. Если кому-то из ваших захочется получить индивидуальный надел – об этом можно будет поговорить позднее. Время от времени я принимаю по таким вопросам одного из ваших единоверцев, банкира и барона Гинцбурга. Вот с ним мы это и обсудим.
Легкая улыбка на губах у министра внутренних дел и его рассказ о варшавском детстве напомнили Герцлю о том, что говорила про Вильну и Варшаву Корвин-Пиотровская, и о том, что его теперешний собеседник является земляком очаровательной польки. Он попытался представить себе, как Плеве мальчиком играет с еврейскими ровесниками во дворе варшавского доходного дома. Не исключено, что в жилах министра есть капелька еврейской крови. Хотя нет, это уже, пожалуй, притянуто за уши. Так или иначе, интересно представить себе жизненный путь, который должен был пройти этот человек, чтобы прослыть мучителем российских евреев и стать из-за этого мишенью для нападок в европейской прессе. Воспоминания Плеве – юдофильские и чуть ли не сентиментальные – заставили Герцля подумать и о слывущем “еврейским заступником” графе Витте. Примечательно, что оба соперника в борьбе за роль главы кабинета выставляют себя при личных встречах с ним отчаянными юдофилами и, судя по всему, сами верят тому, что говорят. Шахуют его – если вновь вспомнить о “вечнозеленой партии”. Загоняют в угол. Но он давным-давно научился разгадывать подобные ходы на политической доске и реагировать на них соответственно. Вот только ссылка Плеве на барона Гинцбурга ему не понравилась. Барон, вне всякого сомнения, достойный и глубоко уважаемый человек, но он уже стар, да и в лучшие годы особым умом не отличался. Так, по меньшей мере, полагал Герцль. Поэтому он предложил министру провести дальнейшие детализированные переговоры не с Гинцбургом, а с Кацнельсоном – человеком воистину современным, прекрасно образованным и ничуть не в меньшей мере, чем барон, порядочным.
Плеве согласился, и Герцль перевел разговор на упомянутое в его тезисах эвентуальное посредничество России в переговорах с турецким султаном. Всё зависит от того, пояснил он, насколько энергичным окажется российское вмешательство. Министерство иностранных дел, сказал он, орган того же тела, что и Министерство внутренних дел, и внутренние потребности должны в данном случае оказаться удовлетворены вовне. Но, конечно же, в первую очередь, он надеется на личное обращение царя к султану.
Плеве задумчиво посмотрел на собеседника и сказал, что от турок, с которыми никто не собирается воевать и с которых даже не спросишь как следует за застреленного в Константинополе русского консула, вполне уместно было бы потребовать компенсацию вроде той, которую имеет в виду Герцль. Он, Плеве, обратится с таким предложением к царю, более того, найдет весьма весомые аргументы, однако произойдет это, увы, не завтра и не послезавтра, поскольку перед встречей с Герцлем он побывал на прощальной аудиенции у Николая II, вознамерившегося покинуть Петербург ради летней резиденции в Царском Селе.
Осторожный намек Герцля на то, что высочайшая аудиенция лично ему была бы все же в высшей мере желательна, Плеве парировал туманно: “Поживем – увидим. После Конгресса!” Что ж, услышав это, Герцль хотя бы смог не без удовлетворения констатировать, что министр придает предстоящему Всемирному конгрессу сионистов в Базеле определенное значение. Конечно, Герцль расстроился из-за того, что в немедленной аудиенции у Николая ему, по сути дела, категорически отказано, однако оставалась надежда вновь приехать в Петербург по окончании конгресса и все же быть августейше принятым в Зимнем дворце. А в искренности слов и серьезности намерений Плеве он сейчас не сомневался.
Герцль почувствовал, что разговор близится к завершению, однако счел себя обязанным проинформировать министра о своей беседе с графом Витте. Но Плеве оказался в курсе дела.
– Господин министр финансов, – сказал он, – настроен по отношению к вашему проекту крайне скептически. Он просто не верит в возможность его осуществления.
– Граф Витте, – возразил Герцль, – черпает информацию из финансовых источников, не заслуживающих особого доверия. А мне содействие в решении подобных вопросов окажет лорд Ротшильд из Лондона.
Плеве понимающе улыбнулся:
– Не сомневаюсь, что господин министр финансов поддерживает, наряду с прочим, прекрасные деловые отношения с банкирским домом Ротшильдов в Париже.
– Но и парижские Ротшильды не воспротивятся реализации моего плана, – ответил Герцль. – Хотя бы потому, что один из них уже потратил несколько миллионов на колонизацию Палестины!
Плеве этот факт заинтересовал не слишком – он просто-напросто принял его к сведению. Возможно, потому что финансы не были его коньком. А то, что ему следовало знать, министр давным-давно знал из собственных специфических источников. В Петербурге шила в мешке не утаишь. А обсуждать графа Витте дольше, чем это было категорически необходимо, в беседе с иностранцем, хуже того – с заграничным евреем, – ему было явно неприятно.
И вновь они заговорили о сионистском движении в России и о высказанном уже Герцлем желании получить разрешение на проведение здесь конгрессов. Плеве покачал головой.
– В таком случае конгрессы пошли бы один за другим и евреи тем самым получили бы то, в чем отказано православным.
Герцль понял, что ему не стоит испытывать терпение министра, и тактично поддакнул:
– Я уже порекомендовал нашим товарищам воздержаться от проведения конгрессов в России.
Плеве поднялся с места и взял с полки уже знакомую Герцлю роскошную кожаную папку с золотым ободком. Полистал ее и уткнулся пальцем в одно из донесений:
– Вы утверждаете сейчас прямо противоположное тому, что значится в полученном мною рапорте. В октябре мне придется предложить кабинету полностью запретить сионистское движение.
Октябрь был назван не без умысла. Судя по всему, он собирался вынести то или иное окончательное решение в зависимости от того, как пройдет конгресс в Базеле.
Разговор завершился. Плеве простился с Герцлем столь же любезно, как и приветствовал его приезд. Ну а каков результат? По меньшей мере, ситуация теперь разъяснилась: или помощь – как административная, так и посредническая, включая заступничество перед султаном,– или полный запрет движения. Министр не сжег мосты ни в ту, ни в другую сторону.
Вот уж воистину хитрый лис этот Плеве – и, вдобавок, скорее всего, волк в овечьей шкуре. И в уме ему не откажешь – хотя бы в этом отношении Полина Корвин-Пиотровская не ошиблась. Однако это опасный ум, и Герцль прекрасно понимал, что неоднозначные взаимоотношения с российским министром внутренних дел следует продолжать и развивать, находясь сперва в Базеле, а потом в Вене, если он хочет добиться своей цели. Вне всякого сомнения, сначала устно, а затем и письменно, да еще с одобрения самого государя, сформулированные полупризнания Плеве (равно как и графа Витте) были многообещающим сигналом, были козырем, который сам Герцль сможет пустить в ход в Базеле, но слишком многое оставалось на уровне недосказанного и витало в воздухе, готовое в любой момент бесследно исчезнуть, если вождь сионизма не проявит достаточной дипломатичности и энергии.
Герцль вернулся в гостиницу. В вестибюле его дожидался Кацнельсон, которому не терпелось узнать, какие результаты принесла аудиенция у министра. Герцль обстоятельно отчитался перед соратником и другом. Правда, кое-что, кажущееся недостаточно ясным ему самому, он решил пока придержать при себе. При всем доверии к Кацнельсону новая порция ахов и охов была бы для Герцля сейчас просто невыносима.
На следующее утро он написал два письма. Первое было адресовано Плеве:
“Ваше сиятельство,
да будет позволено мне присовокупить несколько слов к тому, что было сказано при вчерашней встрече.
Всё зависит от эффективности посредничества во взаимоотношениях с Его Величеством турецким султаном.
Столь благоприятного стечения обстоятельств для подобного посредничества, как нынешнее, не было уже давно и не известно, когда оно возникнет в следующий раз; Правительство Оттоманской империи готово на любые уступки, помимо официальной сатисфакции, лишь бы умилостивить Россию.
Настоятельная рекомендация Его Императорского Величества турецкому султану окажется, я убежден, более чем достаточной.
Что же касается моих на этом не заканчивающихся, а наоборот, только начинающихся хлопот, то прилагаемое письмо – их первый результат и залог. Я прошу Ваше сиятельство прочесть его – и забыть, и, если понадобится, уничтожить. Я не хочу обременять Ваше сиятельство своими дальнейшими соображениями.
И на предстоящем конгрессе в Базеле я собираюсь изо всех сил и всеми средствами добиваться полного согласия на реализацию моих планов.
Я уезжаю в субботу вечером и собираюсь в воскресенье остановиться в Вильне, где мне так или иначе предстоит пересадка, и произнести речь перед тамошними евреями. Меня предостерегали, что среди них есть и настроенные ко мне враждебно, однако меня это не пугает. Напротив, наставить на истинный путь заблуждающихся (а они там имеются) —моя прямая обязанность.
Надеюсь, что это будет соответствовать требованиям момента, но в любом случае только обрадуюсь, если все пройдет без каких бы то ни было проблем. Прошу Ваше сиятельство нынче же вечером тем или иным образом откликнуться на данную инициативу и, по возможности, дать оценку моим дорожным планам”.
К этому письму на адрес министра внутренних дел Герцль приложил копию другого, отправленного в Лондон:
“Дорогой лорд Ротшильд,
в соответствии с Вашими пожеланиями, докладываю о результате моих здешних усилий.
Русское правительство весьма обнадежило меня своим отношением, и в докладе на Базельском конгрессе я оглашу сведения, важные и радостные для всего еврейства.
Для дальнейшего улучшения общей ситуации было бы, однако же, крайне желательно прекращение оголтелых нападок на Россию в еврейской и юдофильской прессе. В этом направлении любые усилия окажутся нелишними".
Плеве эти строки (в основном для его глаз и написанные) несомненно порадуют. А как к ним отнесется лорд Ротшильд в далеком Лондоне – это уж дело другое.
Последний день. Еще одно письмо. На сей раз – адресованное графу Витте. Теперь Герцль вполне официально – в статусе председателя наблюдательного совета Еврейского колониального банка – сообщает министру финансов о своей готовности принять условия, выдвинутые тем в связи с учреждением филиала банка в России. Тем самым поставлена точка и в этой истории. А все остальное покажет время.
День оказался полон дел и хлопот. Так что едва нашлось время на надлежащий манер проститься с очаровательной Корвин-Пиотровской и поблагодарить ее за неоценимые усилия. Но Герцлю предстояла еще одна встреча, которой он с самого начала придавал далеко не второстепенное значение, – встреча с действительным статским советником Николаем Генриховичем Гарт-вигом, начальником азиатского департамента Министерства иностранных дел и президентом императорского Русско-Палестинского общества.
Герцль подъехал к департаменту и попросил доложить о своем прибытии. Здесь его заставили ждать. В своем дневнике он описывает встречу с Гартвигом такими словами:
"В приемной, которая вместе с тем была и библиотекой, я изучал здешнее собрание книг, в высшей степени примечательное, мне даже трудно сравнить его с чем-нибудь... По-русски большебородый лысый господин среднего роста и тучной комплекции, одетый в светлый летний костюм, прошел через залу, держа под мышкой стопку бумаг. Испытующе посмотрел на меня, целиком захваченного книгами из его библиотеки.
Меня позвали в кабинет, и я понял, что это и есть Гартвиг.
Кратко (мне доводилось заниматься этим едва ли не в десятый раз) я изложил суть своего дела. Гартвиг дипломатично повел себя так, словно слышит все это впервые. Естественно, я сообщил ему, что Плеве пообещал мне, согласовав это обещание с императором, посредничество российского правительства в переговорах с турецким султаном.
Тут он задышал дружелюбнее... И сообщил мне, в свою очередь, что господин Жоне, русский посол в Берне, к настоящему времени уже удалившийся в мир иной, изучил, изнывая в швейцарской столице от безделья, сионистское движение и представил в министерство подробный доклад на эту тему. В Министерстве иностранных дел к нашим идеям отнеслись с симпатией, однако, поскольку высочайшей отмашки не последовало, дело просто-напросто зависло. Конечно, он, Гартвиг, наслышан о базельских конгрессах...
И ему хотелось бы получить отчет о предстоящем конгрессе, с тем чтобы положить его на стол министру. Я пообещал представить такой отчет в течение двух недель. А Гартвиг выразил готовность выяснить у русского посла в Константинополе Соловьева, что еще можно предпринять в общих интересах.
На этом мы и простились. Я попросил его с неизменной благожелательностью относиться к нашему делу, и он заверил меня, что именно так и будет”.
Разумеется, для Герцля эта беседа представляла интерес только в плане обмена информацией и никак не более того, но он был рад уже тому, что она вообще имела место. А готовность Гарт-вига связаться с русским послом в Константинополе тоже до некоторой степени обнадеживала.
Но уже через полтора часа обещания господина Гартвига потеряли какой бы то ни было практический смысл.
В гостиничном вестибюле Герцля дожидался генерал в отставке Киреев из Павловска. И прибыл он не только затем, чтобы попрощаться. После того как Герцль с Киреевым присели за столик и генерал налил из хрустального графина, поданного по его распоряжению одним из татар-официантов, неизбежной русской водки, а затем произнес здравицу в честь отъезжающего, Киреев доверительно сообщил, что в ближайшее время едва ли имеет смысл надеяться на дружественное заступничество России перед Турцией в палестинском вопросе. В ответ на убийство русского консула русский флот подойдет к турецким берегам, причем буквально к самому Константинополю. Эта акция устрашения, по словам генерала, уже началась: флот вышел в открытое море. А после того как Турция поневоле выполнит все пять пунктов предъявляемого ей сейчас ультиматума, в обозримом будущем отношения между двумя империями будут лишены малейшего оттенка дружественности.
Эта новость стала для Герцля воистину сокрушительной. Но при всей симпатии, которую он с первой встречи питал к удалившемуся на покой и, не исключено, как раз поэтому излишне словоохотливому генералу, у него остались некоторые сомнения в стопроцентной достоверности пессимистического прогноза на будущее, сделанного Киреевым. Как и в любом другом месте, расположенном неподалеку от центра власти, при царском дворе наверняка должна существовать политическая кухня, на которой в связи с любыми международными осложнениями готовят и подогревают слухи порой самого сумасбродного свойства – вроде ультиматума великой державе в связи с более чем темным убийством какого-то консула. И разве Плеве в разговоре с самим Герцлем не исключил, причем в самой категоричной форме, возможность серьезных осложнений с Турцией? Ведь и в России наверняка знают английскую пословицу о том, что мести следует дать остыть и сервировать ее к столу в холодном виде. Конечно, это всего лишь надежда, но Герцль не собирался позволить генералу в отставке лишить себя в вечер перед отъездом из столицы Российской империи последней надежды.
Но генерал Киреев оказался не единственным, кто попытался влить ложку дегтя в бочку меда, как гласит весьма уместная в данных обстоятельствах русская поговорка. В гостиницу “Европейская” прибыл взволнованный доктор Брук, витебский член сионистского исполкома, и в категорической форме отсоветовал Герцлю еще раз, уже на обратном пути, задерживаться в Вильне. Довольно велика вероятность того, что там Герцлю устроят провокацию, пояснил витебский сионист. Ведь в Вильне сосредоточено руководство Бунда – социалистической и рево-люционистской еврейской организации, и эти люди злы на Герцля из-за его встречи с Плеве, а также из-за недобрых слов, сказанных им по их адресу на петербургском званом обеде. “Куда угодно, только не в Вильну!” – отчаянно вскричал д-р Брук. Вдобавок ко всему, в российскую провинцию уже запущен слух о том, что Герцль погиб в результате якобы состоявшегося покушения на него.
Пытаясь успокоить Брука, Герцль объяснил ему, что не может выставлять себя на смех отказом от уже данного согласия на встречу с общественностью в Вильне. И, чтобы избавиться от паникера, поручил ему отправиться в Вильну первым и прозондировать тамошнюю ситуацию. Разумеется, сам Герцль всем этим кривотолкам значения не придал. Однако кое-какие из русско-еврейских газет тут же за них ухватились.
Герцль уже уехал из Петербурга, когда в “Будущности” появилось следующее сообщение:
“31 июля нами получен телеграфный запрос из Минска: “Жив ли еще д-р Герцль?” Телеграммы аналогичного содержания получены в редакциях остальных еврейских газет и журналов Петербурга и некоторых других городов. Журнал “Северо-Западный край” пишет в связи с этими совершенно безосновательными слухами:
“Воспользовавшись пребыванием д-ра Герцля в Петербурге, некий минский филистер запустил утку, согласно которой на жизнь вождя сионизма было совершено покушение. Поэтому 30 июля – именно в этот день и была запущена утка – многие пришли в волнение. Уже к одиннадцати утра о покушении говорил весь город, причем кое-кто утверждал, будто д-ра Герцля уже нет в живых. Мало того, говорили, будто в нашей редакции имеется удостоверяющая эту прискорбную весть телеграмма. Поэтому посетители, поодиночке и группами, на протяжении всего дня буквально брали редакцию приступом – и наши опровержения не могли их успокоить. К вечеру слух достиг кульминации: якобы имевшее место покушение теперь расписывали во всех подробностях. Ночью множество сионистов бродило вокруг типографии, в которой печатается наш журнал, досаждая каждому, кто покидал здание, вопросом, не слышно ли чего-нибудь новенького о Герцле? Меж тем д-р Герцль преспокойно спал у себя в гостиничном номере, даже не подозревая о том, что в Минске на его жизнь совершено покушение”.
Находящаяся в черте оседлости литовская Вильна (главный город одноименной Виленской губернии), доставшаяся России в ходе так называемого Второго раздела Польши, по праву считалась “русским Иерусалимом”. Значительную часть ее стошестидесятитысячного населения, наряду с литовцами, поляками и русскими, составляли евреи, проживавшие здесь в похожих на западно-европейские гетто кварталах с лабиринтом узеньких улочек и проулков, в которых стоял вечный запах бедности, граничащей с нищетой, и звучал идиш. Собственно говоря, именно эти кварталы и придавали всему городу неповторимый облик. Конечно, имелись здесь не только они и даже вовсе не они доминировали, однако именно из-за них всякому гостю Вильны казалось, будто прибыл он не в столицу губернии, а в уездный, глубоко провинциальный городок, в котором, в отличие от тысяч и тысяч ему подобных, даже не имеется центральной рыночной площади. Как это ни странно, именно отсутствие ярмарочной площади и запомнилось Герцлю из всего, что Полина Корвин-Пиотровская рассказывала ему о своем родном городе. И еще запомнились караимы – живущие под Вильной члены иудейской секты, отошедшие от традиционного раввинизма и вернувшиеся к букве Моисеева закона; причем караимы находились в России в несколько более привилегированном, чем все остальные евреи, положении. Подобные курьезы он запоминал, пожалуй, не столько как политик, сколько как писатель.
Вильна оказалась единственным, кроме Санкт-Петербурга, городом, который Герцль посетил в России. Здесь также ему представилась уникальная возможность вступить – пусть всего на несколько часов – в непосредственный контакт с представителями еврейской массы, и это заставило его в существенной мере переменить взгляд на подлинную жизнь российского еврейства и его положение в необъятной стране.
Виленские сионисты поначалу пытались сделать пребывание Герцля в городе как можно более незаметным и вообще скрыть факт его приезда от местных властей. Впрочем, неосуществимость этих планов стала ясна задолго до визита, так что сионистам пришлось дистанцироваться от прежней практики и сменить ее на прямо противоположную. Местные власти оказались заранее осведомлены и соответствующим образом проинструктированы из Санкт-Петербурга – тут, очевидно, расстаралось Министерство внутренних дел и, не исключено, приложил руку сам Плеве.
Тайные донесения виленской полиции о пребывании Герцля в городе стали известны общественности где-то пятнадцать лет спустя, уже по окончании Первой мировой войны и в ходе оккупации Литвы немецкими войсками, да и то —лишь по случаю. Виленский инженер Идельсон купил у городского полицейского управления часть архива с целью дальнейшей утилизации. Среди доставшихся ему бумаг оказалась пухлая папка с надписью “Дело о пребывании в Вильне 5 августа 1903 года еврейского публициста и вожака сионистов Герцля”, которую Идельсон передал городскому Еврейскому историко-этнографическому обществу. Эти донесения производят и сегодня полукомическое впечатление тем, с какой тщательностью и проработкой во всех деталях – на уровне прямо-таки Генерального штаба – готовились виленские власти к приезду Герцля и к проведению неусыпной слежки за ним.
Среди первых документов находится прошение виленских сионистов на имя шефа местной полиции: “По случаю пребывания в Вильне проездом из Санкт-Петербурга известного вене-кого публициста доктора Теодора Герцля нижайше просим ваше высокоблагородие разрешить нам дать в его честь 3 августа сего года званый обед на 80 персон в зале городского собрания”.
Прошение было отклонено, и в рапорте заместителя начальника виленской полиции можно прочесть следующее: “В связи с отказом Сегалю, Гольдбергу, Зольцу и Бен-Якобу в разрешении провести 3 августа сего года в зале городского собрания званый обед в честь д-ра Герцля и с оглядкой на возможность проявления ему знаков внимания иным образом, я распорядился отправить на вокзал к прибытию петербургского поезда пристава Первого участка Снитко и квартального надзирателя Второго участка Королева (последнего – в штатском) с целью надзора за происходящим и выявления лиц из числа местного еврейского населения, вознамерившихся вступить с проезжающим через наш город в непосредственный контакт. Пристав Снитко донес мне, что в два часа пополудни Герцль собирается посетить главную городскую синагогу, расположенную на Немецкой улице в так называемом Школьном (синагогальном) подворье, где его должны поджидать члены синагогального правления, а также представители еврейской интеллигенции. В честь Герцля должны быть* произнесены речи, ожидается также выступление синагогального хора”.
Так удалось выявить вехи пребывания Герцля в Вильне, действий тамошних сионистов и хлопот городской полиции.
Герцль прибыл в Вильну, расположенную меж холмов и лугов на слиянии двух рек, около полудня. Уже на последней перед Вильной остановке, в Вилейке, в вагон скорого поезда вошла делегация виленских сионистов, заранее выехавшая навстречу, чтобы первой приветствовать дорогого гостя. А на Виленском вокзале собрались сотни евреев, встретившие Герцля и проводившие его до извозчика восторженными выкликами и рукоплесканиями. Хотя он и не любил такого рода оваций, энтузиазм толпы, встретившей его чуть ли не как нового пророка, был ему в целом понятен. И, разумеется, он заметил пеших полицейских и конных казаков, по сути дела, оцепивших привокзальную площадь и явно дожидающихся сигнала разогнать толпу, как в этом городе неоднократно бывало еще до его приезда. Герцль прошел к дрожкам поспешно —но все же не с чрезмерной поспешностью – и несколько раз в знак приветствия приподнял цилиндр. Но вот он уже на извозчике —и едет в респектабельную гостиницу “Святой Георгий”, предоставляющую ему приют на все тринадцатичасовое пребывание в Вильне.
В отличие от петербургских впечатлений, виленские с первых же минут стали для Герцля несколько тревожными: он уловил витающее в здешнем воздухе и объявшее практически весь город волнение. Да и когда доводилось Вильне пережить нечто сходное? Из ста шестидесяти тысяч жителей города добрые сто тысяч были евреями – и сейчас чуть ли не все они высыпали на улицу – кто с неподдельной радостью, кто с любопытством. Все виленское еврейство независимо от сословных или имущественных различий! Эту поездку можно было бы назвать триумфальной, не окажись на улицах, по которым проезжал Герцль, такого количества полицейских и казаков, предпринимающих тщетные, но от того ничуть не менее оскорбительные попытки разогнать ликующую толпу. И возле гостиницы прославленного посетителя поджидало множество почитателей. Судя по всему, они не хотели расходиться и после того, как Герцль поднялся к себе в номер, но тут уж полиция взялась за них как следует и вытеснила в прилегающие переулки.
Всё это предпринимается исключительно ради его собственной безопасности, заверил Герцля вскоре явившийся с визитом начальник полиции. У него, мол, имеется высочайшее распоряжение проследить за тем, чтобы у почетного гостя города и волос с головы не упал. Именно поэтому он вынужден категорически предостеречь Герцля со спутниками против поездки в еврейскую часть города, буде они такую поездку замышляют, предостеречь в их же собственных интересах, потому что, согласно имеющейся информации, виленские представители Бунда непримиримо настроены против Герцля из-за его петербургских высказываний и, в особенности, из-за личной встречи с господином министром внутренних дел.
Присутствовавшие при этом разговоре виленские сионисты бурно запротестовали, однако начальник полиции остался непреклонен. В конце концов сошлись на том, что Герцль может встретиться с благонамеренными представителями Виленского еврейства, однако ни в коем случае не в широком кругу, и произойдет это в еврейской части города, однако проехать туда он должен кратчайшей дорогой, нигде не останавливаясь и не задерживаясь.
Герцль, уже знающий о настроении властей от выехавшей ему навстречу в Вилейку делегации виленских сионистов, ожидал чего-то в этом роде и принял поэтому пояснения шефа полиции сравнительно спокойно. Он не верил, что его Виленские критики способны решиться на какую-нибудь контрдемонстрацию. Да и слухи о возможности покушения на него, которые вовсю муссировала националистическая пресса, представлялись Герцлю нелепостью. Вернее, своего рода пропагандой, неизбежным музыкальным сопровождением его визита в Россию, сопровождением, в котором можно было различить две мелодии – неуверенность, исходящую от российских властей, и ничем не обоснованные, как ему казалось, страхи большинства еврейского населения. Может быть, в стране русских царей он и не самый желанный гость, но, разумеется, не в интересах Плеве, да и всего правительства в целом, малейшая напасть, которая могла бы приключиться с ним, пока он не покинет пределы России. Он нужен министру внутренних дел сейчас и будет нужен и впредь, чтобы хоть как-то управиться с разбушевавшимся в России еврейским вопросом. Так что же могут противопоставить этому мелкие виленские начальники: досадные препятствия, булавочные уколы, казачьи нагайки на улицах, шпиков в гостинице, да подслушиванье телефонных разговоров из его номера? Все это, но никак не более.
Тринадцать часов между двумя поездами, то есть практически целый день, на второй по значению после Одессы еврейский город России. И то, чего не смогли ему предоставить в Санкт-Петербурге с разрозненными еврейскими кружками, он получит здесь – вопреки мелкотравчатым ограничениям властей предержащих, – он встретится с подлинным российским еврейством, уже первая встреча с которым на вокзале, сопровождаемая овациями, чуть ли не заставила его разрыдаться в голос. С подлинным российским еврейством, вытесненным сейчас с площади у входа в гостиницу и оставившим на поле боя бесчисленные шапки, сумки и зонтики.
Тихо, удручающе тихо, стало под окнами гостиничного ресторана, в котором Герцль с Кацнельсоном и несколькими Виленскими сионистами сидел за столиком, расспрашивая хозяев о том, что за встречи предстоят ему в ближайшие часы. Лишь время от времени доносился из-за окон стук копыт конного полицейского патруля, а в остальном царила тишина – разумеется, обманчивая и именно так воспринимаемая каждым из сидящих за ресторанным столиком. Герцль хотел было развеять гнетущую атмосферу еврейским анекдотом: “Приходит ночью в деревню чужак, а здешний раввин велел одному еврею нести всенощную стражу, чтобы не прозевать прихода мессии. И вот чужак спрашивает несчастного еврея, трясущегося от холода на дорожной обочине, о том, что он тут делает. “Меня назначили дожидаться тут мессию!” – с гордостью отвечает тот. “Ну, на такой должности много не заработаешь”, – подначивает его чужак. “Ничего, зато она пожизненная”, – пожав плечами, отвечает еврей”. Кое-кто рассмеялся, а один из виленских сионистов заметил: “В дураках порой оказывается не тот, кто сидит на обочине”.







