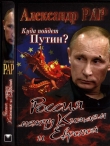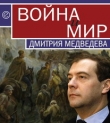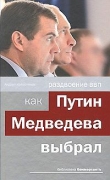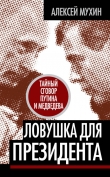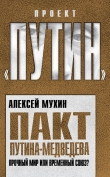Текст книги "Газета Завтра 890 (49 2010)"
Автор книги: Газета Завтра Газета
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц)
Шамиль Султанов ВОЙНА ПРОТИВ ЕВРАЗИИ
За несколько месяцев до лиссабонского саммита НАТО на Западе вдруг неожиданно началась активная информационная кампания. Основной её смысл был в следующем. Предстоящая встреча в верхах Североатлантического альянса станет исторической, поскольку на ней будет принята новая стратегическая концепция. Накануне открытия лиссабонского саммита генсек Альянса назвал его одной из самых важных встреч за более чем 60-летнюю историю блока. Б.Обама отметил, что встреча в Лиссабоне «воскресит НАТО для XXI века».
Парадокс в том, что в предшествующие месяцы в элитарных СМИ США и Европы появилось немало серьезных материалов, где с нескрываемым скепсисом говорилось о незавидном состоянии НАТО: «альянс не имеет будущего», «НАТО не нашло себе места в изменяющемся мире», «Североатлантический союз стал анахронизмом» и т.д. Что же произошло?
«НУЖЕН ЗРИМЫЙ ВРАГ!»
Правящий класс США в нынешних кризисных условиях не может позволить себе раскола наподобие того, что произошёл в 2000 году. А то, что такой сценарий вполне возможен, продемонстрировали ход и итоги промежуточных ноябрьских выборов. Чтобы не допустить нового раскола, необходима такая долгосрочная стратегия, которая бы консолидировала политическую элиту США вокруг «образа врага». При всех различиях между демократами и республиканцами, политический класс США пришёл к середине 2010 года к окончательному выводу, что таким безусловным экономическим, политическим и военным врагом на среднесрочную перспективу является Китай, а в долгосрочной – объединенная Евразия.
Лейтмотив «Китай – наш стратегический враг» к осени 2010 года в основном объединил элиты США и ЕС. И именно это дало возможность выработать видение новой роли НАТО как основной инфраструктуры для такой консолидации. Без такого образа общего врага Североатлантический альянс после развала Советского Союза, оказался в серьезном кризисе. Достаточно сказать, что из нынешних его 28 членов только пять стран вносят платежи в оборонный бюджет альянса в соответствии с установленными нормами.
Западу нужен Китай в качестве глобального врага не потому, что КНР сегодня представляет реальную военную или экономическую угрозу. Консолидированный военный и экономический потенциал США и Европы значительно выше китайских возможностей. В глобальном плане КНР уязвима в гораздо большей степени, чем его западные противники. И еще не известно, что будет с китайской экономикой через несколько лет. Но Китай как символ тотального врага нужен Западу, прежде всего, для консолидации в условиях нынешнего не преодоленного кризиса и переструктуризации в своих интересах глобального экономического механизма. Собственно, именно мобилизация против общего врага позволила западным элитам преодолеть кризисы в 30-х и 50-х годах ХХ века. Поскольку в качестве такого глобального врага определили Китай, понятно, почему те же Обама и Меркель с легкостью согласились в Лиссабоне с требованием Турции не упоминать Иран в качестве потенциальной угрозы для Европы.
Как известно, политика, это, прежде всего, способность консолидировать все возможные ресурсы для оказания максимального давления на основного противника, вплоть до открытой войны. Основным таким ресурсом в современной внешней политике является коалиционный потенциал. Поэтому т.н. новая стратегия НАТО должна на самом деле послужить рамками для формирования глобальной антикитайской коалиции, а еще точнее, объединения против Евразии. Соответствующая иерархия такой коалиции в Лиссабоне уже определилась. На вершине – Соединенные Штаты, и Европа с этим уже безоговорочно согласилась. Это означает, что в новых условиях НАТО становится компонентом глобальной военной инфраструктуры Соединенных Штатов. Второй уровень – англосаксонские союзники США: Великобритания, Канада. На третьем уровне – ключевые европейские страны: ФРГ, Франция, Италия. На четвертом уровне – все остальные натовские страны. Вот такая атлантическая демократия!
Военно-политическая иерархия НАТО в контексте новой стратегии Альянса должна стать стержнем формирующейся широкомасштабной антикитайской коалиции. И здесь наиболее существенное – формирование системы «стратегического партнерства» Альянса со странами, которые необходимы для «политики глобального окружения» Китая. Поэтому в Лиссабоне такое стратегическое партнерство предложили не только России, но и Новой Зеландии, Малайзии, Австралии, Японии. Другими вовлекаемыми в антикитайский контур странами наверняка окажутся Индия, Вьетнам, Южная Корея.
В официальных документах и в выступлениях на саммите ни одного слова не было сказано о Китае!
Накануне лиссабонского саммита Б.Обама совершил трехдневный визит в Индию, важнейшую страну для реализации политики «окружения Китая», где заявил, что «налаживание „стратегических партнерских отношений“ с Дели является „краеугольным камнем“ азиатской политики Вашингтона». Кстати, оборонный бюджет Индии растет в последние годы рекордными темпами. Примечательно также, что вопреки негласной традиции, после индийского визита Б.Обама не посетил Пакистан.
Нельзя обманываться – в рамках новой стратегии США и НАТО фактически начали подготовку к глобальной войне. Это не значит, что такая война обязательно будет. Но угроза силовой конфронтации всё чаще будет использоваться в политических целях. И уже используется.
Например, совсем недавно, в октябре нынешнего года, министр обороны США Роберт Гейтс открыто вмешался в давний территориальный спор между Японией и Китаем, в течение многих лет оспаривающих суверенитет над островами Сенкаку (Дяоюйдао), расположенными к северу от Тайваня. Р.Гейтс заявил, что США готовы защищать интересы Японии в соответствии с двусторонним договором о военной помощи. В ноябре во время встречи в Токио премьер Японии Наото Кан поблагодарил Обаму за поддержку, заявив, что «присутствие вооруженных сил США в регионе становится всё более важным».
В Лиссабоне был дан старт к реальной подготовке к тотальной военной конфронтации, со всеми вытекающими отсюда политическими, экономическими, идеологическими последствиями. В военном аспекте ключевым моментом является форсированное развертывание к 2020 году системы глобальной американской ПРО, в рамках которой только Вашингтон будет принимать окончательное решение. И все дипломатические разговоры о «европейской ПРО», «натовской ПРО» – это, по сути, только «операции прикрытия». Формально на саммите договорились о создании т.н. европейской ПРО. На её развитие будет выделено 200 млн. евро за 10 лет. Сумма эта совершенно ничтожна для реального проекта, что подтверждает его полную фиктивность с военной точки зрения.
Удивленный Дм.Медведев заявил, что в самом НАТО еще не вполне понимают, как эта европейская ПРО будет выглядеть. И понятно, почему в Лиссабоне фактически сразу отвергли российское предложение (тоже, конечно, пропагандистское) об интеграции американской и российской ПРО. Во-первых, это совсем не реально с военной точки зрения. Во-вторых, Вашингтону это абсолютно не нужно.
«ЗАЧЕМ ОНИ ОБХАЖИВАЮТ МОСКВУ?»
Единственная страна – не член НАТО, о которой в принятой стратегической концепции говорится много и неоднократно, – Россия.
Во-первых, потому, что для успешного формирования глобальной антикитайской коалиции нельзя допустить развития китайско-российского стратегического сотрудничества. Поэтому в начинающейся решающей битве за изменение мирового баланса сил значение России как ключевого компонента Евразии существенно повышается во внешней политике и Китая, и Запада.
Во-вторых, в российском истеблишменте прозападное лобби существенно сильнее прокитайского. А это означает, что у НАТО есть потенциально мощный союзник внутри России.
В-третьих, в новой стратегической доктрине НАТО говорится, что «Россия не представляет угрозы» для Запада, но не потому, что западные элиты вдруг полюбили и стали доверять Москве. Слабеющая в военном и социально-экономическом плане Россия сама по себе действительно перестает быть стратегической угрозой для Запада в долгосрочной перспективе.
В-четвертых, и Путин, и Медведев прямо и косвенно заявляли, что в качестве основного партнера в деле модернизации России они рассматривают Европу. А это важный козырь уже для Берлина и Парижа в их непростых взаимоотношениях с Вашингтоном. Но проблема в том, что Запад менее всего намерен доверять путинской России. И за потенциальное участие в модернизации российской экономики та же Европа требует конкретных уступок от Москвы в сфере безопасности. Верховный представитель ЕС по общей внешней политике и политике безопасности Хавьер Солана прямо заявил в этой связи: «ЕС и Россия уже подписали договор о „партнерстве во имя модернизации“…Если ЕС и Россия намерены всерьез сотрудничать по экономическим вопросам, им необходимо начать с сотрудничества по вопросам безопасности». То есть хотите модернизации, сначала интегрируйтесь в глобальную военно-политическую систему НАТО. «Утром – деньги, вечером – стулья».
И, наконец, в-пятых, в Вашингтоне считают, что по мере развития российского системного кризиса Москва будет более податливой перед западным давлением.
По сути ноябрьский саммит НАТО в Лиссабоне действительно стал историческим: Запад определился со своей стратегией на ближайшее десятилетие. И это проявилось даже не столько в формальной «перезагрузке» отношений между НАТО и Россией, сколько в кардинальном изменении отношения к Афганистану, который находится в самом сердце Евразии.
Еще полгода назад Б.Обама обещал, что выполнит свои предвыборные обещания и выведет американские войска из Афганистана к лету 2011 года.
В течение двух последних лет многие европейские лидеры стали заявлять, что надо быстрее заканчивать афганскую авантюру.
Американские и европейские генералы стали говорить о том, что силовая победа в Афганистане невозможна и надо договариваться с «умеренными талибами».
И вдруг в течение буквально нескольких месяцев отношение к афганской проблеме кардинально меняется. Фактически в Лиссабоне принимается решение остаться в Афганистане не только до 2014 года, но и на неопределенное время, «вплоть до десятилетий» в дальнейшем. Неожиданно зазвучали голоса, что «военная победа НАТО» в этой стране, оказывается, возможна. Американцы начали в октябре срочные поставки своему афганскому контингенту новых видов вооружений, включая тяжелые танки «Абрамс». Резко активизировались попытки «постепенного вовлечения» России в афганский конфликт. Были проведены несколько совместных боевых операций российских и натовских подразделений на афганской территории. Прижимистые американцы согласились даже сами оплатить поставки российских военных вертолетов нынешнему кабульскому режиму. В Лиссабоне Москва дала принципиальное согласие на транспортировку военных грузов из Афганистана по российской территории.
Но если рассматривать эти и многие другие события в контексте принятой новой антикитайской, антиевразийской стратегии НАТО, то многое становится ясно.
Возможный уход НАТО из Афганистана в 2011 году на самом деле превратился бы в политическое бегство из всего региона, стал бы детонатором существенных изменений не только на Ближнем и Среднем Востоке, но и во всем глобальном балансе сил. По сути это означало бы геополитическую катастрофу для США и НАТО, последствия которой оказались бы гораздо более драматичными, чем поражение во Вьетнаме в 70-е годы прошлого столетия.
Во-первых, уход из Афганистана означал бы потерю Западом важного форпоста для геополитического и геоэкономического внедрения в бывшую советскую Среднюю Азию. А этот регион рассматривается американскими стратегами как чрезвычайно важный в ресурсном отношении на ближайшие десять-пятнадцать лет. Поэтому сохранение долгосрочного контроля над Афганистаном означает по сути активизацию политики эшелонированного проникновения Запада в Среднюю Азию.
Во-вторых, в случае ухода НАТО из Афганистана объективно укрепились бы внешнеполитические позиции Ирана. А поскольку между Тегераном и Пекином сложились за последние годы особые отношения, то, следовательно, автоматически усилилась бы роль Китая в центре Евразии. Для Вашингтона это совершенно неприемлемо.
В-третьих, возвращение к власти в Афганистане талибов, за которыми стоит пакистанская разведка, привело бы к укреплению региональной роли Исламабада. А так как Вашингтон однозначно сделал сейчас ставку на Индию как потенциального союзника в реализации своей глобальной антикитайской стратегии, то возвращение талибов в Кабул означало бы и укрепление пакистано-китайского альянса.
В-четвертых, после смены режима Карзая нынешний потенциальный альянс Иран—Китай—Пакистан именно в рамках афганской проблемы мог бы превратиться в важнейший геополитический фактор во всей Евразии.
В-пятых, бегство американцев из Афганистана неминуемо привело бы к усилению региональной роли ШОС, куда Пакистан и Иран входят в качестве наблюдателей. А это приведёт к усилению внешнеполитической координации между Москвой и Пекином в отношении проблем Центральной Азии, и прежде всего, кардинального сокращения наркотрафика из Афганистана – одной из важнейших стратегических угроз для России. Между прочим, только талибы в свое время смогли резко сократить наркопроизводство и серьезно прижать афганских наркобаронов.
Следовательно, именно в контексте и вокруг Афганистана могло начаться формирование качественно нового российско-китайско-исламского альянса, то есть реальная консолидация Евразии.
Чтобы не допустить всего этого, НАТО, а точнее США, кардинально изменили свою стратегию и приняли решение закрепиться на афганском форпосте.
«СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ДИЛЕММА ДЛЯ ТАНДЕМА»
Сегодня Кремль оказался в максимально выгодной позиции: Россия нужна и Западу, и Китаю. Москве это сулит в краткосрочной перспективе и политические, и экономические дивиденды. Поэтому она, наверняка, будет пытаться лавировать между НАТО и Китаем, особенно в ближайшие полтора года, поскольку главная политическая задача нынешнего режима заключается в обеспечении плавного, без потрясений, возвращения власти Путину.
Буквально сразу после завершения лиссабонского саммита с двухдневным визитом в Москву приехал премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао. Он встретился и с Путиным, и Медведевым. На открытии экономического российско-китайского форума Вэнь Цзябао начал свое выступление примечательными словами: «Китай и Россия – надежные стратегические партнеры, две великие державы, которые могут влиять на судьбы мира». И это была не случайная оговорка. Во время визита в Китай председателя Совета Федерации С. Миронова, Председатель КНР Ху Цзиньтао публично передал ему пожелание Китая о совместном построении с Россией справедливого и рационального мирового порядка.
На встрече с Медведевым премьер КНР сообщил, что Пекин готов поддерживать российскую модернизацию и вложить в проект «Сколково» более 1 миллиарда долларов. Президент РФ в свою очередь заявил, что «Россия заинтересована в радикальном росте инвестиций из Китая и будет приветствовать участие китайских компаний в приватизации». Двусторонняя торговля развивается быстрыми темпами и в 2010 году превысит отметку в 56 млрд. долл. Причем и Москва, и Пекин заинтересованы в более быстром переходе во взаимной торговле на юани и рубли.
С другой стороны, особого доверия к Западу в Кремле нет и быть не может, учитывая, что для верхушки американской элиты в личностном плане именно Путин остается наиболее принципиальным противником (не случайно российский премьер уже давно не посещал США). А учитывая, что большинство силовиков из окружения Путина исходят из того, что в 2012 году Белый дом займет жесткий, антироссийски настроенный представитель Республиканской партии, Кремль будет вынужден готовиться к новой конфронтации с Западом в среднесрочной перспективе.
И здесь главная проблема для Москвы: как реагировать на форсированное строительство глобальной американской системы ПРО, которая после завершения в 2020 году создаст принципиально новую военно-стратегическую ситуацию.
Вот каким образом Д. Медведев сформулировал нынешние акценты российского руководства по данной проблеме в своем ежегодном Послании: "Если в течение 10 лет России и НАТО не удастся договориться по системе противоракетной обороны (ПРО), мир ждет новый виток гонки вооружений.
…Или мы достигнем согласия по противоракетной обороне и создадим полноценный механизм сотрудничества, или же, если нам не удастся выйти на конструктивные договоренности, начнется новый виток гонки вооружений, и нам придется принимать решения о размещении новых ударных средств".
На саммите Россия-НАТО в Лиссабоне Д.Медведев выступил с предложением к Североатлантическому альянсу создать так называемую «секторальную» систему ПРО в Европе. По его словам, речь идет о делении ответственности за противоракетную безопасность в Европе, и в таком виде Россия «сможет участвовать во всей этой затее». Последняя семантическая оговорка ясно говорит о безусловном скепсисе, который испытывают в Москве по поводу попыток втянуть Россию в глобальную американскую систему ПРО.
В предстоящие годы на перевооружение российской армии будет потрачено более 19 триллионов рублей. Понятно, что большая часть этой суммы пойдет на модернизацию и наращивание ядерных стратегических сил.
Что касается Афганистана, то у Москвы по-прежнему четкой стратегии здесь нет. Во-первых, афганский синдром до сих пор жив в российской политической и, особенно, военной элите. Поэтому Кремль просто исходит из того, что чем дольше Запад останется в Афганистане, тем лучше. Во-вторых, сильных профессионалов по Центральной Азии в российских эшелонах власти не так много, а многие из тех, которые есть, придерживаются исламофобских настроений. В-третьих, в бывшую Среднюю Азию, которую Кремль рассматривает как свою сферу влияния, усиливается проникновение и Запада, и Китая, а адекватную контригру Москва выстроить не может.
Автор – президент Центра стратегических исследований «Россия—Исламский мир»
Раджаб Сафаров ШОС БЕЗ ИРАНА
Почему Китай и Россия не хотят видеть Иран в ШОС? Ядерное досье? Нет, просто не хотят брать на себя обязательства в отношении Ирана на случай нападения Соединенных Штатов и Израиля. Да и вообще, перед Вашингтоном в любом случае будет как-то неловко.
Ирану, похоже, членом ШОС уже не стать. Но для Ирана это, возможно, и к лучшему. На состоявшемся в конце ноября заседании Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества Иран вновь не смог вступить в это региональное центрально-азиатское объединение. На этот раз ему было отказано под тем предлогом, что членом ШОС не может стать государство, находящееся под санкциями ООН. Интересно, что это необычное и странное условие членства появилось всего два года назад на саммите в Ташкенте с подачи России и Китая – специально для того, чтобы не допустить вступления Ирана в это объединение. Известно также, что в Астане близкий союзник Ирана Таджикистан пытался настоять, чтобы пункт о санкциях был изъят из итогового варианта положения о членстве в ШОС, однако ему не удалось этого добиться.
Таким образом, Иран, крупнейшая страна региона, в результате этой запретительной отговорки, которую Москва и Пекин продвинули, чтобы угодить Евросоюзу и США, не сможет практически никогда стать членом ШОС. Причем Иран нужен Шанхайской организации даже в большей степени, так как эта страна находится на важном перекрестке торговых путей Центральной Азии, обладает огромными запасами полезных ископаемых и финансовыми ресурсами, которых нет у многих членов шанхайской «шестерки», а также развитой и быстрорастущей экономикой. В результате значительно больше шансов на членство в ШОС появляется у Пакистана, разрываемого межплеменными и межконфессиональными конфликтами, на чью территорию вот-вот перекинется из Афганистана агрессия НАТО.
Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана, и является крупнейшим региональным объединением в мире наряду с АТЭС, ЕС и НАФТА. Население ШОС составляет почти 1,5 миллиарда человек – это четверть всего населения земного шара, а территория – 30 млн км2, то есть 60% площади Евразии. Четыре азиатских государства – Иран, Пакистан, Индия и Монголия – имеют в ШОС статус наблюдателей, а Белоруссия и Шри-Ланка с конца апреля этого года стали «партнерами по диалогу», хотя мало кто из аналитиков всерьез понимает, что значит этот статус в ШОС. Страны Шанхайской организации сотрудничества производят 15% мирового ВВП. По официальным данным, за январь-август 2010 года товарооборот между государствами-членами ШОС вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 40%. Иран пытался вступить в ШОС практически с самого начала ее существования, считая это экономически и политически выгодным для себя. По мнению Тегерана, полноценное участие в ШОС позволило бы ему получить рынок сбыта для своей нефти и природного газа, легковых автомобилей, а также сельхозпродукции. Причем в середине «нулевых» годов руководители главных стран ШОС – России и Китая – активно поощряли это желание Ирана, заявляя о заинтересованности Шанхайской организации иметь в своем составе все крупные государства Центральной Азии. В 2008 году в Ташкенте президент России Дмитрий Медведев заявлял, что расширение состава организации за счет крупных держав «отвечало бы интересам ШОС и укрепило бы ее авторитет». Причем считалось, что наибольшие шансы на вступление из стран-членов имели Пакистан и Иран.
Однако по мере продвижения к возможному расширению ШОС все более усиливались скрытая геополитическая конфронтация и углубление противоречий между интересами ШОС и НАТО, ШОС и США. И в этом геополитическом раскладе возможное включение в организацию Ирана вызывало в Вашингтоне чрезвычайно резкую эмоциональную реакцию в отношении шанхайской «шестерки», хотя и без практического ее воплощения. Поэтому по мере нарастания давления на Иран со стороны США и одновременно все более заметного дрейфа российского руководства в сторону Запада и НАТО, заявления кремлевских лидеров о возможности вступления Ирана в ШОС стали все более расплывчатыми и все менее понятными. А после того, как летом 2010 года президент России Дмитрий Медведев заявил об отказе поставлять Тегерану зенитно-ракетные комплексы С-300, стало ясно, что членство в ШОС Ирану вообще «не светит», несмотря на его экономическую мощь и удачное географическое положение. То есть Москва сделала свой выбор, согласившись стать помощницей Соединенных Штатов в их борьбе с единственной страной Средней Азии, не подчиняющейся диктату Вашингтона, проводящей независимую внешнюю и внутреннюю политику и не позволяющую американским компаниям грабить ее природные ресурсы.
На последний саммит ШОС президент Ирана Махмуд Ахмадинежад даже не был приглашен из опасений, что его обвинения в адрес агрессивной политики США могут придать саммиту антиамериканский оттенок. Перед встречей в Ташкенте в 2008 году Тегеран специально разослал всем государствам Шанхайской «шестерки» ноты о желании президента участвовать в работе этого саммита. В Ташкенте Ахмадинежаду хотелось получить поддержку соседей перед опасностью всё более серьезных санкций, а заодно еще раз заявить о желании Ирана войти в ШОС. Однако в результате консультаций между ключевыми игроками шанхайской «шестерки» и председательствующим тогда в ОБСЕ Казахстаном Ахмадинежад получил вежливый отказ, так что на саммите от этой страны присутствовал глава МИДа Манучехр Моттаки.
На последней встрече глав правительств в Душанбе присутствовал 1-й вице-президент Ирана Мохаммад Реза Рахими, который еще раз высказал желание своей страны стать членом ШОС. Более того, комментируя намеченные на ближайшие годы планы этой организации развивать экономические связи и транспортную инфраструктуру региона, Рахими заявил, что без участия его страны реализация большинства совместных проектов ШОС, в частности, в вопросах транзита грузов, будет нереальна. «Поэтому на следующем саммите в Москве мы намерены поставить вопрос о принятии Ирана в члены ШОС. Если нам будет отказано в этом вопросе, то мы сделаем соответствующие выводы», – заявил Рахими.
В последнее время Шанхайская организация стала все более заметно утрачивать свою ведущую роль и притягательность в глазах многих азиатских государств. Несмотря на высокий торговый и транспортный потенциал, из-за нерешительности России и особой позиции Китая этот потенциал на протяжении почти десяти лет остается практически неиспользованным. Непростые отношения и внутренние противоречия между странами-членами ШОС не позволяют им не только выработать новые способы сотрудничества, но и воплощать в жизнь даже те решения, которые были приняты ранее. Так что в этом смысле, оставаясь вне рамок ШОС, Иран ничего не проиграл, а может быть, даже и выиграл, поскольку имеет возможность торговать и развивать двусторонние экономические связи со всеми странами региона, не задумываясь о том, являются ли они членами ШОС или нет.
Да и все государства-члены шанхайской «шестерки» нередко забывают о возможностях многостороннего сотрудничества в рамках своего объединения и развивают в основном двусторонние отношения. Китай сотрудничает по отдельности с Таджикистаном и Киргизией, а Казахстан с Таджикистаном. Однако Китай также активно развивает торговлю и с Ираном. Не обращая внимания на санкции ООН, Китай использует отсутствие конкуренции на иранском рынке, который из-за санкций покинули многие европейские и азиатские страны.
Да и сами страны-члены ШОС в последние годы накопили друг к другу множество взаимных претензий – территориальных, ресурсных и торговых. Например, Таджикистан и Узбекистан не только никак между собой не сотрудничают, но наоборот, стремятся подорвать взаимные усилия в развитии своих экономик. В последние месяцы отношения Душанбе и Ташкента вообще скатились до уровня чуть ли не «холодной войны», чему никак не мешает их членство в ШОС . Узбекистан почти что автоматически выступает против всех водно-энергетических проектов Таджикистана и строительства крупных ГЭС в этой стране, а заодно в Киргизии. Особенно активно противятся узбекские руководители завершению строительства Рогунской ГЭС на реке Вахш в Таджикистане, поскольку считают, что ее пуск вызовет нехватку воды и серьезные экологические и экономические проблемы в низовьях этой реки – в Узбекистане, Казахстане и Туркменистане. В то же время для Душанбе запуск энергоблоков Рогунской ГЭС, которую начали строить еще в 70-е годы, позволит не только решить проблемы энергоснабжения республики, но и начать активную продажу энергии в Афганистан, Пакистан, Индию и Китай.
По разным сведениям, вопрос Рогунской ГЭС обсуждался и на последней встрече глав правительств ШОС в Душанбе, но так и не был решен. В конце прошлого года Узбекистан в знак протеста против планов Таджикистана достроить ГЭС на реке Вахш вообще покинул объединенную энергосистему Центральной Азии. В результате прошлой осенью и зимой Таджикистан испытывал жестокий дефицит энергии и был вынужден импортировать ее у соседей, поскольку из-за позиции Узбекистана транзит энергии в Таджикистан из Туркмении стал невозможным.
В последнее время на первые позиции в ШОС начинает все активнее выдвигаться, вытесняя Россию, Китай. Он быстро набирает экономический вес и выходит на второе место среди мировых экономик, заменив Японию. Недавно Пекин выделил для фонда экономических проектов ШОС 10 млрд. долларов, чего не может позволить себе никакая другая страна региона, включая Россию. Пекин также предложил Киргизии 3 млрд. долларов за то, чтобы она закрыла находящуюся в стране американскую военную базу, которая называется Центром транзитных перевозок и обслуживает натовскую группировку войск в Афганистане. Кроме этого, Китай активно сотрудничает с каждой страной шанхайской «шестерки» в отдельности, а также развивает военно-техническое сотрудничество с Ираном.
Да и вообще следует признать, что само понятие ШОС становится все более аморфным. Государства-члены не отличаются особой внутриорганизационной дисциплиной. Так что членство в этой организации не мешает им торговать с кем угодно, в том числе и с Ираном. Например, Таджикистан, находящийся в жестком противостоянии с Узбекистаном, активно строит вместе с Ираном вторую очередь Сангтудинской ГЭС и готов привлечь иранцев к участию в проектах возведения Шуробской и Даштиджумской ГЭС. Таджикистан также вовлекает Иран в создание единой электроэнергетической системы с участием Пакистана. Иранские компании в Таджикистане строят железнодорожные и автомобильные дороги, участвуют в создании свободных экономических зон, инвестиционных и бизнеспроектах. Иранские бизнесмены объявили о готовности проинвестировать встроительство завода в Таджикистане по производству цемента предприятия по добыче и обработке драгоценных и полудрагоценных камней.
Причем отчетливое сближение Таджикистана и Ирана идет на фоне все более заметного охлаждения отношений Душанбе с Москвой, несмотря на то, что между странами имеются тысячи нитей глубокой взаимосвязи политического и торгово-экономического характера. Только одни денежные переводы из России достигают по объему треть валового внутреннего продукта Таджикистана. И дело тут не только в культурной, языковой, религиозной и исторической близости таджиков и персов, но и в том, что российские лидеры своей прозападной политикой отталкивают от себя государства Центральной Азии.
Так что сегодня становится ясно, что Иран, оставаясь вне рамок Шанхайской организации сотрудничества, имеет значительно большую свободу действий. По крайней мере, экономически он волен выбирать себе партнеров из значительно большего числа возможных кандидатов и на условиях, которые устраивают только его. А, имея в числе партнеров Китай, одного из экономических гигантов XXI века, он оказывается даже в более выигрышной позиции, чем если бы развивал сотрудничество с Россией. Хотя бы потому, что китайские лидеры не подвержены влиянию США и НАТО.