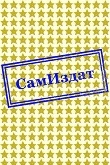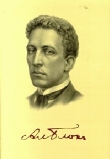Текст книги "Газета День Литературы # 110 (2005 10)"
Автор книги: Газета День Литературы
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 9 страниц)
Александр Тутов УЧУ ЛЕТАТЬ
Я знал, что она меня не видит. Да и кому нужно забираться в подобную глухомань? Кроме, конечно, меня. Но она-то этого не знала.
Забавно было смотреть, как она, подпрыгнув, пытается зависнуть в воздухе. Получалось, но ненадолго, не больше, чем на пять секунд. Но и это кое-что. Иногда она пыталась сделать несколько шагов, но получалось не более трех, да и то на высоте сантиметров максимум десять-пятнадцать. Но она старалась. Я представляю, что испытала она, впервые заметив, что на какие-то секунды может преодолеть земное притяжение. И как не верила сама себе. Сам когда-то через такое прошел. Жаль, что от большинства людей приходится это скрывать. Не поймут, а то и не простят – того, что ты можешь, а они нет. Если бы таких, как я, было большинство! Я верил, что не один такой. Искал, но мне не везло. И я затосковал. Летать одному интересно лишь первое время. Жаль, рано погиб мой учитель!
И уже почти перестав надеяться, вдруг увидел ее. Легкая, стремительная, она садилась в «пригородку». И я, поддавшись интуиции, последовал за ней. Сердце стучало: «Она! Она! Она!»
Сердце не ошиблось. Теперь я боялся выйти – нельзя испугать человека: испуганный никогда не сможет летать. Так говорил мне учитель, когда я был еще совсем маленьким.
Собравшись, я приподнялся над землей примерно на метр и пошел по направлению к ней. Девушка, увидев меня, вздрогнула, побледнела. Но я уже подошел к ней, улыбнулся и произнес:
– Учу летать!
И протянул руку. Она какое-то время недоверчиво смотрела на меня, потом улыбнулась в ответ. Ее ладонь доверчиво легла на мою.
Александр Яковлев РАССКАЗЫ
ЧЕРЕПОВЕЦ Мне было девятнадцать лет. Мне было девятнадцать! Тот, кто жил по-настоящему, знает, что это такое. Мне так все было любопытно. Странно, удивительно и интересно. И все происходящее воспринималось, как приглашение к открытию тайны.
Поезд привез меня в Череповец. Он мог привезти меня еще куда-нибудь. Ну, куда хотите... Но он почему-то привез меня в Череповец. Это там, где Вологда-гда.
Я первый раз была в Череповце. Мне ужасно нравилось слово «была». Оно придавало моей жизни весомость прошлого.
Ах, какой день был в Череповце. Такого в Москве не дождешься. Очень жаль, что в Москве такого не дождешься. Правда, жаль. Такого снега и такого солнца нет.
Снег, замешанный на солнце, покрывал Череповец пышным безе с хрустящей корочкой, над которой искусно размещались шоколадно-добротные древние дома и хрупкие бисквитные храмы...
– Девушка, можно вас спросить?
Я обернулась. Зная, что увижу в глазах незнакомца. Увижу разочарование. Увы, с недавних пор мне стало ясно, что красотой мне пока не блистать. Ах, не блистать...
Но и этот солдатик, лопоухий, стриженый, был такой простой-простой и незаметный, словно занесенный куст при дороге. Занесенный, но не засыпанный, не спрятанный в сугробе.
И никакого разочарования в его глазах я не увидела. Наоборот, облегчение. Оттого, что я пока не красавица. А такая же – простая и незаметная. И мы оба знали, как пользоваться в жизни этой незаметностью, пусть у нас были и другие тайны. Но эта тайна нас объединяла.
– Как тебя зовут-то? – спросил он так, словно мы давным-давно познакомились, но долго не виделись, и он успел позабыть мое имя.
– Света, – сказала я. – А тебя – Петя?
– Нет, это папаню так звали. А меня...
– А я тебя буду звать Петрович, – почему-то поспешила перебить его я, хватаясь за мою почти угадку, как за счастливую находку, как за серебряный полтинник, вмороженный в лед под ногами.
– Тут, понимаешь, Светк, дело такое. Маманя ко мне приехала, – деловито пояснил Петрович. И был он весь основательный и рассудительный, как председатель крепкого колхоза. – И уж больно ей охота увидеть, что девчонка у меня знакомая есть. Городская, – почему-то вполголоса добавил он, оглянулся и покраснел. Всем лицом, ушами и шеей.
И я, конечно, же поняла, что никакой знакомой девчонки у него нет. Городской. И я тоже покраснела. И он тоже понял, что у меня нет знакомого парня.
– Пошли, – выпалила я и очень решительно взяла его под руку, ощущая всю негнущуюся колючую грубость его шинели.
– Да никуда идти и не надо, – сказал он. – Вот она, моя маманя.
Я обернулась испуганно. Метрах в пяти от нас, на заснеженной скамеечке сидела старушка. Вернее, она сидела на спинке скамеечки, примостившись, как птичка, так много снегу было в этом Череповце. И из этого снега глядели на меня, на нас блекло-голубые глаза, глядели с любовью, заволакиваясь слезами нежности, отчего весь мир терял резкость очертаний, погружаясь в ласку и милосердие.
Но вот старушка сморгнула, меняя декорации. И на меня строго и оценивающе посмотрела Мать. Она смотрела на меня как на Невесту, и я ощущала стыдливость (потупленный взор) и слышала легкий шелест фаты на плечах и колокольный звон и скрипуче-протяженое из полумрака, озаренного густым желтым свечным огнем: «Господи, помилуй мя!» Особенно трогало меня это «мя». Я чуть не расплакалась...
Но следующий взор ее уколол меня и испугал. На меня смотрела Женщина. Смотрела с ревностью... Я застыла, как при встрече с большой незнакомой собакой. Меня обнюхивали. Я затаила дыхание. Хоть бы кто-нибудь пришел на помощь, хоть бы кто-нибудь...
Петрович кашлянул. Сухо и слабо разнесся звук этот над хрустким снегом в далеком Череповце, отзываясь эхом в той деревне, где ждали старушку соседки («И так я вам скажу, деушки, совсем мой-то мужчина стал, да видный! От девок отбою нет!» – «Ох, испортят его городские-то шалавы!»). И за что они меня так невзлюбили?
– Ну, мамань, пойдем мы, – затоптался на месте Петрович.
– На танцы! – вдруг озорно сказала старушка. – Ну, ступайте, ступайте, дело-то молодое...
И она пригорюнилась, вспоминая свое старое молодое дело.
Я торопливо ткнула рукой куда-то в колючее шинельное, и мы пошли. Чуть не побежали. Я едва поспевала за Петровичем, за его молодым делом-телом.
А когда мы забежали за какой-то домик с пронзительно-зелеными наличниками, Петрович резко остановился и чуть ли не оттолкнул меня. Мне показалось, что я противна ему. И всю жизнь была противна. Омерзительна и ненавистна.
– Ну, все! – почему-то злобно выдохнул он с облачком пара, улетевшего вверх, к голубым-голубым небесам.
– Все? – спросила я, прислушиваясь к собственному голосу, и ничего не слыша.
Петрович стремительно развернулся и побежал, путаясь в полах шинели.
Бежал солдатик с поля боя. Оставив врага смертельно раненым и немилосердно недобитым. Уродливые армейские башмаки копытами грубого животного впивались в снег. Снег жалобно вскрикивал. Так мучителен был этот звук. И так пронзительно-зелены были наличники дома, у которого меня бросили. Бросили впервые в жизни.
Будь я постарше, а это мне еще только предстояло, я бы подумала и сообразила, что этот несчастный солдат Петрович просто голубой или... или вообще никакой. И может быть, сейчас он бежал на свиданье с таким же несчастным и лопоухим.
Пока же я со странным чувством оглядывала себя со стороны и ощупывала душу свою. Меня... бросили? И... и что же?
И я побрела по улицам, приходя в себя и начиная с прежней страстью впитывать в себя, присваивать по-воровски и этот снег, и это солнце, и домик Северянина. Черт возьми! Мне всего лишь девятнадцать лет, а меня уже бросили! О, каким опытом я уже обладала! И еще сколько всякого разного предстояло мне испытать. Ведь мне обязательно нужно было стать красивой и знаменитой, любить и расставаться. И при этом – в разных городах и странах! Сколько же на это понадобится сил. Где их взять?
А пока был Череповец. Почему-то именно он. Неважно. И было мне пока девятнадцать.
Пока.
ШКОЛЬНОЕ ВОСПОМИНАНИЕ – И она грит, запомни, грит, день этот памятный. И сама, не вру, ей Богу, купила мне бутылку эту.
Cерега с хлопком сдернул пластиковую пробку и приложился к горлышку. По тамбуру электрички поплыл запах дешевого портвейна. Вставной челюстью лязгнула неисправная стальная дверь.
Долговязый малый с ликом раскаявшегося душегуба сначала не верил. А когда поверил, осудил, да тяжко так:
– Как же можно мать-то родную? Иль совсем мозги пропил?
– Во-во, – поддакнул Серега. – И она мне так же грит: запомни, грит, день этот памятный. И сама бутылку-то... Будешь ли?
– Стало быть, в богадельню старушку определяешь? – весело сказал третий попутчик, крепенький старичок с корзиной, постоянно вытиравший лысину платком. – Ай молодца! Во жисть пошла!
– Так что ж, – разводил руками Серега. – Какой из меня матушке подмога-утешение на старости лет? Вот и порешили мы с ней. По согласию сторон взаимно... И отчего это бывает, что так весело бывает?
Серега даже что-то такое выпляснул. Лихое, как ему казалось. На самом же деле его тщедушное тельце в обтерханном пиджачке лишь жалко передернулось.
– Дела, – сплюнул долговязый малый и затоптал окурок. – Да ты поди врешь, – на всякий случай еще раз усомнился он.
– А ты глянь, глянь на матушку на мою, – не обиделся Серега. – Вон в платочке сидит, вон в синеньком.
Малый еще больше посуровел.
– Стало быть, мать на людей чужих. А сам?
– А сам квартиру пропьеть! – радостно подхватил старичок. – Ай молодца!
– А и пропью, – куражливо повел плечами Серега. – Чем кому доставаться, лучше пропить. Все одно обманут. Знаем!
Тут он вдруг пригорюнился.
– И отчего это бывает, что вдруг грустно так бывает?
Подумав, продолжил:
– На работу устроюсь, вот чего, – нерешительно проговорил он. – А там и заберу матушку. Выпей со мной, дедок, а?
В окна электрички били лиловые и жирные, как черви, струи дождя.
– Отпил уж я свое, милок. Э-эх, да так ли отпил! – прочувствованно крякнул старичок. – Да только от таких вот напитков – одна срамота в организме. Чистое дело – срамота, – смачно повторил он.
Серега опять приложился к бутылке. Веселей стало, да только ненадолго. Потому что пошли контролеры и стали требовать билеты. А билета у Сереги не было, и он пытался объяснить, что билет у матушки, а у самой матушки билета нет, потому что она пенсионерка, вон в платочке, вон в синеньком. А контролеры сказали, что нечего тут распивать. А Серега спорил: мол, вся Россия гуляет, а ему, что, нельзя!?
– И то, – вмешался старичок, – ну какой у него может быть билет? Он мать в богадельню везет. Какой уж тут билет? Не может у него быть билета.
А день памятный продолжался. Только уже на остановке автобусной. И пока сидели там в ожидании, под грохот ливня по железной крыше, Серега жалобно так попросил:
– Пивка бы, ма...
– Сейчас, дитятко, сейчас родненький.
Да так под дождем и сходила к палатке, принесла пару бутылочек. Жалко Сереге ее было, промокла вся. Но в автобусе ему ехалось от пива радостно.
Затем долго пришлось брести вдоль какого-то длинного бетонного забора. Забор все не кончался, за шиворот противно текло, а матушка все приговаривала:
– Уж потерпи, сыночка, потерпи. Скоро уже, скоро.
И Серега плелся, машинально переставляя ноги и тупо размышлял: отчего это бывает, что приходится терпеть? Всю жизнь терпеть?
В проходной плюхнулись на скамеечку, отдышались. Появился мужчина в белом халате, доктор должно быть, решил Серега. Это хорошо, уход будет за матушкой. Развернула старая тряпочку, подала документы-справочки.
– Ну и ладно, – сказал доктор. – Ничего. Все уладится. Прощайтесь, да пойдем.
Мать встала, перекрестила Серегу и сухими губами поцеловала в щеку. Серега прослезился.
– Запомню, – вымолвил отяжелевшим языком, – запомню день этот памятный.
И тут взяли Серегу под белы руки, да крепко взяли и повели, чуть не понесли. Он не сразу сообразил, а когда сообразил, не стал рваться, а только оглянулся, словно ища защиты.
– Ступай с Богом, – проговорила негромко матушка. – Ступай. Да лечись хорошенько, слушайся.
И вспомнилось вдруг Сереге, как мать провожала его в школу, в первый класс. День тогда стоял солнечный, памятный...
Людмила Макеева ПЕЛЬМЕНИ ПО-СИБИРСКИ
– К нам бабушка приехала. Мяса всякого навезла. Завтра пельмени лепить будем. Придешь? – спрашивала меня рыженькая Катюха, подружка из далекого детства.
Еще бы не прийти! Пельмени в семье Зотовых – праздник. Ведь они, как-никак, мясо требуют, плюс муки да яиц к тесту. А где все это взять, если работающей была одна мать – стрелочница, на пятерых подрастающих ребятишек. Ну, еще, конечно, пенсию получали за погибшего от несчастного случая отца. Только денег этих всегда не хватало. Вот и приезжала, время от времени, из деревни бабушка Фрося, мать погибшего кормильца. Она привозила в чистом «крапивном» мешке огромные куски мяса, успевшие оттаять в духоте поезда, но не утратившие своей свежести. Так бывало каждой зимой, после осеннего закола скотины. На Алтае короткая осень, отблещет в сентябре, а там и морозцы нагрянут. Порубленную скотинку замораживали, а зимой, к Рождеству – пожалуйста, ешьте досыта пироги с мясом, да щи из квашеной капусты, с одуряющим запахом мозговых костей и уж, конечно, сибирские пельмени!
Вот тогда-то бабушка Фрося отбирала лучшие куски говядины и свинины, а к ним – бруски, пересыпанные крупной солью розоватого, с нежными прожилками свиного сала. Заворачивала все в чистую холстину и укладывала в мешок. Надо сирот подкормить, да не абы как, а самым лучшим продуктом.
И, когда на школьных переменах, изрядно отощавшая на летних огородных кормах зотовская ребятня доставала из своих сумок шаньги и пирожки, мы все понимали, что приехала бабушка Фрося.
Шаньги шаньгами, а пельмени, или как она их называла «пельмяне», были ее особенной гордостью.
В воскресенье, с утра, наскоро позавтракав, семья Зотовых приступала к долгожданному, крайне увлекательному занятию.
Поначалу ребятня – два парня и девчонки, усаживались на лавку и ждали бабушкиных указаний. Их мать была подручной у своей свекрови. Обе, завязав головы до самых бровей белыми платками, чтобы ни один волос не упал в тесто, сноровисто брались за дело. Пока молодая – тетя Нюра, тщательно отскребала ножом с доски фанеры старые насохшие корочки, бабушка насыпала в широкую керамическую корчагу заранее просеенную муку. На две горсти белой – одну ржаной. Это чтобы тесто было покруче, не разваливалось при варке. Да и поэкономнее так-то, чего уж скрывать!
Тщательно перемешав муку, бабушка высыпала ее горкой на фанеру и делала на верхушке холмика углубление. В него насыпалась щепоть крупной сероватой соли и выливалась пара сырых яиц. Муки было много и замес должен получиться изрядным. Вон орава-то какая! Бабушка «творила» тесто.
– Ты, девка, – строго обращалась она к невестке, – водичку-то подогрей, да с молоком смешай. Так-то послаще будет.
– А ты мужик, тебе работа потяжельше, – это уже к старшему внуку, – мясо рубить станешь. И совала ему на колени деревянное корытце, до краев наполненное чистыми крупными розоватыми ломтями говядины.
Вот ведь какое дело! Не было в те, послевоенные годы в наших семьях мясорубок, а потому фарш для пельменей, пирогов, будь то из мяса или картошки, рубили в таких вот корытцах сечками или, как их еще называли, «тяпками». Корытца делали мужички-умельцы, выдалбливая из деревянных чурбанов. Выходили они белыми, звонкими, отшлифованными, разной величины. А сечки были из нержавеющей стали, отточенными как бритва, и по виду здорово напоминающими старинные алебарды, которые держат на своих плечах валеты на игральных картах. Кому интересно, взгляните. Валеты остались, а вот сечек и в помине нет.
Тюкать по мокрому мясу – занятие, конечно, нехитрое, особой квалификации не требует. Да вот только вскорости рука начинает уставать, а сечка – казаться непомерно тяжелой.
– Рука скоро отвалится, – угрюмо сообщает пацан.
– Тоды одной левой пельмяне в рот таскать станешь, – по-сибирски окая, насмешничает бабушка.
Но корытце, все же, переходило к другому внуку, тому, что помладше. Он, радуясь, что ему досталась не самая тяжелая работа (мясо-то почти измельченное), бодро начинал тюкать. И тут же, гася его радость, в корытце падали куски белой свинины.
– Постное мясцо с жирным вполовину должно быть, – поясняла бабушка.
И, когда фарш, казалось, доходил до полной готовности, и его количество умещалось лишь в половине корыта, а рука рубщика падала плетью, туда, к мясу, добавлялось несколько ровно очищенных сырых картофелин, немного, штуки три-четыре и пара крупных, с кулак подростка, белых луковиц. Это для сочности и особого вкуса.
И тут уж дорубливала баба Фрося. Она придирчиво перемешивала фарш. Подслеповато вглядываясь, достаточно ли мелко получилось. Но перемельчить тоже было нельзя, это вам не манная каша! Мясо вкус потеряет. И ведь что еще – Боже вас упаси положить луковицы на порубку подмоченные, мелкие или, того хлеще, с гнильцой. Все, считай, пропало мясо. Испорчено и не поправить. Нет, луковицы должны быть глянцевыми, хрусткими, весело крошащимися под сечкой.
Теперь доводим фарш до «ума». Немного соли, еще меньше молотого перца, разбавим водичкой, той самой, на молоке, и ну размешивать, взбивать огромной деревянной ложкой!
В то время, пока внуки управлялись с мясом, бабушка Фрося уже колдовала над тестом. Разведя муку водой, она замешивала его на доске, подгребая ножом мутные ручейки. Она мяла, катала, переворачивала огромный образовавшийся кусок и так и этак. После его уже домешивала тетя Нюра. И когда он становился в меру мягким, упругим и не прилипал к пальцам, образуя собой пышный каравай-сырец, его накрывали чистым полотенцем и давали отлежаться. Пусть отдыхает, вон ведь как бока наминали!
– Ну, девки, ваша работа, – обращается к нам, сидящим без дела, бабушка.
– Да космы-то приберите, все-то вас щунать надо, – ворчит она, глядя на наши растрепанные головы.
Тесто разделяется на длинные жгуты и нарезается мелкими ровненькими кусочками. Они вылетают из-под ножа, очень похожие на карамельки-"подушечки".
Двоим-троим из нас вручаются деревянные скалки, остальные лепят пельмени. И это дело столь же ответственно, что и приготовление фарша. Сочни должны быть не слишком тонкими, но и не расхристанными, ровненькими, кружочек к кружочку. Чтобы к доске не прилипали, муки подсыпай, да в меру, иначе края не слепятся. А сами пельмени должны форму держать боевитую! Окаймляющий кружавчик – торчком, как шапочка на младенце, а «ушки» завязаны. Чтобы тощими не были, а чуть пузатенькими, но не чересчур, начинку должны легко вбирать, схватывая ее мягкими губками. Мелкие не годились.
– Что это за пельмянь? Маета одна, – выговаривала бабушка, если у кого-то выходила этакая мелочь.
– А ты куда таку галошу слепила? – еще пуще гневалась она, видя особо крупную «продукцию».
И вот, ряд за рядом, усыпанные мукой, бочок к бочку, выстраивали пельмени на все имеющиеся в доме доски. Часть из них будет сварена сейчас же, часть вынесут на мороз, чтобы поесть завтра, а если останется, то и послезавтра.
Пацаны, видя, что стряпня уже подходит к концу, вовсю шуровали в печи, подкидывая новые поленья. Проворно ставили на плиту, прямо на открытый огонь, здоровенный чугунный казан, наполовину заполненный водой. Когда вода закипала, баба Фрося со словами «Сусе-Христе, благослови!» осторожно стряхивала в нее мягкие пельмени. Дожидалась, когда они всплывут, подсаливала воду, осторожно перемешивала варево и для дополнительного аромата опускала еще туда лавровый листик.
И он плыл, этот аромат, заполняя собой нехитрое жилище – кухню и горенку, вырывался из щелей двери в сени – крепкий, сытный, кружащий голову.
А тут уже кукушка из часов подает свой хрипловатый голосок. В самый раз к обеду управились!
Наконец дымящиеся, истекающие соком, нежно просвечивающие нутром, пельмени выкладывались на «блюдо» – огромную, плоскую эмалированную тарелку. А рядом появлялась миска с разведенной в этом же отваре готовой горчицей. Туда добавлялся уксус и мелко порубленный чеснок. Это была пельменная приправа.
Каждый из нас цеплял своей вилкой горячий пельмень, осторожно окуная его в эту «гремучую» смесь и так же осторожно отправлял его в рот. И, едва не захлебываясь обжигающим соком, с выступившими на глаза слезами от яростной жгучести приправы, от нежной горячности пельменя, от восторга перед столь вкусной и сытной пищей, мы жевали медленно, врастяжку, всласть, упоенно...
И сейчас вспоминаю те пельмени и рот наполняется предательской слюной. «Нельзя, диабет у тебя», – подсказывает разум, а шалый дух, поднявшийся над тарелкой с горячими, дразнящими пельменями уже проник в сознание и забродил в крови. Теперь и стряпать не надо. Вон, в любом магазине – и «царские», и «боярские», и «от Дарьи», и «от Марьи», и «сибирские», между прочим, тоже есть. А есть крошечные, как мотыльки, «равиоли» какие-то!
«Не пельмянь это вовсе, а так, маета одна», – вспоминается далекое.
Несу домой пакетик – промороженных, постукивающих, как костяшки старых счетов, со сроком хранения – до морковкина заговенья. В кипяток их скорее! Ага, всплыли, поднадулись. Уже в тарелке лежат – ровненькие, технологичные, ни за что зотовским так не слепить! Только праздника нет. И вкус трухлявый какой-то.
А впрочем, мне ли огорчаться? Уж я-то знаю, как их готовить! Мясо в соседнем магазине всегда парное, мука-яйца под рукой. Раз-два и готово! Ан нет, совсем не тот коленкор. Кухонный комбайн (скажи кому про такое в те пятидесятые годы, не поверят, засмеют), он тебе и фарш мясной – в две минуты, и тесто вымесит, как надо. Но только не заменит он, ни в коей мере старое деревянное корытце с мясом, порой со щепой (и так бывало) и бабушкины узловатые руки, бережно «творящие» тесто, и кастрюля, будь хоть трижды «цепторовская», не проварит так, как закопченный чугунный казан. А мясо-то? Фермерские животные в наш «нечистый» век никогда не нагуляют того сладостного аромата от алтайских лугов, что источали бабушкины «пельмяне». И, как говорится, та же мучка, да разные ручки, чего уж греха таить. Откуда-то, из-за пелены десятилетий, смотрит баба Фрося на мои потуги и головой качает, осуждает: «Ноне бабы такие. Ничего делать толком не умеют».