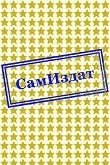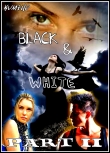Текст книги "ГНОСТИЦИЗМ. (ГНОСТИЧЕСКАЯ РЕЛИГИЯ)"
Автор книги: Ганс Йонас
Жанры:
Религиоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 24 страниц)
Более впечатляющим является образ падения: душа или дух, частица изначальной Жизни или Света, низвергается в мир или во плоть. Это один из основных символов гностицизма: предкосмическое падение части божественного начала лежит в основе происхождения мира и человеческого существования в большинстве гностических систем. «Свет пал во Тьму» означает раннюю фазу той же самой божественной драмы, где «Свет светил во Тьме» может быть сказано для того, чтобы обозначить более позднюю стадию. Что было причиной этого падения и какие стадии оно проходило – все это служило предметом великого множества далеко идущих рассуждений. Не считая манихейства и связанных с ним иранских типов гностицизма, где весь процесс был начат силами тьмы, в нисходящем движении божественного присутствовал элемент свободного выбора: провина Души, как мифической сущности, которая «склонилась» к нижним сферам, влекомая различными побуждениями вроде любопытства, тщеславия и чувственности, стала гностическим эквивалентом первородного греха.
Падение – предкосмический грех, и одним из его последствий стал мир как таковой, смена местопребывания и судьба индивидуальной души в этом мире.
«Однажды Душа обратилась к материи и страстно увлеклась ею; в ней возникло желание испытывать телесные удовольствия и она не захотела от него избавиться. Поэтому был рожден мир. С этого момента Душа забыла о себе. Она забыла свое изначальное происхождение, свой истинный центр, свое вечное бытие».
Однажды отделенное от божественной сферы и поглощенное чужой для него обстановкой, движение Души продолжалось в нисходящем направлении, и оно начиналось и описывалось как «спуск»: «Как долго я спускался во все эти миры?» (J 196). Нередко, однако, к этому описанию падения добавлялся элемент насилия в форме метафоры пленения, которую мы рассмотрим подробнее, когда будем исследовать манихейскую систему. Здесь будут приведены некоторые мандейские образцы. «Кто взял меня в плен из моего места и моего жилища, из семьи моих родителей, которые вскормили меня?» (G 323). «Почему ты взял меня из моего жилища в плен и бросил в это омерзительное тело?» (G 388). Термин «бросить» или «кинуть», употреблявшийся в последней цитате, требует некоторого комментария. Его использование, как мы видели прежде, не ограничено только метафорой плена: это образ очень широкого применения – жизнь была брошена (выкинута) в мир и в тело. Мы встретили выражение, связанное с символизмом «смешения», где оно используется для обозначения как истоков космоса, так и человека: «Птахил бросил форму, которую Вторая [Жизнь] приняла в мире тьмы. Он сделал творения и создал племена за пределами Жизни» (G 242).
Этот эпизод относится к космогонической деятельности Демиурга: в антропогонии образ повторяется, и там он приобретает свое основное значение. «Птахил взял спрятанную Мана, которая была дана ему в доме Жизни, принес ее сюда и бросил в Адама и Еву» (там же). Это постоянно повторяющееся выражение для одушевления человека его незаконным создателем. И это событие не планировалось в системе Жизни, но насилие совершило его, а божественная воля очевидна из раскаяния, которое Демиург чувствовал после всего. «Кто выставил меня в смешном виде, так что я был дураком и бросил душу в тело?»(G 393).
Даже формула валентиниан, цитировавшаяся прежде, хотя Валентин и принадлежал к особому ответвлению гностицизма, склоняется к категориям скорее внутренней мотивации, чем внешней силы, чтобы истолковать предысторию Души, и мы встречаем выражение «куда мы заброшены». Неприятная нота, которую этот конкретный термин вносит в серию отвлеченных и нейтральных глаголов, предваряющих его в формуле («быть», «стать»), определенно подразумевалась.
Воздействие данного образа имеет само по себе символическую ценность в гностической оценке человеческого существования. Было бы интересно сравнить его использование в гностицизме с использованием в современном философском анализе существования, например, Мартином Хайдеггером. Все, что мы хотим здесь сказать, это то, что в обоих случаях «были брошены» – не просто описание прошлого, но атрибут, определяющий данную экзистенциальную ситуацию как обусловленную этим прошлым.
В гностическом опыте настоящая ситуация жизни – этот драматический образ ее генезиса – проецируется в прошлое, и оно является частью мифологического выражения этого существования. «Кто бросил меня в горе миров, кто перенес меня во зло тьмы?» (G 457) – спрашивает Жизнь и заклинает: «Спаси нас из тьмы этого мира, в который нас забросили» (G 254). На этот вопрос отвечает Великая Жизнь «Твой исход произошел не по воле Великой Жизни» (G 329); «Дом, в котором ты обитаешь, построен не Жизнью» (G 379); «Этот мир создавался не по воле Жизни» (G 247).
Позже мы поймем значение этих отрицательных ответов с точки зрения позитивной мифологии. Гностический миф занимается переводом чувственной действительности, проявившейся в гностическом взгляде на существование и прямо выраженной в этих вопросах и отрицательных ответах на них, на язык объясняющей системы, которая отделяет данное положение от его истоков и в то же время обещает выйти за их пределы.
Итак, Жизнь, «брошенная» в мир, отражает условия своего существования и свое настроение в группе метафор, которые мы сейчас будем рассматривать. Большая их часть в гностических источниках относится не к «человеку» в обычном смысле, а к символически-мифологическому существу, божественному образу, обитающему в мире в особенной и трагической роли, как жертва и спаситель одновременно. Так как, однако, этот образ согласно значению системы является прототипом человека, чей удел – страдать в полную силу (часто его называют Мужчиной, хотя образ может быть женским), при рассмотрении этого Изначального Человека у нас есть основания считать его страдания проекциями опыта тех, кто заставил его так говорить, даже если подобные утверждения относятся к прекосмическим событиям.
В следующем обзоре мы будем соответственно не различать, но думать о человеческом существовании в мире, вне зависимости от того, к какой фазе или действующему лицу мифической драмы можно отнести данное утверждение.
(h) ПОКИНУТОСТЬ, СТРАХ, ТОСКА ПО ДОМУ
Все эмоциональные подтексты, которые обнаружил наш первоначальный анализ круга понятий "чуждое-иное", находят отчетливое выражение в гностическом мифе и поэзии. Это мандейские повести и гимны, фантазии Валентина о приключениях заблудившейся Софии, долгие горестные жалобы "Pistis Sophia", где в большом количестве встречаются выражения испуганного и ностальгического состояния душевной заброшенности в мире. Мы выбрали несколько примеров.
«Манда д'Хайе говорил Еносу: Не бойся, и не ужасайся, и не говори, что Они оставили меня одного в этом мире зла. Но вскоре я приду к тебе... [Енос, оставленный один в мире, соединяет сотворенный мир, особенно планеты и их разнообразные дары и влияния: он преодолел страх и отчаяние одиночества.] Зло однажды сговорилось против меня... Они сказали друг другу: В нашем мире невозможно услышать зов жизни, он [мир] будет нашим... День за днем я пытался уйти от них, так я остался один в этом мире. Я поднял свои глаза к Манда д'Хайе, который сказал мне: Скоро я приду к тебе... Каждый день я поднимал свои глаза на путь, по которому шли мои братья, на тропу, по которой придет Манда д'Хайе... Манда д'Хайе пришел, позвал меня и сказал мне: Малютка Енос, почему ты боишься, почему ты дрожишь?.. Поскольку ужас преобладает в твоем мире, я пришел просветить тебя. Не бойся злых сил этого мира».
(G 261 ff.)
Предвкушая освобождение, покинутая душа говорит:
"О, как я возрадуюсь потом, кто теперь огорчается и боится в жилище зла!
О, как возрадуется мое сердце после тех деяний, что я совершила в этом мире!
Сколько я буду еще блуждать, и как долго еще я буду опускаться во все эти миры?"
(J 196)
Заброшенность Жизни в пределах обитания в этом мире выражена очень трогательно:
"Я – одинокая виноградная лоза, что осталась в мире.
Нет у меня высшего покровителя, нет хранителя, нет кроткого помощника,
который бы пришел и научил меня всему".
(G 346)
Чувство заброшенности в чужой земле другого мира возвращается снова и снова:
"Семеро угнетают меня и Двенадцать стали моими преследователями.
Первый [Свет] забыл меня, а Второй не спросил обо мне".
(J 62)
Вопрос формы, который так заметно преобладает в мандейской литературе, отражает своеобразную живость поиска и беспомощность Жизни, потерянной в чужом мире. Некоторые моменты из следующих выдержек уже цитировались прежде:
"Я размышляю, откуда это происходит.
Кто взял меня в плен из моего места и моего жилища,
из семьи моих родителей, которые вскормили меня?
Кто принес меня к виновным, сынам суетного пристанища?
Кто принес меня к бунтовщикам, которые воюют день за днем?"
(G 328)
"Я есмь Мана великой Жизни. Я есмь Мана могущественной Жизни.
Кто заставил меня жить в Тибиле, кто бросил меня в телесный обрубок?..
Мои глаза, открытые прежде жилищу света, теперь принадлежат обрубку.
Мое сердце, стремящееся к Жизни, пришло сюда и стало частью обрубка.
Это тропа обрубка, Семеро не позволяют мне идти моим путем.
Как я должен повиноваться, как должен я успокоить свой ум!
Как я должен слушать семь и двенадцать мистерий, как должен я стонать!
Как должно мое кроткое Слово Отца обитать среди созданий тьмы!"
(G. 454 f.)
Этих примеров из мандейской литературы достаточно. Мы отмечаем стиль плача, характерный для восточных источников.
Мы уже цитировали прежде «Псалом Души» наассенов. Из всех греческих источников он наиболее драматично описывает состояние Души в лабиринте враждебного мира. Текст безнадежно испорчен, и любое толкование может быть только пробным: общее содержание, однако, довольно ясно. Душа, третье начало, как-то размещенное между первыми двумя – Духом и Хаосом, была поглощена последним. В недостойной форме, которой она облечена, она борется и усиленно трудится. Добыча Смерти, она то обладает царской властью и видит свет, то погружается в несчастье и рыданья. Отгоревав, она возрадовалась, стеная, что она осуждена, осуждена умереть, постоянно возрождаясь. Так она блуждает в лабиринте зла и не находит дороги оттуда. И это из-за того, что Христос попросил Отца отправить его далее с печатями, что облегчило ему проход через Эоны и раскрытие их Таинств (Hippol. V. 10. 2).
Наконец мы цитируем некоторые плачи из «Pistis Sophia», гл. 32:
«Свет Света, в котором я должна иметь веру с самого начала, выслушай теперь мое покаяние. Избавь меня, о Свет, от злых мыслей, которые вошли в меня... Я пошла и нашла себя во тьме, которая была в хаосе, и я была бессильна уйти оттуда и вернуться на свое место, я страдала от всех эманаций Автадов... И я взывала о помощи, но мой голос не доносился из тьмы, и я смотрела вверх, так чтобы Свет, в который я верила, мог прийти мне на помощь... И я была в этом месте, оплакивая и разыскивая Свет, который я видела в вышине. И страж у врат Эонов искал меня, и все те, кто остался в пределах Таинства, смеялись надо мной... Теперь, о Свет Света, я страдаю во тьме хаоса... Избавь меня от этой тьмы, чтоб я не погрузилась в нее... Моя сила смотрела вверх из середины хаоса и центра тьмы, я ждала своего супруга, и он мог прийти бороться за меня, но он не пришел».
(i) ОЦЕПЕНЕНИЕ, СОН, ОПЬЯНЕНИЕ
Можно сказать, что эмоциональные категории последнего раздела отражают общий человеческий опыт, который может появиться и найти выражение повсюду, хотя редко в таких выразительных формах. Другая серия метафор, относящаяся к условиям человеческой жизни в мире, уникально гностическая и повторяется с большой регулярностью на протяжении целого ряда гностических выражений, вне зависимости от лингвистических границ. В то время как земное существование, с одной стороны, как мы только что увидели, характеризуется чувством заброшенности, страха, ностальгии, оно, с другой стороны, описывается как "оцепенение", "сон", "опьянение" и "беспамятство": то есть говорится, что оно предполагает (если мы исключим опьянение) характеристики, которые первоначально описывали состояние смерти в преисподней. Действительно, мы находим, что в гностической мысли мир занимает место традиционной преисподней и уже сам по себе является царством смерти, то есть тех, кто должен подниматься к жизни снова. В некотором отношении эта серия метафор противоречит предыдущей: бессознательность исключает страх. Смысл этой серии метафор – не подробное изложение мифов: это только пробуждение от состояния бессознательности ("неведения"), осуществляемое извне, что открывает человеку суть его положения, доселе от него скрытую, и объясняет поток смерти и отчаяния; еще в некотором роде все это должно работать уже в предшествующем состоянии неведения, где жизнь выказывает тенденцию твердо за него держаться и сопротивляться пробуждению.
Откуда берется это состояние бессознательности и в каких конкретных терминах оно описывается? «Бросок» как таковой мог бы считаться причиной оцепенения падшей души; однако в нем активно участвует сама чужая обстановка, мир как демоническая сущность. В манихейской космогонии, как рассказывает Феодор бар Конаи, мы читаем:
«Когда Сыны Тьмы поглотили их, пять Светлых Богов [сынов Изначального Человека и вещество всех душ, позднее рассеянных в мире] лишились понимания, и благодаря яду Сынов Тьмы стали подобны человеку, которого укусила бешеная собака или змея».
Таким образом, неосознанность является самым настоящим заражением ядом тьмы. Здесь мы имеем дело не только с целой группой метафор сна без мифологических подробностей, просто с повествовательными эпизодами, но и с фундаментальной особенностью существования в мире, с которой связано целое искупительное предприятие надмирного божества. «Мир» со своей стороны прилагает усилия, чтобы создать и сохранить это положение своих жертв и противодействовать процессу пробуждения: ибо в противном случае его сила и даже самое его существование, оказываются под угрозой.
«Они смешали мне питье со всем коварством и дали мне попробовать мясо. Я забыл, что я царский сын, и служил их королю. Я забыл Жемчужину, за которой мои родители послали меня. Из-за тяжести их пищи я погрузился в глубокий сон».
(«Гимн Жемчужине» в Ada Thomae)
Наиболее постоянно и широко используемым является, вероятно, образ «сна». Душа спит в Материи. Адам, «глава» расы и в то же время символ человечества, пребывает в глубоком сне совершенно иного рода, нежели библейский Адам: люди вообще «спят» в этом мире. Метафора выражает общую заброшенность мира. Определенные фигуры речи лежат в основе этого духовного и нравственного аспекта. Люди не просто спят, но «любят» спать («Почему ты любишь спать и спотыкаешься на этой ошибке?» – G 181); они заброшены в сон точно так же, как и во тьму (С.Н. I. 27). Даже понимания того, что сон – великая опасность существования в мире, недостаточно, чтобы заставить пробудиться, но это побуждает просителя:
«Согласно тому, что ты, великая Жизнь, сказала мне, глас может приходить ко мне каждый день и пробуждать меня, и я не могу ошибаться. Если ты позовешь меня, зло миров не обманет меня и я не стану жертвой Эонов».
(G 485)
Метафора сна может служить для того, чтобы не принимать «здешнюю жизнь» всерьез: она хоть и кошмарная, но всего лишь иллюзия, сон, который мы не в силах контролировать. В тексте уподобление «сну» соединяются с эпитетами «Неведение» и «Ужас»:
«Что, наконец, Он хочет, чтобы человек думал? Это: „Я как тени и призраки Ночи“. Когда пришел свет зари, тот человек понял, что Ужас, который завладел им, был ничто... В то время как Неведение внушило ему ужас и замешательство и покинуло его колеблющимся, плачущим и разделенным, существовало много иллюзий, за которыми они охотились, и простых вымыслов, как будто они были погружены в сон и как будто они стали жертвой беспокойных видений. Или они бежали откуда-то, или приходили безрезультатно, чтобы преследовать других; или они обнаружили себя ссорящимися, нанося удары или получая удары; или они упали с великой высоты... [и т.д., и т.д.]: до тех пор, пока те, кто проходил через все это, не пробудились. Затем те, кто испытал все это смятение, внезапно ничего не увидели. Для них это – ничто, а именно, фантасмагория».
(GT 28:24 – 29:32)
Так как центральная идея гностицизма состоит в противодействии замыслу мира, призыве одолеть его чары, метафора сна или ее эквиваленты выступают неизменным компонентом типичного гностического призыва к человеку, которому тем самым предоставляется возможность так называемого «пробуждения». Далее, когда мы обратимся к «зову», мы вновь и вновь будем встречаться с этими метафорами.
Метафора опьянения требует специального комментария. «Опьянение» миром является феноменом, точно характеризующим духовный аспект того, что гностики понимали под термином «мир». Оно вызывается «вином неведения» (С.Н. VII. 1), которое мир повсюду предлагает человеку. Метафора поясняет, неведение – не нейтральное состояние, простое отсутствие знания, но представляет собой позитивный противовес знанию, активно вызываемый и сохраняемый, чтобы предотвращать последнее. Неведение опьянения – это, собственно, неведение души относительно своих истоков и своего положение в чужом ей мире. Именно осознание своей чуждости миру надлежит подавлять опьянению; человек, забывший свое истинное бытие и втянутый в водоворот мирских событий и страстей, становится одним из детей этого мира. Это общепризнанная цель сил мира, когда они предлагают человеку вино, приглашая его на свой «пир». Опьянению неведением противостоит «трезвость» знания, причем эта религиозная формула иногда усиливается парадоксом «трезвого опьянения». Так, в Одах Соломона мы читаем:
«Из весны Господа к губам моим пришла в обилии говорящая вода. Я пил и был выпит водой вечной жизни, мое опьянение еще не было опьянением неведения, но я ушел от суеты».
(Ода XI. 6-8)
«Он, который так знает... [подобен] человеку, который, опьянев, трезвеет и приходит в себя, вновь заявляя о том, что ему принадлежит по существу».
(GT 22:13-20)
Оргиастическое празднество, подготовленное миром для обольщения человека, или, более расширенно, чужой миру запредельной Жизни, постоянно описывается в пространных картинах мандейских трудов. Следующий пример занимает в оригинале много страниц и здесь значительно сокращен. Для читателя, незнакомого с мандейской мифологией, скажем просто, что Руха – демоническая мать Планет и, как злой дух этого мира, – главный противник сынов света.
"Руха и Планеты начали думать, что им делать, и сказали:
«Мы обманем Адама, и поймаем его, и задержим его с нами в Тибиле. Пока он ест и пьет, мы обманем мир. Мы осуществим давление на мир и найдем место в мире. Мы заманим его звуками рожков и флейт, так что он не сможет вырваться от нас... Мы соблазним племя жизни и вырвем его с собой из мира... [G 113 f.]. Восстань, давай устроим праздник: восстань, давай устроим пьяный пир. Давай совершим таинство любви и соблазним весь мир!.. Зов Жизни мы заставим замолчать, мы бросим зерно раздора в дом, который никогда не будет заселен. Мы убьем Чужеземца. Мы сделаем Адама нашим сторонником и увидим, кто потом будет его освободителем... Мы уничтожим его воинство, отряд, который собрал Чужеземец, так что у него не будет доли в этом мире. Весь дом будет теперь только нашим... Что Чужеземец делал в доме, что он мог найти для себя там?»
Они взяли живую воду и влили в нее мутную. Они взяли главу племени и совершили с ним таинство любви и похоти, – и все миры воспылали. Они обольстили его, в результате чего все миры были совращены. Они исполнили на нем таинство тьмы, из-за чего все миры погрузились во тьму... Миры опьянели от этого и обратили свои лица к Морю Саф".
(G 120 ff.)
Добавим к этой впечатляющей картине только несколько замечаний. Главным оружием мира в этом великом обольщении служит «любовь».
Мы сталкиваемся здесь с широко распространенным лейтмотивом гностической мысли: недоверие к половой любви и чувственному удовольствию в целом. Оно понимается как одна из главных форм обольщения человека миром: «Духовный человек познает себя как бессмертного, а любовь – как причину смерти» (С.Н. I. 17); «Он, который лелеял тело, созданное ошибкой любви, остался в темноте, ошибаясь, страдая в своих чувствах освобождения от смерти» (там же, 19). Больше, чем половая любовь, включается в эту роль эрос как начало смертности (для Платона он был началом стремления к бессмертию). Страсть к вещам этого мира как таковым может принимать многообразные формы, и из-за всего этого душа отвращается от истинной цели, попадая под чары чужого жилища.
«Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть глаз и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего».
(1 Иоан. 2:15-16)
Три склонности, отмеченные здесь, – «похоть плоти», «похоть глаз» и «гордость житейская» – позже послужили Августину главными критериями общего «искушения» мира (см. Confess. X. 41 ff.). «Таинство любви» в мандейском тексте представляет собой мифологическую версию той же самой идеи.
(j) ШУМ МИРА
Мандейская картина заговора мира побуждает к дополнительным наблюдениям. Оргиастический пир, предназначенный погрузить человека в состояние пьяного помрачения, выполняет, помимо этого, и другую задачу: его шум призван заглушить "зов Жизни", сделать человека глухим к гласу Пришлого Человека.
«Они не слышат слов Человека, который пришел сюда... С тех пор, как мы создали Адама, он приходит и повинуется нам и нашему отцу Птахилу».
(G 244)
«Давайте придем и заставим его слушать великий грохот, так что он забудет небесные голоса».
(J 62)
Однако, как и следует из представления о неизбывной глупости мировых сил, грохот производит и другой, в конечном счете противоположный, эффект:
«Едва их шум достиг ушей Адама, он пробудился ото сна и возвел глаза свои к месту света. Он позвал своих помощников, позвал кротких преданных Утр. Он сказал Хибил-Утре [здесь вместо Манда д'Хайе], человеку, который заставил его услышать глас: „Что происходит в доме, что за грохот возносится к небесам?“ Пока Адам говорил так, слезами наполнялись его глаза... Я пришел к нему, взял за правую руку и заставил его сердце вновь наполниться надеждой».
(G 126)
Так оружие сил мира оборачивается против них: призванное отвлечь и сбить с толку, оно вместо этого будит Адама, заставляя его взглянуть на Чужеземца и напрячь свой слух, чтобы услыхать иной голос.
(k) «ЗОВ ИЗВНЕ»
"Утра зовет извне и учит Адама, человека" (G 387, J 225); "В воротах мира стоит Кушта (Истина) и задает миру вопрос" (J 4); "Это зов Манда д'Хайе... Он стоит на внешнем краю миров и зовет своего избранника" (G 397). Надмирное проникает сквозь ограду мира и заставляет услышать зов. Этот зов – зов иного мира: "Однажды зов приходит и учит обо всех зовах" (G 90); это "зов Жизни" или "великой Жизни", который равен прорыву света во тьму: "Они [Утры] заставят услышать зов Жизни и озарят дом смертных" (G 91). Он направлен прямо в мир: "Я посылаю зов извне в мир" (G 58); в грохоте он различим как нечто совершенно от него отличное: "Он звал небесным гласом в шуме миров" (J 58).
Символ зова как формы, в которой надмирное появляется в пределах мира, настолько фундаментален для восточного гностицизма, что мы можем даже обозначить мандейскую и манихейскую религии как «религии зова». Читатель вспомнит близкую связь, которая наблюдается в Новом Завете между слушанием и верой. Мы находим множество примеров этого в мандейских писаниях: вера – это ответ на зов извне, который невозможно увидеть, но дОлжно услышать. Манихейский символизм пошел еще дальше, разделив «Зов» и «Отклик» на отдельные божественные фигуры. В «Гимне Жемчужине» «письмо», которое небожители посылают своему отправленному в мир родичу, превращается по прибытии в «глас»:
"Подобным вестнику было письмо, которое Царь запечатал своей правой рукой... Оно летело, подобно орлу, и опустилось позади меня, и стало речью. Звук его голоса пробудил меня ото сна, поднял меня... и направил стопы мои так, что я смог прийти к свету нашего дома. Письмо, которое пробудило меня, я нашел пред собой на дороге, письмо, голос которого пробудил меня...
В валентинианской трактовке зовом в особенности является называние по «имени», т.е. по мистическому духовному имени субъекта, из навечно «начертанной» Богом «книги судеб»:
«Те, чьи имена Он знал заранее, были названы в конце, так что он, который знает, оказался тем, чье имя было произнесено Отцом. Для Него те, чьих имен Он не произнес, неведомы. Воистину, как может человек услышать, если имя его не названо? К тому, который до самого конца оставался в неведении, явилось Забвение и уничтожило его. Если это не так, почему эти жалкие не получили имени, почему не услышали зов?»
(GT 21:25 – 22:2)
Наконец, зов может также быть апокалиптическим, возвещающим конец мира:
«Зов прозвучал над миром и великолепие всех городов обратилось во прах. Манда д'Хайе явил себя всем детям человеческим и спас их из тьмы в свет».
(G 182)
(l) «ЧУЖЕЗЕМЕЦ»
Зов исходит от того, кто был послан в мир для этой цели и в чьем лице запредельная Жизнь открыто взяла на себя роль чужеземца: роль Вестника, Посланника, то есть человека, который пришел не из этого мира. Руха говорит Планетам:
«Этот человек не наш, и его речь – не наша. Он не связан с тобой... Его речь приходит извне».
(G 258)
Имя «чужеземец» указывает на то, как его воспринимают здесь внизу: приятное ликование тех, кто чувствует себя здесь чужими и изгнанными («Адам почувствовал любовь к Чужеземцу, чья речь была чужой, не этого мира» – G 244); возмущенное удивление космических сил, которые не понимают, зачем он находится среди них («Что этот Чужеземец делает в доме, разве он может найти здесь себе воинство?» – G 122); наконец, враги собирают сынов дома против незваного гостя («Мы убьем Чужеземца... Мы уничтожим его рать, так что у него не будет доли в этом мире. Весь дом будет только нашим» – G 120 f.). Непосредственный эффект его появления внизу убедительно описан в Евангелии Истины:
«Когда появилось Слово, Слово, которое присутствовало в сердцах тех, кто произносил Его – и Оно было не только звуком, у Него была плоть, – великое смятенье воцарилось среди сосудов: одни опустошались, другие наполнялись; одни стояли полными, другие опрокидывались; одни освящались, другие разбивались вдребезги. Все пространства сотрясались и смешивались, в них не было ни устойчивости, ни неизменности. „Ошибка“ волновалась, не зная, что она сделает. Она страдала, и стенала, и терзалась, потому что она ничего не знала. С тех пор как Гносис, который был проклятием для „Ошибки“, и все его Эманации настигли ее, „Ошибка“ стала пустой, ничего больше в ней не было».
(GT 26:4-27)
Итак, вернувшись к себе, Жизнь в одном из своих непадших членов опустилась в тюрьмы мира, «облачившись в печаль миров» и приняв изгнание далеко от царства света. Мы можем назвать это вторым нисхождением божественного, весьма отличным от имевшего место ранее трагического нисхождения, которое привело к тому положению, которое теперь надо спасать. В отличие от первого, когда Жизнь запуталась в мире, попав в него путем «падения», «погружения», «будучи брошенной», «плененной» и т.д., на этот раз ее появление здесь – совершенно иной природы: посланный Великой Жизнью и облеченный властью, Чужеземец не падает в мир, но отправляется в него намеренно.
«Один зов пришел и научил все зовы. Одна речь пришла и научила все речи. Один возлюбленный Сын пришел, созданный в лоне величия... Его образ хранится невредимым в этом месте. Он пришел с сиянием жизни, с властью, которую передал ему Отец. Он пришел в облачении живого огня и отправился в твой [Руха] мир».
(G 90)
«Я – Йокабар-Кушта, который выступил из дома Отца своего и пришел сюда. Я пришел сюда, скрыв свое величие и свет, которому нет конца».
(G 318)
«Выступление вперед» и последующий «приход сюда» понимаются в буквальном смысле слова: они действительно приходят, проделав определенный «путь» извне в пределы мира, пронизывая в ходе своего прохождении все концентрические оболочки, т.е. разнообразные сферы, или эоны, или миры, для того, чтобы достичь сокровенного пространства, в котором заключен человек.
"Ради него пошли меня, Отец!
Храня печати, я спущусь, пройдя чрез все Эоны,
все Таинства раскрою, показав очертания богов,
тайны священного Пути, известного как Знание,
ему я передам".
(«Псалом Души» наассенов)
Этот проход через космическую систему является в сущности прорывом и таким образом победой над ее силами.
«Во имя того, кто пришел, во имя того, кто приходит, и во имя того, кто пойдет дальше. Во имя того Чужеземца, который проложил путь через миры, пришел, расколол небесный свод и обнаружил себя».
(G 197)
Здесь мы видим причину того, почему простого зова извне недостаточно: дОлжно не только пробудить человечество и призвать его к возвращению, но, чтобы души людей смогли совершить побег из мира, нужно сделать настоящий пролом в «железном занавесе» небосвода, который преграждает путь как наружу, так и вовнутрь. Только подлинное деяние божества при его входе в систему может проделать эту брешь:
«Он поверг их сторожевые башни и сделал пролом в их твердыне» (J 69). «Проникнув в пустые пространства ужаса, Он стал во главу тех, кого не коснулось Забвение».
(Евангелие Истины, с. 20, 34-38).
Таким образом, уже просто фактом своего нисхождения Вестник подготавливает дорогу для восходящих душ. В зависимости от степени духовности в различных системах, акцент, однако, может смещаться по нарастающей от этой мифологической функции до полностью религиозной, воплощенной в зове как таковом и учении, им передаваемом, а также в индивидуальном отклике на зов как человеческом вкладе в спасение. В «Евангелии Истины» Валентина все это является функцией Иисуса:
«Через себя Он просвещал тех, кто был во тьме по причине „Забвения“. Он просвещал их и указывал им путь; и этот путь есть Истина, которой Он учил их. Он был распят из-за того, что „Ошибка“ разгневалась на Него, преследовала Его, угнетала Его и уничтожила Его».
(GT 18:16-24)
В данном случае мы видим, сколько «христианских» гностиков в общем могли бы объяснить причину страстей Христовых: последние обязаны своим существованием враждебности сил низших творений (космическое начало «Ошибки» обычно персонифицировано в архонтах), ибо осуществление его миссии угрожает их власти; но часто им достаточно сказать, что страдание и смерть, которые эти силы несут Христу, вовсе не реальны.