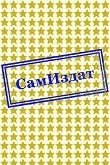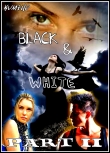Текст книги "ГНОСТИЦИЗМ. (ГНОСТИЧЕСКАЯ РЕЛИГИЯ)"
Автор книги: Ганс Йонас
Жанры:
Религиоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 24 страниц)
С тех пор, как Душа приняла это поучение через восприятие и разум, с тех пор, как она вновь обрела знание о самой себе, с тех пор она стремится к духовному миру, как человек, перенесенный в чужую страну, тоскует по своему далекому родному очагу. Она убеждена, что чтобы возвратиться к своему первичному состоянию, она должна освободиться от всех пяти мировых уз, от чувственных похотей, от всех материальных вещей"
(Chwolson, "Die ssabier, II, с. 493).
Хотя заключительная часть этого фрагмента относится к душе человеческой (ведь именно в человеке мировая душа наделена разумом и восприятием), начальная часть ясно говорит о Душе универсальной, падение которой является причиной появления мира.
Наиболее же оригинальной нам кажется третья версия, так как она подразумевает идею субстанциональности образа, отражения или тени, составляющего здесь действительную часть первичного бытия, от которого он был отделен. Мы должны признать этот символизм убедительным для тех, кто с его помощью хотел выразить решающую фазу божественной драмы. Именно так используют его в своих рассуждениях сетиане (Hippol. V. 19), ператы (там же, 12), гностики, с которыми полемизировал Плотин, а также творцы системы, среферированной Василидом, который называл их варварами, имея в виду, очевидно, персидских мыслителей (Act. Arch. 67. 5). Главная идея, общая для всех этих доктрин, следующая: Свет по сути своей освещает Тьму. Это частичное ее освещение можно или сравнить с действием какого-то луча, то есть оно является распространением ясности как таковой, или же, если оно происходит от индивидуального божьего существа (как, например, София или Человек), оно имеет характер существа, посланного в темное место и проявляющегося там как образ или отражение того, что есть божье. В обоих случаях, хотя и не дошло до настоящего снисхождения или падения божественного оригинала, какая-то часть его субстанции погрузилась в низший мир, и Тьма считает ее драгоценной добычей; так непадшее божество вовлеклось в дальнейшую судьбу этой эманации. Тьма охвачена жаждой ясности, появившейся в ее глубине или на поверхности первобытных вод, и, пытаясь полностью смешаться с ней и задержать ее навсегда, тянет ее вниз, поглощает ее и разделяет на бесконечное количество частей. С этого момента высшие силы стараются возвратить эти затянутые частицы Света. С другой стороны, низшие силы в состоянии сотворить этот мир именно благодаря этим частицам. Их первоначальная добыча остается в форме «искр», то есть индивидуальных душ, рассеянных по целому творению. В несколько более рафинированной версии этой идеи низшие силы творят мир или человека с помощью спроецированного образа божественной формы, то есть как имитацию божественного оригинала; но поскольку таким способом в материю Тьмы внедряется также божественная форма, а «образ» рассматривается как действительная часть самого божества, результат получается таким же, как и в случае, когда этот процесс описывается более грубо как поглощение и разложение божественной субстанции. Во всяком случае этот комплекс представлений не видит причины божьей трагедии ни в вине мира высшего, ни в агрессии, идущей снизу. Еще у Плотина одно только плывущее с неизбежной необходимостью излучение Света и его отражение в форме образов, создаваемые новыми ипостасями собственного бытия, составляют первую метафизическую категорию, воздействующую на его общую онтологическую схему. Особенно когда речь идет о связи высшей и низшей душ, он объясняет в том же контексте, в котором он ссылается на платоновское сравнение с видом морского бога Главкоса, что стремление Души, обращенное вниз, есть не что иное, как освещение того, что находится ниже ее, посредством которого появилось eidolon, отражение, то есть подверженная страстям низшая душа; но первичная Душа в действительности никогда не снизошла вниз (Эннеады 1.1. 12). Сторонниками удивительно похожей доктрины были те же гностики, против которых так резко выступил Плотин:
«Тогда поговаривают сначала, что „опустилась“ душа и какая-то „мудрость“ [sophia – Плотин не уверен, является ли она чем-то другим, или тем же, что и душа]... иные души сошли вместе с ней и суть „члены мудрости“, о них говорят, что они облачились в тела... и далее еще говорят, что та, для которой и они сошли, вовсе не „сошла“, то есть вроде как „не опустилась“, а только „рассветила“ тьму, а далее оттуда появился образ (eidolon) в материи, а затем, придумав образ того образа, более или менее здесь, по причине „материи“ или „материальности“... – „родят“ так называемого у них „творца“ [Демиурга] и, сделав его враждебным матери отщепенцем, вкладывают ему в уши, что мир есть от него, мир на последней ступени образов»
(Эннеады II, 10). [10]
Главная и действительно решающая разница между гностиками и Плотином в этом вопросе состоит в том, что когда первые оплакивают «сошествие», вызванное отраженным образом, как причину божьей трагедии и муки, Плотин считает ее неизбежным и положительным проявлением творческого могущества праначала. Но общей для него и для гностиков является вертикальная структура этого деления развития действительности, то есть направление вниз всякого метафизического становления, которое (направление) не может быть ничем иным, как дегенерацией.
Это появление происходящего сверху света в форме идущего снизу отражения могло также служить объяснением божьей ошибки. Вся трагедия Пистис Софии, весь ее путь, несчастье и жалость, ощущаемые в мире тьмы, имеют свой источник в первичном ее заблуждении, когда свет, который она узрела внизу, показался ей «Светом Света», по которому она тосковала и за которым сошла в глубину. Кроме того, особенно в манихейском вероучении, божье подобие часто используется Архонтами как приманка, которая должна заманить и поймать божественную субстанцию, а посланцами божества – для освобождения светлистой субстанции из рук Архонтов. Мы видим, что мотив Нарцисса, появляющийся в описании любовной ошибки Антропоса в «Поймандре», является тонкой вариацией и соединением нескольких перечисленных нами тем. Он не несет вины в такой степени, как первичная Душа, которая поддается искушению телесных наслаждений, а тем, что его увлекает вниз, является именно красота его собственной божественной фигуры, составляющей совершенное подобие наивысшего Бога. Вместе с тем он более виновен, чем Пистис София, которая стала просто жертвой обмана, ведь он хотел действовать независимо и не мог перепутать отражение, происходящее снизу, со светом Отца, от которого он сознательно отделился. И все-таки его ошибка частично оправданна по причине незнания подлинной природы низших стихий, которые частично приняли форму его собственного отражения. Таким образом, проекция его формы на землю и воду утратила характер события, в котором участвует сама субстанция, становясь в руках эллинистического автора средством скорее мотивирующим, чем осуществляющим погружение божьей эманации в низший мир.
Восхождение Души
Так вот мы дошли до этапа восхождения души посвященного после смерти – главной перспективы, вырисовывающейся пред каждым истинным гностиком или пневматиком, в ожидании которой он проводит свою жизнь. После того, что мы услышали на тему распространенных доктрин, связанных с астральным нисхождением души, содержащееся в "Поймандре" описание восхождения не требует дальнейших объяснений: оно является его противоположностью. Но некоторые параллели и разновидности этой темы, появляющиеся в других школах гностическго умозрения, могут еще показать распространенность и большое значение этой темы во всем пространстве гностической религии. Небесное путешествие возвращающейся души является действительно одним из наиболее постоянных мотивов в довольно разных системах, а его значение для гностической мысли усиливает еще и тот факт, что он представляет существенное верование не только в гностической теории и предсказании, выражающее концепцию связи человека с миром, но оно имеет также для верующего гностика практическое значение, поскольку целью гнозиса является подготовка к этому заключительному событию, а все его этические, ритуальные и технические поучения имеют целью его успешное осуществление. В исторической перспективе мы можем даже говорить о далее идущем измерении доктрин восхождения, чем их дословное значение. В более поздней стадии "гностического" развития (хотя уже не выступающего под названием гностицизма) пространственные категории восхождения через сферы, соединенного с постепенным избавлением души от ее мировых оболочек и приобретением снова первичной внекосмической природы, могли бы быть "синтеранализированы" и нашли бы свое соответствие в психологической технике внутренней трансформации, благодаря которой человеческое Я, оставаясь в теле, могло достигнуть Абсолюта как имманентного (непрерывного) состояния, хотя и временного характера. Восходящая шкала духовных состояний заменяет этапы мистического маршрута, динамика все большего духовного преобразования себя – пространственное продирание через небесные круги. Таким способом сама трансценденция могла быть преобразована в имманенцию, а весь этот процесс мог быть одухотворен и включен в орбиту владения субъекта. Вместе с этим перенесением мифологической схемы внутрь личности, вместе с переводом его объективных этапов на субъективные фазы опыта, который может пережить Я, и кульминация которого имеет форму экстаза, – гностический миф преобразовался в (неоплатонистский и монашеский) мистицизм, и в этой новой форме он живет и дальше, через многие века после угасания первобытных мифологических верований.
В «Поймандре» восхождение описано как поэтапное оголение души, которое оставляет истинное Я «голым», как Прачеловек до своего космического падения, готовым к вхождению в сферу божественного и к новому соединению с Богом. Ранее мы встретились с альтернативной версией восхождения, в котором главным делом было не оголение души от земных наростов, а само ее прохождение через круги. Эта версия подразумевает, что восхождение начинает уже чистая пневма, свободная от земного бремени, и что правители сфер – это враждебные силы, пытающиеся воспрепятствовать ее прохождению и задержать ее в мире. В гностических произведениях есть свидетельства существования обеих этих версий. Где бы мы ни услышали о снятии одеяний, срывании пут или сбрасывании оков в ходе движения вверх – мы имеем дело с этим мотивом, знакомым нам по «Поймандру». Совокупность этих пут называется «психе»: это душа, которую снимает с себя пневма (дух) (Iren. 1. 7.1; 21,5). Таким образом, восхождение имеет не только пространственный характер, но и качественный, оно является процессом избавления от земной природы. Стоит заметить, что в некоторых культах этому венчающему процессу предшествуют ритуальные представления, которые как сакраменты должны были временно или символически привести к трансформации уже в этой жизни и обеспечить ей осуществление в жизни будущей. Так, в мистериях Митры для посвященных лиц существовала церемония прохождения через семь врат, установленных на ведущих вверх ступенях, представляющих семь планет (так называемый klimax heptapylos, Ориген, «Против Цельса», VI. 22); в мистериях Исиды такой церемониал состоял в поочередном наложении и снятии семи (или двенадцати) одежд или звериных костюмов. Результат этого длительного и иногда изнурительного ритуала назывался возрождением (palingenesia), а сам посвященный должен был вновь родиться как бог. Терминология «возрождение», «перемена» (metamorphosis), «преобразование» в связи с этими культами утвердилась как часть языка культов мистерий. Значение и употребление, которые можно было найти этим метафорам, были так широки, что их можно было приспособить к различным теологическим системам – их бросающийся в глаза «религиозный» характер был скорее общим и не сводился ни к одной из конкретных религиозных догм. Но хотя ни их происхождение, ни их использование не ограничивается до гностической понятийной структуры, для гностических целей они особенно подходили. Так называемая Литургия Митры [11]дает подробное описание такого опыта, которому предшествуют указания на тему подготовки и возбуждения визионерского состояния. (Теологическая система в этом случае имеет характер космическо-пантеистический, не дуалистический, а его целью является достижение бессмертия путем соединения с космическим началом, а не освобождение от космического ига.) Концепция более специфически гностического характера, касающаяся пути восхождения через круги, соединенного с постепенным избавлением души от всего, что не духовно, пережила долгие века в мистике и литературе. Тысячу лет спустя после создания «Поймандра» Омар Хаям писал (Рубай 31-32; подстрочное переложение по английскому переводу Фицджералда):
"Я взошел через седьмые врата от центра земли,
Я поднялся и на троне Сатурна воссел,
И многие узлы развязались на этом пути.
Но только не главный узел человеческой судьбы.
Там была дверь, к которой я не нашел ключей,
Там была завеса, за которую не проник мой взгляд,
Короткий разговор там был о «Ты» и "Я".
Но вот уж боле нет ни «Ты», ни "Я".
Иная, менее одухотворенная версия восхождения имеет более грозное выражение. Душа с тревогой ожидает встречи со страшными Архонтами этого мира, решившими сделать невозможным ее бегство. В этом случае у гнозиса два задания: с одной стороны, придать душе магический характер, который бы укрепил ее, а быть может, даже сделал бы ее невидимой для глаз чутких Архонтов (осуществление этой цели могут обеспечить исполняемые в этой жизни сакраменты); с другой стороны, наделить душу знанием имен и эффективных формул, благодаря которым она сможет проложить себе путь, – «знание» этого рода является одним из значений термина «гнозис». Нужно познать тайные имена Архонтов, ведь это незаменимое средство победы над ними, – языческий автор Цельс, писавший на тему этих верований, высмеивает тех, кто «плохо запомнил имена стражей врат» (Ориген, «Против Цельса», VII. 60). Тогда как эта часть «гнозиса» имеет чисто магический характер, формулы, которые должны быть употреблены против Архонтов, проявляют существенные аспекты гностической теологии. В гностическом Евангелии Филиппа Эпифаний приводит следующие слова:
«Господь открыл мне, что должна сказать входящая в небо душа и как она должна отвечать каждой из высших Сил: „Я познала себя и собрала отовсюду свои рассеянные частицы и не выдала потомства на паству Архонта, а вырвала его корни и собрала рассеянные члены. И я знаю, кто ты есть, ибо я происхожу от тех, которые суть вверху“. Таким способом она будет освобождена».
(Epif. Наеr. 26. 13)
В своем ценном сообщении на тему офитов Ориген приводит полный список орфических ответов, которые нужно дать у «запертых на века врат, над которыми властвуют Силы ангелов-Управителей». Два из них мы хотим сейчас процитировать.
К Ялдаваофу, «первому и седьмому», офиты должны обращаться так:
«...Тебе, который есть первый ум чистоты и мудрости и совершенное творение Отца и Сына, жертвую символ жизни, оттиснутый твоей печатью, и открыв миру врата, которые ты закрыл в своем вечном бытии, снова свободный, я прохожу через твое государство. Удели мне ласку, Отче, да, удели мне ласку».
К Саваофу:
«Правитель пятой силы, господин Саваоф, защитник права, данного вещам, сотворенным тобою и освобожденным по милости, могущественная Пентада, видя безупречный символ своего искусства, оттиснутый в форме этого узора, пропусти меня...»
(Ориген, «Против Цельса», VI. 31)
Эти формулы имеют силу магических заклинаний. А чем же руководствуются Архонты, пытающиеся воспрепятствовать уходу душ из мира? Эпифаний представляет гностический ответ на этот вопрос следующими словами:
"Они говорят, что душа есть пища Архонтов и Сил, и что она им необходима для жизни, ибо она происходит от падающей сверху росы и дает им силу. Когда владеет знанием... вступает в небо и отбивает всякую силу, и таким образом выходит выше их к существующим вверху Матери и Отцу вселенной, откуда снизошла в этот мир".
(Epif. haer. 40. 2)
Первоначала
О том, насколько злыми являются Управители, в "Поймандре" не говорится ничего, хотя само подчинение им, называемое Судьбой, отчетливо воспринимается как несчастье Человека и нарушение его первичной независимости. Здесь возникает вопрос о теологическом качестве сотворения, а потому мы доходим до загадочной первой части видения, где речь шла о начальных фазах космогонии. Часть откровения, предшествующая рождению Человека (4-11), в свою очередь, делится так: непосредственное видение первой части космогонии, предшествующее фактическому сотворению (4-5); объяснение его содержания Поймандром (6); возвращение к видению и его завершение, открывающее сверхчувственный мир в Боге, согласно которому был сотворен мир чувственный (7). С этого момента видение переходит в слушание, то есть история настоящего сотворения рассказывается Поймандром уже просвещенному слушателю при использовании слов. Параграф 8 говорит о происхождении стихий: отношение этой науки к первой фазе видения (4-5) составляет загадку, которой мы должны заняться в первую очередь. Параграфы 9-11 говорят о рождении Демиурга первым Богом, о формировании им семи планетарных Сил и их кругов, о приведении его системы в движение и сотворении в результате ее кругового движения неразумных творений из низших стихий. Из событий, наступивших после появления Демиурга в теологической схеме, требует выяснения только взлет Слова от Природы к наивысшей сфере. Кроме этого случая нас здесь интересуют только преддемиургические фазы.
Прежде всего обратим внимание на визуальное содержание начального откровения, которое делает наблюдателя свидетелем праначал. Божественный Свет и страшная, напоминающая змия, Тьма как первоначала являются для читателя этой книги уже чем-то знакомым. Однако в образе, находящемся перед нами, следует обратить внимание на две черты. Первая из них – это то, что поле видения первоначально должно состоять только из света, и только «вскоре» в одной его части появилась тьма, растягивающаяся вниз; единственный вывод, который мы можем из этого извлечь, состоит в том, что эта тьма не является первоначалом и современницей света, а что она каким-то образом из него выводится. Другой характерной чертой является таинственное замечание, что из этой тьмы доносился какой-то скорбный жалостный крик. Вскоре мы коснемся вопросов, возникающих в связи с этими фактами.
Глагол как первая отдельная ипостась наивысшего Нуса выходит из божественного Света и «нисходит» к влажной природе: из дальнейшего развития событий мы делаем вывод, что это «нисхождение» следует понимать как внутреннее соединение с влажной природой, в котором Глагол остается вплоть до момента, когда деятельность Демиурга приведет к новому разделению. Пока что итогом присутствия Глагола в темной природе является ее разделение на стихии более легкие и более тяжелые (в отношении земли и воды это разделение еще не завершено, они будут разделены позже, в демиургической фазе): эта деятельность, состоящая в разделении хаотической материи, составляет главную космогоническую функцию Логоса (Глагола). Но чтобы удержать это разделение до момента его окончательной фиксации Творцом (Демиургом), Логос должен остаться внутри так разделенной природы. Логос отчетливо является здесь принципом порядка в греческом смысле, но одновременно он является божественным бытием, и как таковой непосредственно включен в то, на что он воздействует.
В параграфе 7 наблюдатель, которому приказано внимательно всматриваться в свет, замечает в нем несчетное количество Сил и открывает, что он (свет) является не однородным пространством, а организованным в космос, о котором Поймадр говорит, что он составляет образец реального мира. Одновременно наблюдатель видит огонь, «окруженный превеликой силой», причем этой силой может быть только Логос, поддерживающий изнутри [12]отделенные стихии на их местах, огонь же является внешней оболочкой, появившейся благодаря тому, что он вырвался вверх из влажной природы. Согласно этому объяснению начало второго видения представляется не новой фазой космогонического процесса, а только воспроизведением первой на высшем уровне понимания; и если наша гипотеза верна, то она имеет решающее значение для интерпретации следующего, во многих отношениях таинственного параграфа.
Подобно тому как в параграфе 7 наблюдатель узнает больше о свете, который он видел ранее, в 8-м он спрашивает и получает объяснение, касающееся чего-то, что составляло видимое содержание первого видения, то есть происхождения стихий. На вопрос «из чего они возникли?» следует ответ: из влажной природы, благодаря разделяющему действию Глагола, а влажная природа – если идти дальше – возникла из вызывающей отвращение тьмы, которая в нее переменилась; тогда остался бы еще следующий вопрос: откуда взялась эта тьма, если она не существовала всегда? (Ведь из первого видения мы знаем, что вечно она не существовала.) Это действительно вопрос вопросов, которым должен заняться каждый неиранский гностический дуализм, а ответ на него составляет главное содержание учений валентинианского типа. Их общим тезисом является то, что существующий раздел действительности должен быть объяснен каким-то разрывом или процессом потемнения, происходящим внутри божества. Видно, что все другие объяснения еще более замазывают смысл проблемы; я здесь предлагаю как тезис, что введенная в этом параграфе и бесповоротно оставленная Boule (Воля) Бога составляет альтернативу для стиксовой Тьмы первого видения, и как таковая составляет изолированный фрагмент умозрения сирийского типа, который каким-то образом проник в «Поймандр». Мое утверждение обосновывает прежде всего роль Логоса в обоих случаях. Подобно тому, как влажная природа разделяется на стихии после того, как «к ней спустился» Логос, женская Воля Бога, «взяв» в себя Логос, организовывает себя «согласно своим собственным стихиям». В последнем случае дополнительной чертой является то, что Воля приводит себя в порядок, «наследуя» архетипический порядок, увиденный ею благодаря Логосу; это значит, что Boule является фактором более независимым, чем влажная природа из первого видения. Кроме стихий, которых касался вопрос, упоминается также психическое «потомство» Boule, являющееся, вероятно, частью ее вклада в будущее творение. Обе эти черты придают ей заметное родство с фигурой Софии сирийского гнозиса. Иными словами, Boule составляла бы какую-то версию этой проблематичной, допускающей крайнюю деградацию божьей личности, и с этой версией мы впервые встретились у Симона Волхва в лице его Эннои [13].
Значение выражения «она взяла Логос» является ключевым в предлагаемой идентификации Boule с «влажной природой». К счастью, то же самое выражение повторяется в описании соединения Природы с Человеком, где оно не только имеет ярко выраженное сексуальное значение, но и развивается в описание того, каким образом в этом соединении Природа полностью поглощает того, кого в этом смысле «берет» (14). Если именно это приключилось также со «взятым» Boule Логосом, тогда он должен, как позже Антропос, каким-то образом освободиться от этого состояния погружения. И мы фактически утверждаем, что первым следствием сферической организации макрокосмоса Демиургом является отрыв Логоса от низшей Природы вверх, к находящемуся в наивысшем кругу родственному духу. И этот результат деятельности Демиурга в наивысшей степени согласуется с доктриной, наиболее выдающимся представителем которой является манихеизм, но которую можно встретить везде в гностицизме. Она гласит, что упорядочение космоса имело целью получение божественного начала, плененного на докосмической стадии. Не могу противостоять впечатлению, что все это ставит женскую «Волю Бога» на позицию «влажной природы»: именно первой Логос был «взят» в том смысле, который придает этому слову наш трактат, зато выскакивает вверх из последней к родственной структуре Вселенной – потому само ее построение имеет характер первичного «избавления».
В «Поймандре» автор едва допустил следы этой доктрины. В контексте самого «Поймандра» освобождение Логоса сотворением Демиурга можно прекрасно истолковать как следствие факта, что вместе с появлением четкой и постоянной организации космоса его присутствие в низшей Природе с целью разделения ее стихий уже не обязательно, и можно сказать, что он скорее был освобожден от исполнения задания, чем вызволен из оков. Но остается факт, что его единение с Boule терминологически отвечает единению Человека с Природой, и что говорится даже о «потомстве» от этой связи – о «душах» как творениях Boule (удивительное подобие того, что говорили валентиниане на тему Софии). Если мы сейчас снова всмотримся в эти две фигуры, которые мы считаем альтернативными версиями одного метафизического принципа, – Boule Бога и первичную Тьму, – то заметим такую трудность, что некоторые из атрибутов последней (такие, как страшный вид, ненависть, сходство со змием) подходят только первичной антибожьей Тьме иранского типа, а не божественной Софии, пусть даже покрытой мраком и отделенной от своего источника. Но достойно внимания также то, что эта Тьма появляется только после Света и должна была из него возникнуть (в противоположность тому, что гласит иранский тип), а кроме того, что эта Тьма «стенает»: обе черты более близки скорее к рассуждениям на тему Софии, чем к первичному дуализму.
Таким образом, в тексте «Поймандра» мы находим, скорее как обособленный акцент, чем как отдельную тему произведения, слабый отголосок умозрения того типа, которое мы представим ниже.
Глава 8
ВАЛЕНТИНИАНСКОЕ УМОЗРЕНИЕ
(a) ВАЛЕНТИНИАНСКИЙ ПРИНЦИП УМОЗРЕНИЯ
Валентин и его школа представляют кульминацию развития направления, который мы назвали в нашем исследовании сирийско-египетским типом гностического умозрения. Характерный для него подход заключается в попытке разместить источник тьмы, а, следовательно, и дуалистического разрыва бытия, в пределах самого божества, и таким образом развернуть божественную трагедию, вытекающую из нее необходимость спасения и динамику самого этого спасения в виде последовательности внутрибожественных событий. Разумно понимаемый, этот принцип включает задачу отделения не только таких духовных фактов, как страсть, невежество и зло, но и истинной природы материи, в ее противоположности духу: ее истинное существование рассматривается с точки зрения божественной истории как таковой. И это воплощено в ментальных терминах; и боле точно во взгляде на природу конечного результата творения как на божественную ошибку и неудачу. Таким, образом, материя проявляет себя скорее как функция, нежели субстанция, утверждение или "привязанность" абсолютного бытия, а также как застывшее внешнее выражение этого бытия: ее внешняя стабильность поистине ничто, будучи остаточным продуктом нисходящего движения внутренней природы, она представляет собой самый нижний предел влияния изъяна в Божестве, как бы фиксируя его.
Теперь независимая от теоретического интереса религиозная значимость успешного выполнения этой умозрительной задачи заключается в том, что в подобной системе «знание» наряду с его отсутствием, «невежеством», восходит к онтологической позиции первого порядка: оба являются принципами объективного и общего существования, а не просто результатом субъективного и частного опыта. Их роль конструктивна для реальности в целом. Результат божественного погружения в нижний мир – «невежество» – здесь представляется не бытием, что обычно в гностической мысли, а скорее первопричиной того, что вообще произошло в нижнем мире, его порождающим началом в той же степени, что и составляющей его субстанцией: однако наличествуют многочисленные промежуточные стадии, через которые материя, представляющаяся конечной, связана с одним высшим источником, в ее существовании отражается затемненная и самоотчуждающаяся форма того, чему она противоположна – невежество, ее основополагающая причина, рассматривается как затемненная форма его противоположности, знания. Знание является изначальным условием Абсолюта, первичным явлением, а незнание не просто нейтральным отсутствием его в субъекте, не относящимся к знанию, но происходящим нарушением, частью Абсолюта, идущей от его собственных побуждений, где в результате возникает негативное условие, все еще связанное с изначальным условием знания, представляющее утрату или искажение последнего. Оно является, следовательно, производным положением, подлежащим вследствие этого отмене наряду с его внешним выражением, или гипостатизированным продуктом: материальностью.
Но если это – онтологическая функция «неведения», тогда «знание» также предположительно имеет онтологический статус, далеко превосходящий любую простую нравственную или психологическую значимость; и призыв к искуплению, сделанный в его интересах во всей гностической религии, получает здесь метафизическое обоснование в учении об общем существовании, которое делает его единственно убедительным и достаточным средством спасения, и это спасение в каждой душе – космическое событие. И если не только духовное условие существования человеческой личности, но также истинное существование вселенной обусловлено результатами неведения и воплощением неведения, тогда любое личное вдохновение «знанием» помогает снова разрушить общую систему, основанную на этом принципе; и как таковое знание, наконец, переносит саму личность в божественную сферу, оно также играет свою роль в воссоединении частей ослабленного божества.
Таким образом, этот тип решения теоретической проблемы первых начал и причин дуализма мог бы удачно обосновать абсолютную позицию гносиса в сотериологической схеме: будучи определенным условием спасения, все еще требующим сотрудничества с таинствами и божественной благодатью, будучи средством средств, он как таковой становится адекватной формой спасения. Здесь нашло воплощение изначальное стремление всей гностической мысли. Знание не только действует на познающего, но и сознает самое себя; и каждым «частным» актом познания объективная основа бытия сдвигается и изменяется; субъект и объект одинаковы по сути (хотя не измеряются по одной шкале) – существуют принципы мистической концепции «знания», которые еще могут иметь рациональную основу в соответствующих метафизических посылках. Гордые тем, что их система, в сущности, действительно дает решение умозрительной задачи, понимаемой таким образом, и действительно предлагает теоретическую основу для утверждения мистической достаточности «гносиса самого по себе», валентиниане могли сказать, отвергая все мистические ритуалы и таинства: