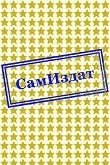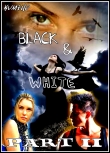Текст книги "ГНОСТИЦИЗМ. (ГНОСТИЧЕСКАЯ РЕЛИГИЯ)"
Автор книги: Ганс Йонас
Жанры:
Религиоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 24 страниц)
Этика
Обладатели гносиса – пневматики, как они себя называли, – отделяются в этой жизни от основной массы человечества. Непосредственное вдохновение делает личность повелителем не только в сфере познания (отсюда безграничное разнообразие гностических учений), но обуславливает также сферу действий. В целом пневматическая мораль определяется враждебностью к миру и презрением ко всем мирским связям. Из этого принципа, однако, можно вывести два противоположных вывода, и оба находят свое крайнее выражение в форме аскетизма или аморальности. Первый выводит из обладания гносисом обязательство избегать дальнейшего осквернения миром и, следовательно, ослабить контакты с ним до минимума; второй извлекает из такого же обладания право на абсолютную свободу действий. Позже мы обратимся к сложной теории гностической аморальности. В этом предварительном обзоре будет достаточно сделать несколько замечаний. Закон «Ты должен» и «Ты не должен», провозглашенный Создателем, является еще одной формой «космической» тирании. Санкции, налагаемые за грех, действуют только на тело и душу. Так как пневматик свободен от гемармена, он свободен и от ига морального закона. Для него все дозволено, так как пневма «спасена в его естестве» и не может быть ни запятнана его действиями, ни испугана угрозой возмездия архонтов. Пневматическая свобода, однако, не просто предмет безразличного дозволения: через намеренное нарушение демиургических норм пневматик разрушает замысел архонтов и парадоксальным образом способствует делу спасения. Эта антиномическая аморальность выражается более отчетливо, чем аскетическая версия, в нигилистическом элементе, который содержится гностическом акосмизме.
Даже читатель, незнакомый с предметом, сделает из предшествующего отвлечения вывод, что все вершины концептуализации гностической теории, достигнутые отдельными мыслителями, являются неразрывной мифологической сутью гностической мысли как таковой. Отдаленный от разреженной атмосферы философского размышления, он двигается в более плотную среду образности и персонификации. В следующих главах мы наполняем рамки нашего обобщенного сообщения материей гностической метафоры и мифа, а с другой стороны, представляем некоторые разработки этого базового понятия в умозрительных системах мысли.
Глава 3
ГНОСТИЧЕСКАЯ ОБРАЗНОСТЬ И СИМВОЛИЧЕСКИЙ ЯЗЫК
При первой встрече с гностической литературой читатель будет поражен определенными повторяющимися словами и выражениями, которые, благодаря присущими им качествами, даже за пределами расширенного контекста, открывают основной опыт, способ чувствования и видение реальности, четко характеризующие гностический ум. Эти выражения колеблются от единичных слов с символическими аллюзиями до расширенных метафор; и их неотъемлемое красноречие, часто усиливающее их первоначальный смысл, значит больше, чем частота их появления. Преимущество такого подхода проявляется в том, что он сталкивает нас с уровнем высказывания более фундаментальным, чем содержащие доктрину дифференциации, в которых гностическая мысль отделялась от завершенных систем.
Особенно богатой в отношении самобытного творчества, демонстрирующей отличительный знак гностического ума с впечатляющей силой, является мандейская литература. Это богатство выразительных средств являлось лицевой стороной ее по меньшей мере бедности с теоретической стороны; это также связывается с тем фактом, что вследствие своей географической и социальной отдаленности от эллинистического влияния мандеи были в меньшей степени подвержены искушению уподобить выражение своих мыслей западным интеллектуальным литературным условностям. В их трудах изобиловали мифологические фантазии, сжатость их образности не истощалась никакими стремлениями к концептуализации, разнообразие не связывалось заботой о логичности и системности. Хотя это отсутствие интеллектуальной дисциплины часто делало утомительным чтение их изобиловавших повторами громадных произведений, пропитавшая их безыскусная красочность мифологического видения предоставляла достаточную компенсацию; и в мандейской поэзии гностическая душа выплескивает свою муку, ностальгию и облегчение в бесконечном потоке мощного символизма. В соответствии с целями этой главы мы подробно опишем его источники, не стремясь преувеличить важность мандеизма в общей картине гностицизма.
(a) «ИНОЕ», «ЧУЖДОЕ», «НЕ ОТ МИРА»[2]
"Во имя великого начала иной Жизни из миров света, того высшего, что стоит прежде всех век": это стандартное начало мандейских произведений, и "иная" – постоянный атрибут "Жизни", которая по природе своей не принадлежит этому миру... Цитируемая формула говорит о "начале" Жизни, что "стоит прежде всех век", т.е. прежде мира. Понятие иной Жизни является одним из самых впечатляющих слов-символов, с которыми мы сталкиваемся в гностической речи, и оно является новым и в общей истории человеческой речи. У него есть эквиваленты во всей гностической литературе, например, в представлениях Маркиона о "другом Боге", или просто "Ином", "Неведомом", "Неименуемом", "Скрытом"; к ним относится и "неведомый Отец" многих христианско-гностических произведений. Его философским двойником служит "абсолютно запредельное" неоплатонической мысли. Но даже отдельно от этих теологических употреблений, где оно является одним из предикатов Бога или высшего Бытия, слово "иной, отличный" (и его эквиваленты) имеет собственное символическое значение как выражение фундаментального человеческого переживания, которое лежит в основе различных употреблений данного слова в теоретических контекстах. Что касается фундаментального переживания, выражением которого служит словосочетание "иная жизнь", то оно представляется вполне самоочевидным.
«Иная жизнь» происходит откуда-то из другого мира и не принадлежит этому. Для тех же, кто ему принадлежит, она представляется странной, незнакомой и непостижимой; но сей мир, в свою очередь, также непостижим для иной жизни, которая появляется в нем, чтобы обитать здесь как в чужой земле, далекой от ее дома. Потому иную жизнь ожидает участь чужеземца – одинокого, незащищенного и неспособного разобраться в чужой обстановке, полной неведомых ему опасностей.
Чужеземцу суждено страдать тоской по утраченной родине. Не зная дорог чужой земли, он странствует по ней, как потерянный; освоив же их, он забывает, что он чужеземец, и теряет себя, поддаваясь соблазнам чужого мира и отчуждаясь от своих истоков. Потом он становится «приемным сыном». Это также уготовано ему судьбой. По мере отчуждения от себя страдание чужеземца проходит, но самое это отчуждение выступает кульминацией его трагедии.
Осознание своего отчужденного существования, признание своего положения изгнанием служит для чужеземца первым шагом к возвращению, а пробуждение тоски по дому – началом последнего. Все это наполняет отчуждение страданием. Тем не менее, такое обращение к истокам становится для чужеземца точкой отсчета нового опыта, источником силы и тайной жизни, неизвестной и совершенно недоступной его окружению, ибо для созданий этого мира она непостижима.
Это превосходство чужеземца, которое, хотя и скрыто, отличает его даже здесь, и чревато возможностью триумфального возвращения в его природную сферу, пребывающую вне мира сего. С этой точки зрения чуждость миру означает отстраненность, недосягаемость и величие. Ибо она, как таковая, совершенно трансцендентна, то есть лежит «за пределами» Всего, будучи несомненным атрибутом Бога.
Обе стороны представлений о «чужом», позитивная и негативная, – чуждость миру как превосходство и как страдание, как привилегия отстраненности и как удел вовлеченности, – используются в приложении к одному и тому же предмету, «Жизни». «Великое начало иной Жизни» отражает позитивную сторону этих представлений: она «за пределами», «прежде мира», «в мирах света», «в плодах величия, при дворах света, в доме совершенства» и так далее.
В своем оторванном от истоков существовании в мире оно участвует в трагическом взаимопроникновении обеих сторон; и осуществление всех особенностей, обрисованных выше, в драматической последовательности, обусловленной темой спасения, составляет метафизическую историю света, изгнанного из Света, жизни, изгнанной из Жизни и заброшенной в мир, – историю отчуждения и возвращения, «дороги» вниз, через нижний мир, и последующего восхождения. Согласно различным стадиям этой истории, выражение «не от мира» или его эквиваленты может встречаться в разнообразных сочетаниях, таких, например, как «моя пришлая душа», «мое сердце устало от мира», «моя одинокая лоза». Они относятся к человеческому состоянию, тогда как «пришлый человек» и «чужеземец» относятся к вестнику из мира Света – хотя к нему приложимы и термины первой группы, как мы увидим, когда будем обсуждать «спасение спасителя».
Поэтому косвенно понятие воистину «иного» включает в себя все аспекты значений, которые описывают его на различных этапах «пути» вниз и обратно. В то же время оно самым непосредственным образом выражает фундаментальный опыт, наличие которого и привело к появлению этой концепции «пути»: опыт переживания чуждости и запредельности. Мы можем, следовательно, определить образ «иной Жизни» не от мира сего как первичный символ гностицизма.
(b) «ПОТУСТОРОННЕЕ», «ВНЕШНЕЕ», «СЕЙ МИР» И «МИР ИНОЙ»
Другие термины и образы органично связаны с этим центральным понятием. Если "иная Жизнь" изначально чужда миру, то обитель ее находится "вне" его или "за" его пределами. "За пределами" здесь означает: за пределами всего, что является космосом и небесами, включая различные сферы светил. {пропуск} понятие об абсолютном беспредельном "все" превращает мир в закрытую предельную систему, которая ужасает своей безбрежностью и содержанием тех, кто потерялся в нем, и чей горизонт ограничен тотальными рамками его бытия. Это – система сил, демоническая сущность, насыщенная личными стремлениями и гнетущими силами. Напротив, ограничение, налагаемое представлениями о "пределах мира", лишает его претензии на тотальность.
Постольку, поскольку «мир» означает «все», общую сумму реальности, существует только «данный» мир, и дальнейшие рассуждения на сей счет были бы бессмысленны; если же «все» исчерпывается космосом, и если космос ограничен чем-то совершенно «иным», также, по-видимому, реальным, то он должен быть определен как «этот» мир. Все, что связано с человеческим земным существованием, находится в «этом мире», относится к «этому миру», которому противостоит «миру иной», обитель «Жизни». Однако при взгляде из-за пределов и в глазах обитателей миров Света и Жизни этот наш мир, выглядит как «мир иной». Указательное местоимение, таким образом, стало уместным добавлением к термину «мир»; и данное словосочетание снова оказывается фундаментальным лингвистическим символом гностицизма, тесно связанным с первичным кругом понятий «чуждого-иного».
(c) МИРЫ И ЭОНЫ
При таком подходе слово "мир" приходится использовать во множественном числе. Выражение "миры" обозначает длинную цепочку подобных близких сфер действия сил, разделение большей космической системы, через которую Жизнь проходит своим путем, и каждый из миров ей в равной степени чужой. Только потеряв свой статус тотальности, становясь обособленным и в то же время демоническим, понятие "мир", действительно, начинает допускать множественность. Мы могли бы также сказать, что "мир" означает совокупность в большей степени, чем единство, демоническую семью более чем уникальную личность.
Множественность означает также запутанность мира: в мирах душа теряет свой путь и скитается, повсюду она ищет избавления, но лишь переходит из одного мира в другой, являющийся таким же миром. Это множество демонических систем, в которые изгнана неспасенная жизнь, является темой многих гностических учений. С «мирами» мандеизма соотносятся «эоны» эллинистического гностицизма. Обычно их семь или двенадцать (согласно количеству планет или знаков зодиака), но в некоторых системах множественность быстро увеличивается до ошеломляющих и ужасающих величин, доходя до 365 «небес» или неисчислимых «пространств», «мистерий-таинств» (здесь в топологическом значении) и «эонов» из «Pistis Sophia». Через все эти эоны, знаменующие многочисленные ступени удаления от света, «Жизнь» должна пройти для того, чтобы вернуться домой.
«Ты видишь, о дитя, через сколько тел, сколько рядов демонов, сколько переплетений и поворотов судьбы мы должны проложить себе дорогу для того, чтобы устремиться к одному единственному Богу».
(С.Н. IV. 8)
Это понятно даже там, где нарочито не утверждается, что роль этих вмешивающихся сил является враждебной и препятствующей: с точки зрения пространственной, они символизируют в то же время антибожественные и лишающие свободы силы этого мира.
«Дорога, которой мы должны пройти, длинна и бесконечна»
(G 4337)
;
«Как широки пределы этих миров тьмы!»
(G 155)
;
Однажды заблудившись в лабиринте зла,
Несчастная [Душа] не находит дороги назад...
Она ищет спасения из мучительного хаоса
И не знает, как пройти через это".
(«Псалом Души» наассенов, Hippol. V. 10. 2)
Независимо от любых персонификаций, все пространство, в котором обнаруживается жизнь, имеет злобный духовный характер, и сами «демоны» представляют столько же пространственных сфер, сколько существует их самих. Преодолеть их – то же самое, что и пройти через них; сломав границы, этот проход в тот же миг сломает их власть, и таким образом достигается освобождение от магии их сферы. Поэтому даже в своей роли спасителя Жизни душа, как говорится в мандейских трудах, «скитается по мирам»; Иисус говорит в «Псалме Души» наассенов: «Все миры, что я прошел, все таинства, что я открыл».
Это – пространственный аспект данной концепции. Не менее демоническим является временнОе измерение существования Жизни в этих пространствах, которое также представлено рядом квази-персональных сил, «эонов». Его особенность, подобно мировому пространству, отражает фундаментальный опыт переживания себя изгнанником в чуждом себе мире.
Здесь мы также встречаемся со множественностью, которую мы наблюдали ранее: целая вереница столетий простирается между душой и ее целью, и их среднее число выражает влияние, которое космос как принцип имеет на своих пленников. Здесь снова избавление достигается только прохождением через все. Поэтому путь спасения проходит через временной ряд «поколений»: через цепочки бесчисленных поколений запредельная Жизнь входит в мир, проживает в нем и выдерживает кажущуюся бесконечной длительность; и только пройдя через этот длинный и запутанный путь, утратив и вновь обретя память, она может завершить свою судьбу.
Это объясняется выразительной формулой «миры и поколения», которая постоянно встречается в мандейских трудах: «Я скитался по мирам и поколениям», говорит Спаситель. Для неспасенной души (которая может стать сама своим спасителем) эта временная перспектива является источником мучений. Ужас перед безбрежностью космического пространства сочетается с ужасом перед временем, и все это нужно выдержать: «Как много я уже вытерпел и как долго пребываю в мире!» (G 458).
Этот двойственность космического ужаса, пространственная и темпоральная, хорошо выражена в сложном значении адаптированного гностицизмом эллинистического понятия «эон». Первоначально понятие времени (времени жизни, протяженности космического цикла, вечности) в до-гностической эллинистической религии подверглось персонификации – возможно, адаптация персидского бога Зервана – и стало объектом поклонения, впоследствии с некоторыми внушающими страх ассоциациями. В гностицизме оно обретает дальнейшую мифологическую форму и становится названием целого класса божественных, полубожественных и демонических существ. В последнем случае под «Эонами» подразумеваются как темпоральные, так и пространственные демонические силы вселенной или (как в «Pistis Sophia») царства тьмы во всей их чудовищности. Их крайняя персонификация может иногда уничтожать первоначальный временной аспект данного понятия; но при частом сравнении «эонов» с «мирами» этот аспект сохраняется как часть значения, став более изменчивым через направления мифологического воображения.
Чувство, вызванное временным аспектом космического изгнания, находит свое волнующее выражение в таких словах:
"В этом мире [тьмы] я пребываю тысячи мириадов лет,
и никто не узнал, что я был там...
Год за годом и поколение за поколением я был там,
и они не узнали, что я обитал в их мире".
(G 153 f.)
Или (из тюркского манихейского текста):
«Теперь, о наш милосердный Отец, бесчисленные мириады лет прошли с тех пор, как мы отделились от тебя. Твое возлюбленное сияющее живое лицо стремимся мы узреть».
(Abh. D. Pr. Akad. 1912, р. 10)
Неизмеримая длительность космического изгнания в сочетании с умножением размеров космических пространств – это пропасть, отделяющая жизнь от Бога; и демоническая особенность этих пространств состоит в том, что они рассчитаны на сохранение этого отделения.
(d) ЖИЛИЩЕ КОСМОСА И ВРЕМЕННОЕ ОБИТАНИЕ В НЕМ ЧУЖЕЗЕМЦА
Представляющийся нам бескрайним мир был для гностиков тюремной камерой, в которую заключена жизнь; Маркион презрительно именовал ее haec cellula creatoris – "такой себе каморкой творца". "Входить" и "выходить" – стандартные фразы в гностической литературе. Таким образом Жизнь или Свет "вошли в этот мир", "странствуют здесь"; они "покидают мир", они могут оставаться "на внешнем краю миров" и отсюда – "извне" – "взывать" к миру.
Мы позже будем рассматривать религиозную значимость этих выражений: в настоящее время мы занимаемся символической топологией и непосредственным красноречием образности.
Пребывание «в мире» называется «обитанием», мир как таковой – «жилищем» или «домом»; в противоположность светлым жилищам существует «темное», или «низкое» жилище, «дом смерти».
Представление о «жилище» имеет два аспекта: с одной стороны, оно подразумевает врЕменную структуру, нечто условное и потому подлежащее отмене – жилище можно сменить на другое, его можно покинуть и даже оставить в руинах; с другой стороны, оно подразумевает зависимость жизни от ее окружения – место, где проживают, решительно небезразлично для обитателя и от него зависят условия его жизни.
Он может, следовательно, только сменить одно жилище на другое; надмирные формы существования также называются «жилищами», временными местонахождениями Света и Жизни, множество которых образует собственную иерархию областей.
Когда Жизнь утверждается в мире, временная принадлежность, таким образом созданная, может привести к появлению «приемного сына» и сделать необходимым напоминание: «Ты не вернешься сюда и корней твоих не останется в мире» (G 379).
Если ударение делается на временной и преходящей природе обитания в мире на правах чужеземца, мир называется также «постоялым двором»; «держать двор» – формула, обозначающая «быть в мире» или «во плоти». Создания этого мира являются «соседями по двору», хотя их связь с ним не такая, как у гостей: «Поскольку я был один и сторонился людей, я был чужеземцем для моих соседей по двору» («Гимн Жемчужине» в Acta Thomae).
Такие же выражения можно отнести и к телу, которое, как известно, является «домом» жизни и одновременно инструментом власти мира над Жизнью, заключенной в нем.
Более точно, «покров» и «одеяние» обозначают тело как земное нахождение заключенной души; однако они также приложимы и к миру. Одеяния изготовляются и меняются, земное одеяние предназначено для этого мира.
Обращаясь к первоисточнику, мы видим, что Жизнь томится в телесных покровах:
"Я есмь Мана великой Жизни.
Кто заставил меня жить в Тибиле, кто бросил меня в телесный обрубок?"
(G 454)
"Я есмь Мана великой Жизни.
Кто кинул меня в страдание миров, кто перенес меня во злую тьму?
Так долго я терпел и пребывал в этом мире, так долго я пребывал среди деяний рук своих".
(G 457 f.)
"Горе и несчастье, я страдаю в телесных покровах, куда они перенесли и кинули меня.
Сколько еще я должен терпеть их, сколько носить их должен опять
и снова вступать в борьбу и не видеть Жизни в своем ш'кина".
(G 461)
Все эти вопросы адресуются великой Жизни:
«Почему создала ты этот мир, почему направила племена [Жизни] в него из своей середины?»
(G 437).
Ответ на подобные вопросы разнится от системы к системе: вопросы как таковые являются более значимыми, чем любая определенная доктрина, и непосредственно отражают основные человеческие условия.
(e) «СВЕТ» И «ТЬМА», «ЖИЗНЬ» И «СМЕРТЬ»
Мы должны добавить несколько слов о противопоставлении света и тьмы, которое является столь постоянной чертой при этом рассмотрении. Их символизм повсюду встречается в гностической литературе, но по причинам, которые мы обсудим позже, его наиболее выразительное и научно важное проявление мы видим в так называемой иранской ветви гностицизма, которая также является одним из компонентов мандейской мысли. Большинство следующих примеров взяты из этой области и, следовательно, принадлежат иранской версии гностического дуализма. Независимо от теоретического контекста, однако, символизм отражает универсальную гностическую поэзию. Изначальной Жизнью является "Царь Света", чей мир – "мир блеска и света без тьмы", "мир кротости без сопротивления, мир справедливости без непокорности, мир вечной жизни без разложения и смерти, мир добра без зла... Непорочный мир не смешивался со злом" (G 10).
Противопоставлением ему является «мир тьмы, полный зла... полный всепожирающего пламени... полный лжи и обмана... Мир непокорности без стойкости, мир тьмы без света... мир смерти без вечной жизни, мир, в котором добро погибает и деяния клонятся к ночи» (G 14).
Мани, который наиболее полно адаптировал иранскую версию дуализма, начинает свое вероучение, как отмечено в Fihrist, арабском источнике, следующим образом: «Два существа было в начале мира, и одно было Свет, а другое – Тьма». При этом допущении существующий мир, «этот» мир, является смешением света и тьмы, с преобладанием последней: его основная материя – тьма, с посторонней примесью света. При данном положении вещей двойственность тьмы и света соответствует двойственности «этого мира» и «мира иного», так как тьма воплощает собой всю суть и силу этого мира, который поэтому является теперь определенным миром тьмы. Уравнение «мир (космос) = тьма» является по сути независимым и более базовым, чем только что приведенная частная теория начал, и как выражение данного условия допускает широко расходящиеся типы происхождения, как мы увидим позже. Такое уравнение является символически действенным для гностицизма вообще. В «Герметическом корпусе» мы находим предупреждение: «Отвернись от темного света» (С.Н. 1.28), где парадоксальное сочетание ведет к тому, что даже так называемый свет в этом мире представляет собой по сути тьму. «Космос – обилие зла, Бог – полнота добра» (С.Н. VI. 4); и как «тьма» и «зло», так и «смерть» являются символами этого мира как такового. «Он, рожденный матерью, брошен в смерть и космос: он, возрожденный Христос, перешел в жизнь и в Восьмую [т.е. удалился от власти Семи]» (Exc. Theod. 80. 1). Поэтому мы понимаем герметическое положение, цитируемое у Макробия (Macrobius) (In somn. Scip. I. 11), что душа «проходит как через многие смерти, так и через многие сферы, сходя на землю к тому, что называется жизнь».
(f) «СМЕШЕНИЕ», «РАССЕЯНИЕ», «ЕДИНОЕ» И «МНОГОЕ»
Возвратимся еще раз к иранской концепции: представление о двух изначальных и противоположных сущностях приводит к метафоре "смешения" истока и структуры этого мира. Смешение, однако, неуравновешенно, и данный термин в сущности обозначает трагедию частиц Света, отделенных от главного тела и погруженных в чужеродную стихию.
"Я есмь я, сын кротких [т.е. существ Света].
Смущен я, и плачу я, внемлю.
Выведи меня из объятий смерти".
(Турфанский (восточно-туркестанский) фрагмент, М 7)
"Они принесли живую воду и влили ее в воду мутную;
они принесли сверкающий свет и бросили его в полную тьму.
Они принесли свежий ветер и бросили его в знойный ветер.
Они принесли живой огонь и бросили его во всепожирающее пламя.
Они принесли душу, непорочную Мана, и бросили ее в никудышное тело".
(J 56)
Смешение здесь выражается с точки зрения пяти основных стихий манихейской системы, которые, очевидно, лежат в основе этого манихейского текста.
"Ты взял сокровище Жизни и бросил его на никудышную землю.
Ты взял слово Жизни и бросил его в слово смертных".
(G 362)
"Как только появилась мутная вода, живая вода заплакала и зарыдала...
Как только он смешал живую воду с мутной, тьма вошла в свет".
(J 216)
Даже вестник покоряется судьбе смешения:
"Затем живой огонь в нем стал меняться...
Его великолепие померкло, потускнело...
Узри, как ослабело великолепие пришлого человека!"
(G 98 f.)
В манихействе учение о смешении и его двойнике несмешении формирует основу целой космологической и сотериологической системы, как будет показано в следующей главе.
Близко связанным с представлением о «смешении» является представление о «рассеянии». Если части Света или первой Жизни были разделены и смешаны с тьмой, тогда изначальное единство было расколото и перешло во множественность: осколки – это искры, рассеянные на всем протяжении творения. «Кто взял песнь хвалы, разбил ее на части и разбросал повсюду?» (J 13).
Истинное сотворение Евы и система размножения, начатая с ним, содействовали дальнейшему неограниченному рассеянию частиц света, которые поглощались силами тьмы, и отсюда возникло стремление сохранить их более надежно. Поэтому спасение включает процесс собирания, припоминания того, что было рассеяно; и спасение стремится к воссозданию первоначального единства.
"Я есмь ты, ты есмь я, где ты, там и я, во всех вещах рассеян.
И где бы ты ни был, ты собираешь меня; а собирая меня, собираешь себя".
Это «собирание себя» определяется как процесс pari passu (равный) обретению «знания», и его завершение является условием для окончательного освобождения из мира:
«Он, достигший этого гносиса и собравший себя из космоса... больше не задерживается здесь и поднимается к архонтам; и, возвестив об этом истинном подвиге, восходящая душа отвечает небесным привратникам с вызовом: Я пришла познать себя и собрала себя отовсюду...»
Из этих цитат легко увидеть, что понятие единения и объединения, подобно множественности, разнообразию и рассеянию, имеет как духовный, так и метафизический аспекты, т.е. применяется как к личности, так и ко всеобщему бытию.
Отмечается, что в высших или философских формах гносиса эти две стороны, вначале дополнявшие друг друга, пришли к более полному совпадению; более полное осознавания внутренней духовной стороны очистило метафизическую от более грубых мифологических значений, которые были изначально ей присущи. Для валентиниан, чей одухотворенный символизм поставил важную веху на пути к демифологизации, «единение» – очень точное определение того, что «знание Отца» достижимо для «каждого»:
«Это происходит посредством Единения, где каждый снова примет себя обратно. Посредством знания он очистит себя от многообразия взглядов на Единство, поглощением (пожиранием) Материи в самом себе подобно пламени, Тьмы – Светом и Смерти – Жизнью».
(GT 25:10-19)
Следует отметить, что в валентинианской системе подобное достижение приписывается гносису на основе всеобщего бытия, где «возрождение Единства» и «поглощение Материи» означает не меньше, чем действительный распад нижнего мира, т.е. сознающей природы как таковой – не благодаря воздействию внешней силы, но единственно из-за внутреннего состояния ума: «знания» на запредельном уровне. Мы увидим позже (Гл. 8), что умозрительный принцип валентинианства обосновал объективную онтологическую эффективность этого действия, на первый взгляд кажущегося очень частным и субъективным; и как их вероучение объясняет выравнивание личностного единения с переобъединением вселенной и Бога.
И всеобщий (метафизический), и индивидуальный (мистический) аспекты идеи единства и его противоположности становятся постоянной темой ряда рассуждений, уходящих все дальше от мифологии.
Ориген, чья близость гностической мысли в его системе (в свое время преданной анафеме Церковью) очевидна, рассматривал все движение действительности в категориях утраты и восстановления метафизического Единства. Но Плотин в своих рассуждениях обрисовал завершенные мистические заключения, выведенные им из метафизики «Единого против Многого».
Рассеяние и собирание – это онтологические категории действительности вообще, они существуют одновременно по образу действия каждого потенциального опыта души, и объединение в этих пределах есть союз с Единым. Поэтому оправдано появление неоплатонической структуры внутреннего подъема от Многого к Единому, этического на первых ступенях лестницы, затем становящегося теоретическим, а на кульминационной стадии – мистическим.
«Стремление восходить к себе, собирая в форме тела все свои члены, которые распались и рассеялись по многому из единства, которое когда-то изобиловало в величии своей власти. Собери вместе и объедини врожденные идеи и попытайся соединить тех, что смешались, и вытянуть на свет тех, что были темны».
(Порфирий, Ad Marcell. X)
Возможно, что через труды Порфирия эта неоплатоническая концепция объединения как принцип личной жизни пришла к Августину, в чьей энергичной субъективной манере акценты, наконец, полностью сместились от метафизического аспекта к нравственному.
«С тех пор через зло безбожия мы отделились от единой истины, и отступились, и покинули ее, и высочайший Бог рассеял нас на множество, расщепил нас на множество и расколол на множество: очевидно, что... множество должно будет воссоединиться в ропоте для прихода Единого (Христа)... и что мы, освобожденные от бремени многого, придем к Единому... и, оправданные справедливостью Единого, сделаемся Единым».
(Trin. IV. 11)
«Благодаря воздержанию собрались мы во Едино, из которого ранее распались на многое».
(Confess. X. 14; cf. Ord. I. 3)
«Рассеяние», наконец, достигло того, что мы сегодня называем экзистенциальным смыслом: мир побуждает и соблазняет души на «рассеянность» во многом, действуя через посредство ощущений тела; то есть она оборачивается психологическим и этическим концептом в пределах схемы индивидуального спасения.
(g) «ПАДЕНИЕ», «УТРАТА ПАМЯТИ», «ПЛЕНЕНИЕ»
Для процесса, посредством которого жизнь пришла в свое нынешнее состояние, существует множество выражений; большинство их описывают данный процесс как пассивный, некоторые придают ему более активную окраску. Говорится, например, о "племени душ, которое было перенесено сюда из дома Жизни" (G 24), о "сокровище Жизни, которое было принесено оттуда" (G 96) или "которое было брошено здесь".