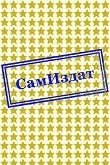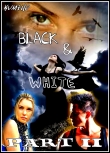Текст книги "ГНОСТИЦИЗМ. (ГНОСТИЧЕСКАЯ РЕЛИГИЯ)"
Автор книги: Ганс Йонас
Жанры:
Религиоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 24 страниц)
Тогда это и является рассказом о началах, как его видит наше произведение, и разбором основ надежды, которая одалживает значение и убедительность утверждению, сконцентрированному в «формуле». Но разве этот отчет, предназначенный для поддержки утверждения не иначе как разумного, является сам по себе разумным? Ответом, я полагаю, будет «нет»: вызывающий мысли, он непременно является и интригующим, дающим общее представление о мире значения, которое ускользает от нашего понимания, пока мы не получим посторонней помощи. Мы должны, разумеется, попытаться забыть все, что мы знали о валентинианском мифе из других источников и советоваться только с языком текста. Итак, что может неподготовленный читатель сделать с информацией о Боли, ставшей густой, подобно туману? об Ошибке, производящей «свою материю» в пустоте, «Этим», формирующим творение, производящим деяния, разгневанными т.д., со «Всем», что искали «те», кто, не зная Отца, с «Забвением», появившимся «из-за» Глубины Отца, с «Изъяном» v получившим «Форму» и «исчезнувшим» с приходом «Изобилия», когда «они» узнали Отца?
То, что могло бы сойти за ограниченное объяснение этого загадочного языка, он почти небрежно просто опускает и в основном настолько поздно вводит интерпретирующие намеки в свой текст, что мы должны читать его с конца в обратном порядке, чтобы воспользоваться ими. Таким образом мы, наконец, узнаем, что «Эоны», которые искали Его, утратили знание и достигли познания Его: но это мы узнаем на с. 24, когда однажды это существительное используется после всех предыдущих утверждений со с. 18, где снова и снова появляется необъясняемое местоимение «они», которое, в свою очередь, заменяет выражение «Все», с которого начинается рассказ на с. 17. Насколько далеко заходит само доказательство GT, мы не можем узнать до тех пор, пока это «Все» является не миром, и «они» – не люди, но оба они относятся к Плероме божественных Эонов, которые предшествовали творению. Или возьмем другой пример, мы, действительно, наконец встречаемся на той же с. 24 с ключевым словом cosmos, которое обратным действием закрепляет значение множества более ранних терминов, которые сами по себе не имеют отношения к космологии: поскольку говорится, что cosmos был «формой» (schema) «Изъяна», Изъян мы можем сравнить с «Забвением» на с. 18 (потому что он занимает последнее место в формуле), Забвение, в свою очередь, связывается с «Ошибкой» (plane) и ее творением (plasma), это, в свою очередь, с «Болью» и «Ужасом», они – снова с «Неведением» – и так вся цепочка явно психологических и человеческих понятий, через которые движется рассказ-мистерия, почти случайно удостоверяет свое космическое значение, которое к этому моменту непосвященный читатель мог бы поднять к самому божественному. Он будет еще находиться в недоумении, как практически представить эти абстракции ума и эмоций – актеров в космогонических ролях. Рассказ остается эллиптическим и иносказательным, хотя и не настолько, как при упоминании о главной dramatis personae, подобной Софии и Демиургу. Даже те скудные намеки, которые мы в состоянии тщательно собрать из текста, не являются намеками вовсе, как исход, которого ожидал читатель. Он, очевидно, рассчитывал узнать это с самого начала: термины, о которых идет речь, встречаются там, где они, действительно, появляются как нечто само собой разумеющееся.
Иными словами, предполагается, что интересующийся GT читатель стоит на знакомой почве, когда внезапно в нашем тексте он встречается с такими темными терминами, как «Боль», «Ужас» и так далее, что его знакомство вытекает из предшествующего знакомства с полной версией валентинианского мифа, который дает ему возможность читать умозрительные пассажи GT просто как сконцентрированные повторения хорошо известного учения. Итак, это решение представляет важность для истинной оценки нашего документа. Это означает, что он является не систематическим или содержащим учение трактатом – что так или иначе очевидно из его общего стиля проповеди. Далее, он является эзотерическим, адресованным посвященным: он может, следовательно, в умозрительных частях, в значительной степени обращаться к «закодированным» словам, каждое из которых – абстракция отчасти неопределенного ряда, поскольку она охватывает конкретные мифические сущности. «Истина» может по общей гностической аналогии быть даже вселенной или человеком, но в ходе развития GT космическая ссылка преобладает. То, что творит Ошибка, есть «ее собственная hyle»: почему «ее собственная»? Разве это «туман», до которого сгустилась «боль»? Из его темного воздействия (уничтожающего свет и, следовательно, видимость) Ошибка изначально «обрела силу» – отрицательную силу, т.е. «забвение». Но кроме того, что он источник, «туман» (или его дальнейшее сгущение?) может также быть материалом (hyle) для действия этой силы: если это так, то можно сказать, что «материя» является внешним, «забвение» – внутренним аспектом «изъяна», в котором воплощена Ошибка. В конечном итоге, «Изъян» представляется как мир, созданный благодаря Ошибке в «форме» (schema), в которой сила забвения, что лежит у корней жизни. Наконец, уменьшенная картина этого, следовательно, предполагает «систему» (без напоминания о Софии или Демиурге, количества и имен Эонов и т.д.), не оправдывающую предположение, что она представляет зарождающуюся, еще не разработанную, так сказать, эмбриональную стадию этого учения. Следует признать, что эта обратная последовательность, когда домифологическое, квазифилософское начало облекается в мифологию, невозможна по существу. Но то, что GT, с его свободной игрой мистическими вариациями на основную теологическую тему, его богатой, но свободно связанной и всегда гармонирующей образностью, могло принадлежать незрелой стадии валентинианства, является полностью для меня неправдоподобным. Она, скорее, представляет символизм второй стадии. Но действительно знаменательно то, что внутреннее значение учения может быть выражено, по меньшей мере для «знающих», в такой абстракции от чрезмерно персонифицированного образчика, с которым оно представлено на мифологической стадии. И это содержит ответ на вопрос: как GT способствует нашему познанию валентинианской теории?
В области рассуждений о вселенной, которой единственно я здесь занимаюсь, GT может добавить или не добавить новый вариант валентинианского учения к нескольким, известным из патристических свидетельств: любой его реконструкции из разбросанных намеков, которые дает язык текста, лучше всего оставаться высоко предположительной. Непредположительная соответствует по обрисовке и духу общему eidos'у валентинианского умозрения, и здесь GT является чрезвычайно ценным для понимания того самого умозрения, которое намного полнее представлено в более древних произведениях. Так как умозрительные отрывки GT – не просто сокращение или резюме более полной версии, они указывают, в их символическом сжатии, суть учения, обнажающую его обширные мифологические принадлежности и сводящуюся к его философской сердцевине. Следовательно, как GT может быть прочитано с помощью обстоятельного мифа, так и миф от подобного чтения высвечивает свое основное духовное значение, которое как-то маскирует плотность чувственной и непременно двусмысленной образности. В этой роли GT выступает подобно пневматическому переводу символического мифа. И что действительно бесценно: со времени его открытия мы получили в своем собственном опыте то, что сами валентиниане рассматривают как сердце своего учения, и этим сердцем сердца было утверждение, выраженное в «формуле».
Эта формула, мы считаем, была известна прежде (хотя не считалась формулой) из известного отрывка у Иринея, который мы цитировали. Сам Ириней не придает ей особенного значения: отрывок встречается в конце его сравнительных отчетов по валентинианской доктрине, среди различной дополнительной информации, которая уложена в главы (или скорее, как мне кажется, завершает их), относящиеся к маркосианской ереси, они склоняют ученых видеть в ней доктрину, специфическую для одной разновидности этого особого ответвления валентинианского дерева, а не центральную для валентинианства как такового. Несмотря на это, данный отрывок долгое время поражал изучающих гностицизм своей внутренней значимостью. Неожиданно это впечатление теперь подтверждается наиболее достоверными свидетельствами. И тогда GT (чье влияние на валентиниан должно быть значительно, если только это то «Евангелие Истины», которое приписывает им Ириней), не меньшее, чем утверждение в стольких словах той истины, что сконцентрирована в «формуле», – действительно является евангелием истины! Это предложение, о котором идет речь, имело употребительность формулы, которую мы узнали только теперь из ее повторного использования в нашем тексте. То, что ее использовали валентиниане, мы узнали от Иринея. И только валентиниане могли использовать ее законно. Поскольку ничто, кроме валентинианского учения, не предоставляет нам обоснованного контекста. Чтобы представить себе это подробнее, читатель отсылается к общей характеристике «валентинианского принципа умозрения» в начале гл. 8, которая завершается описанием того, что я называю там «пневматическим уравнением» – а именно: человечески-индивидуальное событие пневматического познания является обратно эквивалентным докосмическому вселенскому событию божественного неведения, и в своем искупительном воздействии является событием того же онтологического порядка; и потому актуализация знания в личности действует в то же время на общую основу бытия. «Формула» представляет собой точное стенографическое выражение этого пневматического уравнения, которое и является Евангелием Истины.
Глава 13
ЭПИЛОГ: ГНОСТИЦИЗМ, ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ И НИГИЛИЗМ
В этой главе я предполагаю в духе эксперимента обрисовать сравнение между двумя движениями, или позициями, или системами мысли, сильно разделенными во времени и пространстве, и, по-видимому, несопоставимыми на первый взгляд: одна из наших дней, концептуальная, изощренная и чрезвычайно "современная" (отнюдь не просто в хронологическом смысле); другая – из таинственного прошлого, мифологическая, незрелая – нечто, казавшееся причудливым даже в ее собственное время и никогда не допускавшееся в респектабельную компанию нашей философской традиции. Я утверждаю, что эти две системы имеют нечто общее, и что это "нечто" таково, что его исследование, при анализе их сходства и отличия, может привести в результате к лучшему взаимному пониманию обеих.
Говоря «взаимному», я допускаю определенную кругообразность процедуры. Мой собственный опыт может пояснить, что я имею в виду. Когда много лет назад я обратился к изучению гностицизма, я нашел, что точка зрения, оптика, так сказать, которую я получил в школе Хайдеггера, дала мне возможность увидеть те стороны гностической мысли, которые я пропускал прежде. И я был в значительной степени поражен этим знакомством, по-видимому, крайне необычным. Ретроспективно я склонен верить, что, в первую очередь, именно волнение при смутном ощущении родства завлекло меня в гностический лабиринт. Затем, после долгого путешествия по этим далеким землям, возвращаясь к моей собственной современной философской сцене, я нашел, что то, что я узнал там, заставило меня лучше понять берег, от которого я отправился. Углубленные размышления о древнем нигилизме помогли (мне по крайней мере) понять и определить роль и значение современного нигилизма: точно так же, как этот последний первоначально снабдил меня средством для опознания своего безвестного родственника в прошлом. И именно экзистенциализм предоставил мне способы исторического анализа, потому что сам был заинтересован в его результатах. Соответствие его категорий специфическому материалу было предметом для размышления. Они совпали, как будто были сделаны по одной мерке, а были ли они сделаны по одной мерке? С самого начала я считал, что это совпадение просто результат их предположительной общей достоверности, которая обеспечивала, по-видимому, их пригодность к интерпретации любой человеческой «экзистенции». Но затем мне пришло в голову, что пригодность категорий в данном случае, скорее, может быть обязана самому типу «экзистенции» в обоих случаях – тому типу, который производит категории и который так хорошо им соответствует.
Это похоже на случай с адептом, который считает, что он обладает ключом, отпирающим любую дверь: я пришел к этой определенной двери, я вставил ключ, и вот! – он подошел к замку, и дверь широко распахнулась. Так ключ доказал свою ценность. Только позже, когда я перерос веру в универсальный ключ, я действительно начал удивляться, почему же на самом деле ключ так хорошо срабатывает в этом случае. Мне удалось подобрать правильный ключ к правильному замку? Если это так, то что же есть такого между экзистенциализмом и гностицизмом, что открывает последний при прикосновении первого? При таком подходе к решению, который казался до того верным, он сам превратился в вопрос, нуждающийся в ответе.
Итак, встреча двух систем, начавшаяся как встреча метода с материалом, закончилась для меня возвращением к позиции, согласно которой экзистенциализм, претендующий на выражение основ человеческого существования как такового, является философией специфической, исторически обусловленной ситуацией человеческого существования. Аналогичная (хотя в других отношениях очень иная) ситуация в прошлом дала начало аналогичной же реакции. Объект моего исследования превратился в наглядное доказательство, демонстрирующее и случайность нигилистического опыта, и его необходимость. Вопрос, поставленный экзистенциализмом, не теряет таким образом своей серьезности; но должная перспектива обретается при понимании той ситуации, которую он отражает и которую ограничивает обоснованность некоторых из этих проникновений в самую суть.
Иными словами, герменевтические функции поменялись местами – замок подошел к ключу, а ключ – к замку: «экзистенциальное» прочтение гностицизма, столь основательно оправданное его герменевтическим успехом, привлекает как свое естественное дополнение испытание «гностическим» прочтением экзистенциализма.
Более двух поколений назад Ницше сказал, что нигилизм, «этот самый роковой из всех гостей», «стоит перед дверью». Тем временем гость вошел и больше не является гостем, и, насколько это касается философии, экзистенциализм представляет собой попытку их сожительства. Живущий в подобной компании живет в кризисе. Истоки кризиса уходят корнями в семнадцатый век, когда сформировалась духовная ситуация человека Нового времени. Среди особенностей, обусловивших эту ситуацию, есть одна, с пугающим смыслом которой первым столкнулся Паскаль и изложил ее со всей силой своего красноречия: одиночество человека в физической вселенной современной космологии. «Брошенный в бесконечную безмерность пространств, которых я не знаю и которые не знают меня, я испугался». «Которые не знают меня» – большая, чем внушающая благоговейный страх безграничность космических пространств и времен, большая, чем количественная диспропорция, незначительность человека как величины в этой обширности, «безмолвие», то есть безразличие этой вселенной к человеческим стремлениям – незнание дел человеческих со стороны того, в чьих рамках должны нелепо совершаться все дела человеческие, – которое образовывает в результате полное одиночество человека.
Как часть этого итога, как образец природы, человек только тростник, в любой момент подлежащий уничтожению силами безмерной и слепой вселенной, в которой его существование, помимо определенно слепой случайности, не менее слепо, чем могла бы быть случайность его уничтожения. Как мыслящий тростник, однако, он не является частью этого итога, не принадлежит ему, но радикально отличен, несоизмерим: поскольку res extensa (протяженная вещь, протяженное бытие – прим. ред.) действительно не думает, так учил Декарт, и природа ничто иное, как res extensa – тело, материя, внешнее величие. Если природа ломает тростник, она делает так не думая, тогда как тростник – человек – даже сломанный, осознает, что он уничтожен. Он единственный в мире думает, не из-за того, что он часть природы, а несмотря на это. Так как он больше не разделяет смысла природы, за исключением чисто механической принадлежности к ней через тело, так и природа больше не разделяет его внутренние заботы. Таким образом то, благодаря чему человек есть высшее во всей природе, его уникальное отличие, ум, больше не приводит к высшей интеграции его бытия со всеобщностью бытия, но, напротив, отмечает непроходимую пропасть между ним и остальным существованием. Отстраненная от общности бытия в едином целом, его сознательность делает его лишь чужестранцем в мире, и взвешенное обдумывание каждого действия говорит об этой полной чуждости.
Таково положение человека. Уходит космос, с имманентным логосом которого я мог почувствовать родство, уходит порядок целого, в котором человек имел свое место. Это место представляется теперь совершенно бессмысленным и случайным. «Я боюсь и поражаюсь, – продолжает Паскаль, – найти себя здесь скорее, чем там, поскольку там нет никакого разума, почему здесь скорее, чем там, почему теперь скорее, чем потом». «Здесь» всегда присутствовал разум, пока космос определялся как естественный дом человека, то есть, постольку поскольку мир понимался как «космос». Но Паскаль говорит об «этом отдаленном уголке природы», в котором человеку следует «чувствовать себя потерянным», о «небольшой тюремной камере, в которой он считает себя квартирантом, я имею в виду (видимую) вселенную». Совершенная случайность нашего существования в схеме лишает ее некоего гуманного смысла как возможного критерия для понимания нас самих.
Но там это в большей степени ситуация, чем просто настроение бесприютности, заброшенности и страха. Безразличие природы также означает, что природа не имеет отношения к результатам. С изгнанием телеологии из системы естественных причин природа, сама бесцельная, прекратила предоставлять какую-либо поддержку человеческим стремлениям. Вселенная без внутренней иерархии бытия, какой является вселенная Коперника, лишает ценности онтологической поддержки, и человек в своих суждениях о смыслах и ценностях оказывается всецело предоставлен самому себе. Смысл больше не находится, но «даруется». Ценности больше не видятся в свете объективной реальности, но постулируются как подвиги оценки. Как функции воли, цели являются единственно моим собственным творением. Воля заменяет видение; временный характер действия вытесняет вечность «бога в себе». Это ницшеанская стадия данной ситуации, поверхность которой разрушил европейский нигилизм. Теперь человек остается наедине с самим собой.
Врата мира
В пустыню тянутся безмолвные и холодные.
Тот, кто однажды потерял то,
Что ты потерял, все еще нигде не стоит.
Так говорил Ницше (в Vereinsamt), заканчивающий поэму строкой «Горе тому, у кого нет дома!»
Вселенная Паскаля, действительно, была однажды создана Богом, и одинокий, лишенный всех мирских опор человек может все еще устремляться всем сердцем к надмирному Богу. Но этот Бог, в сущности, непознаваемый Бог, agnostos theos, неразличимый в свидетельстве творения. Вселенная не открывает ни цели творца образцом своего порядка, ни его благости изобилием сотворенных вещей, ни его мудрости их пригодностью, ни его совершенства красотой целого – но единственно открывает его власть своим величием, своей пространственной и временной безграничностью. Поскольку протяженность, или пространность, является неотъемлемым атрибутом, оставленным для мира, то, следовательно, если мир хочет вообще что-то сказать о божественном, он делает это через это его свойство: и то, что величие может сказать об этом, есть власть. Но мир, ослабляя простое проявление власти, также не допускает по отношению к себе – однажды упоминание о запредельном исчезло, и человек остался один – ничего, кроме связи с властью, то есть господством. Случайность человека, его существования здесь и теперь, является для Паскаля все еще случайностью по Божьей воле; но эта воля, которая бросила меня в просто «отдаленный уголок природы», непостижима, и на «почему?» моего существования здесь просто как невозможно ответить, так и более атеистический экзистенциализм не может вывести ответ на этот вопрос. Deus absconditus, о котором невозможно утверждать ничего, кроме воли и власти, оставляет позади, как свое наследие под покинутой сценой, homo absconditus, понятие человека, характеризуемое исключительно волей и властью – воля к власти, воля к воле. Для такой воли даже равнодушная природа больше случай для упражнения, чем истинный объект.
Данный пункт, который специфически отвечает целям этой дискуссии, изменение в видении природы, то есть космической среды человека, представляет собой основу этой метафизической ситуации, которая дала подъем современному экзистенциализму и его нигилистическим проявлениям. Но если это так, если сущностью экзистенциализма является определенный дуализм, отчужденность между человеком и миром, с утратой идеи родства с космосом – короче говоря, антропологический акосмизм – тогда не обязательно современная физическая наука будет единственной, которая могла создать подобные условия. Космический нигилизм как таковой, порожденный какими-либо историческими обстоятельствами, мог бы быть условием, в котором могли бы развиваться некоторые характерные особенности экзистенциализма. И степень, до которой это остается актуальным, будет случаем для проверки уместности, которую мы придаем описываемому элементу в экзистенциальной позиции.
Существует единственная ситуация, только единственная, известная мне в истории западного человека, где – на уровне, не затронутом чем-либо сходным с современной научной мыслью, – это положение осуществлено и выжило со всей страстностью катаклизмического события. Это гностическое движение, или более фундаментальные движения среди разнообразных гностических движений и учений, которое глубоко затронуло первые три века христианской эры, распространившееся в эллинистических частях Римской империи и за пределами ее восточных границ. Из них, следовательно, мы можем надеяться узнать кое-что для понимания этой интересующей нас темы, нигилизма, и я хочу предъявить читателю доказательство, насколько это может быть сделано в пространстве короткой главы, со всеми оговорками, которые порождает эксперимент подобного сравнения.
Существование родственности или аналогии на протяжении веков, такое, как здесь описывается, не настолько удивительно, если мы вспомним, что культурная ситуация в греко-романском мире первых веков христианства показала широкие параллели с современной ситуацией больше, чем в одном отношении. Шпенглер пошел дальше, объявив два века «современными» в смысле наличия идентичных фаз в жизненном цикле соответствующих им культур. В аналогичном этому смысле мы можем теперь жить во времена ранних цезарей. Однако может быть, что определенно большее, нежели простое совпадение, проявляется в том факте, что мы, во всяком случае, осознаем себя намного глубже во множестве граней постклассической античности, чем классической. Гностицизм представляет собой одну из этих граней, и здесь это осознание труднее, поскольку оно передается чуждыми нам символами и неожиданно потрясает, особенно тех, кто немного знаком с гностицизмом, поскольку обширность его метафизической фантазии кажется нездоровой, чтобы согласиться с суровой утратой иллюзий экзистенциализма, как и вообще с его религиозным характером атеистической, фундаментально «постхристианской» сущности, по которой Ницше определил современный нигилизм. Однако сравнение может дать некоторые интересные результаты.
Гностическое движение – так мы должны назвать его – было широко распространенным феноменом в указанные критические столетия, питающимся, подобно христианству, импульсами широко распространенной ситуации человека и, следовательно, прорывающимся во многих местах, многих формах и на многих языках. Первая среди выраженных здесь особенностей представляет собой полностью дуалистическое настроение, лежащее в основе гностической позиции в целом и объединяющее ее широко разнообразные, более или менее систематические выражения. Оно возникает на этой первичной основе страстно прочувствованного человеком опыта противостояния себя и мира, которую оставляет сформулированная доктрина. Дуализм существует между человеком и миром и, соответственно, между миром и Богом, и это двойственность не дополнительных, но двух противоположных условий: поскольку двойственность между человеком и миром отражена на плоскости опыта между миром и Богом и извлекается из нее как из своей логической основы, пусть даже первая может скорее сохраняться так, что трансцендентная доктрина дуализма мир-Бог вырастает из имманентного опыта разъединения человека и мира как из своей психологической основы. В этом собрании трех терминов – человек, мир, Бог – человек и Бог стоят в оппозиции к миру и являются, несмотря на эту немаловажную принадлежность, по сути словно разделенными миром. Для гностика этот факт познается в откровении, и он определяет гностическую эсхатологию: мы можем увидеть в нем проекцию его базового опыта, которая таким образом создается собственно его истиной откровения. Первоначально это могло быть ощущением абсолютного разрыва между человеком и местом, где он обитает – миром, – ощущением, которое выражается в формах объективного учения. В своем теологическом аспекте это учение утверждает, что Божественное чуждо миру, не играет никакой роли в физической вселенной и не интересуется ею; что истинный Бог, строго надмирный, не открыт миру и даже неразличим для него, и, следовательно, он – Неведомый, совершенно Иной Бог, непознаваемый с точки зрения мировых аналогий. Соответственно, в своем космогоническом аспекте учение утверждает, что мир – творение не Бога, но некоего низшего начала, закон которого он выполняет; а в своем антропологическом аспекте оно утверждает, что человеческая внутренняя суть, пневма («дух», в противоположность «душе» = психе), не является частью мира, природного творения и владения, но представляется в этом мире полностью запредельной и непознаваемой посредством всех мировых категорий, так же как и ее запредельный двойник, непознаваемый Бог.
То, что мир сотворен некоей личной силой, обычно считается доказанным в мифологических системах, хотя в некоторых почти безличная необходимость темного импульса представляется причастной к его происхождению. Но кто бы ни сотворил мир, человек не обязан ему ни преданностью, ни отношением к его работе. Его работа, пусть и непостижимая для заключенного в ней человека, не предлагает звезд, по которым он может установить свой курс, и не провозглашает его желание и волю. Так как истинный Бог не может быть творцом того, что человеческий дух ощущает настолько себе чуждым, природа просто открывает своего Демиурга как силу, находящуюся ниже истинного, другого Бога, – силу, на которую каждый человек может смотреть с высоты своего родственного Богу духа, и это искажение божественного поддерживает его только силой действовать, но действовать слепо, без знания и благожелательности. Таким образом, Демиург действительно сотворил мир из неведения и страсти.
В этом случае мир является продуктом и даже воплощением отрицания знания. То, что он собой представляет, – непросвещенная и потому зловредная сила, произошедшая от духа самоуверенности, от воли править и принуждать. Неразумность этой воли есть дух мира, который не связан с пониманием и любовью. Законы вселенной – законы этого правления, а не божественной мудрости. Власть становится главным аспектом космоса, и его внутренней сущностью является неведение (агнозия). Позитивным дополнением к этому является то, что сущность человека есть знание – знание себя и Бога: это обуславливает его ситуацию как возможность знания в средоточии неведения, возможность света в средоточии тьмы, и это отношение лежит в основе его чуждости, без обращения к темной обширности вселенной.
Такая вселенная не имеет никакой почтенности греческого космоса. Пренебрежительные эпитеты, применявшиеся к ней: «эти ничтожные стихии» (paupertina haec elementa), «эта каморка творца» (haec cellula creatoris). Это все еще космос, порядок – но порядок, в полном смысле слова, чуждый человеческим устремлениям. Его признание создается из подобострастия и непочтительности, страха и открытого неповиновения. Недостаток природы лежит не в его изъяне, но во всем, что охватывает его завершенность. Далекое от хаоса творение Демиурга, непросвещенное, все еще представляет собой систему закона. Но космический закон, когда-то почитаемый как выражение ума, с которым человеческий ум может сообщаться в акте познания, теперь виден только в своем аспекте принуждения, который разрушает человеческую свободу. Космический логос стоиков, который отождествлялся с провидением, заменил гемармен, деспотическая космическая судьба.
Этот фатум распределяется планетами или звездами – персонифицированными представителями сурового и враждебного закона вселенной. Изменение в эмоциональном содержании термина космос нигде не символизировано лучше, чем в этом умалении ранее наиболее божественной части видимого мира, небесных сфер. Звездное небо – для греков со времен Пифагора чистейшее воплощение ума в умной Вселенной и гарант ее гармонии – теперь надвигается на человека в виде ослепительного блеска чуждой ему силы и необходимости. Уже не родственные ему, сильные, как и прежде, звезды стали тиранами – пугающими, но в то же время презираемыми, потому что они ниже, чем человек. «Они, – говорит Плотин (с негодованием против гностиков), – которые считают даже худшего из людей достойным называться им братом, безрассудно отказывают в этом звании солнцу, звездам на небе, более того, самой мировой душе, нашей сестре!» (Enn. II. 9. 18). Кто более «современен», можем мы спросить – Плотин или гностики? «Они обязаны воздерживаться (говорит он в другом месте) от своих ужасных рассказов о космических сферах... Если человек выше, чем другие животные существа, то насколько выше сферы, которые не для тирании существуют во Всем, но для наделения его порядком и законом» (там же, 13). Мы слышали, как гностики воспринимали этот закон: о провидении он ничего не говорит, и к человеческой свободе он относится враждебно. Под этими безжалостными небесами, больше не внушающими почтенного доверия, человек начинает осознавать свою полную заброшенность. Однако, окруженный ими и целиком зависящий от их власти, он, высший, благодаря благородству своей души, осознает себя не столько частью развивающейся системы, сколько безответственно помещенным в нее и подвергаемым ее воздействию.