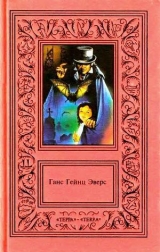
Текст книги "Сочинения в двух томах. Том второй"
Автор книги: Ганс Гейнц Эверс
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 32 страниц)
Парни и девушки рассмеялись. Коровница Стина покраснела до ушей и сняла свою руку с плеча игравшего на цитре.
– Он ведь обыкновенный мужик, – крикнула она Юппу.
Но старый кучер засмеялся:
– Что ты говоришь! Такой бравый да такой красивый парень, как Бартель, да с голыми коленками! Ведь это – деликатес! А, Стина? – и он сейчас же запел новую свою песенку:
«Мужчина, мужчина, уже я его себе добуду. Если он даже ничего не умеет, все же мужчина – есть мужчина!»
– Я тоже кое-что умею, – воскликнул Бартель. – Петь умею, играть, девушек ласкать и плясать.
Он передал Стине свою цитру, вскочил и прошелся колесом.
– Вот это по-нашему! – заметил кучер. – Уже давно пора, Бартель, чтобы ты хоть немного научился говорить, как настоящий христианин.
Он потянулся к своей гармонике и под ее звуки сочинил стишок про парня. Такой уж был у него талант.
Черноглазая Фанни прошла по двору, точно у нее было дело, как бы нечаяно подошла ближе и остановилась у колодца. Тирольский парень ее заметил. Изящная камеристка нравилась ему больше, чем служанки с кузни и работницы из хлевов. Он взял цитру, подошел к колодцу и спел тирольскую песню о гордой девушке, называя ее Фанечкой.
Прислуга хорошо поняла, о чем он поет. Они не понимали всех слов, но смысл улавливали, остальное договаривали смелые глаза парня. Слушатели смеялись, радуясь тому, что он поет так прямо в лицо Фанни, изящной камеристке, которая держалась в стороне от всех и не была ни в кого влюблена. Красивая камеристка это заметила, хотела убежать, но так нельзя было поступить – все бы ее высмеяли!
Парень из Пустерталя взглянул на нее своими карими глазами и сдавленным сопрано, подражая женскому голосу, запел о девушке, которая не знает, кого из трех мужчин ей выбрать, и наконец решает взять к себе в постель всех троих.
Раздался оглушительный хохот. Это был праздник для прислуги! Так смело, так густо – и прямо в лицо! Они покатывались от смеха.
– Это ты ловко, Бартель! – торжествовал Питтье. – Будь ты женщиной, я бы тебя поцеловал!
Фанни бросила взгляд на наглого парня, который пригнулся. Повернулась и побежала по двору так скоро, как только могла. Бартель отложил цитру и подбежал к скамейке, где сидели Юпп и Питтье.
– Знаешь три пустертальские радости? – спросил он Нелли. – Свирель, суп с морковью и голым с женщиной лежать…
И раньше, чем она успела возмутиться, запел уже тирольскую песенку с диким припевом.
Таков был тиролец Бартель.
Долго отсутствовал Ян и еще дольше не было от него ни одного письма, даже жалкой открытки. Эндри не спалось в летние ночи. Она хотела учиться для кузена. Составила с графиней прекрасный план уроков. Иногда ездила верхом или в экипаже в Клеве, иногда преподаватели приезжали в Войланд. Некоторое время учение шло хорошо, затем она все забрасывала. Она была неспокойна и непостоянна. Брала книгу и через несколько минут ее бросала. Совершенно бесплодной оказалась попытка учиться. Одному за другим отказывала она учителям и учительницам, и бабушка удовлетворяла ее просьбы. О, это еще все придет само собой: чего она сегодня не выучит – выучит завтра.
Эндри ждала, как ждала и графиня. Но Ян не писал и не приезжал.
Она скакала верхом с бабушкой или бегала по полям и лесам. Часто одна, иногда брала с собой Нелли и дразнила ее. Иногда она выезжала с Бартелем и его соколами.
Тиролец не испытывал никакого смущения, был смел и развязен, вел себя как всегда. Он называла ее барышней, как и прочие. Она говорила ему «ты», как делала бабушка. Он принимал Эндри за госпожу и делал по ее слову все, что она ни приказывала. Многое, чего она хотела, казалось ему глупостью, но он исполнял ее желания гораздо охотнее, чем старый Лер или помощники сокольничего. Эти не стеснялись говорить ей «нет», если считали себя вправе так поступать, отвечали спокойно, что сперва спросят графиню: если она прикажет – сделают, иначе – нет. Бартель никогда не спрашивал. Он говорил: приказ есть приказ и оставлял ей всю ответственность. Так она привыкла к нему.
У Маттеса она однажды потребовала Франсез и Фенгу, ястреба Геллу и еще пару ястребов: она хочет бить жаворонков. Парень не решился взять птиц на шест и спросил своего начальника. Старый Гендрик ей решительно отказал: графиня этого не дозволит. А если бы и дозволила, он все же откажет: ни один сокольничий из соколиного царства не пустит своих соколов на жаворонков. Эндри закричала на него, сказала, что в старые времена постоянно травили жаворонков. Но сокольничий закричал на нее еще громче: он знает это отлично, не ей его учить. Теперь этого больше не делают, во всяком случае, в Войланде. Это свинство, и его сокола для этого слишком благородны.
Эндри была вне себя и хлопнула за собой дверью. Затем она пошла в лесной домик, где жил Бартель. Он, не говоря ни слова, взял шесты и своих соколов.
Эндри следовала за Бартелем через поле. Голова у нее болела после бессонной ночи. Мысли блуждали. Зачем ей хочется травить жаворонков?
Жаворонки – кузен называл их поющими, скачущими львиными жолудками. Так говорилось в одной сказке. Это звучало приятно и радостно: львиные жолудки. Ян сказал ей: это слово безо всякого смысла, слово из сказки, только для звука. Поющие, скачущие жолудки!
Они весело вздымались ввысь, прямо стрелой, выше и выше, в голубой эфир. И там, где открывалось небо, как раз там – порвут их Бартелевы сокола. Что с ней? Как пришла ей в голову мысль бросить сокола на жаворонков?
Да, именно это. Ян любил жаворонков, любил их больше всех других птиц. А он не приезжал и не писал, жил где-то там, в свете, со скверной женщиной. Был с какой-то из тех, которые пели и скакали, жил с одной из этих!
Два жаворонка взлетели, и она бросила ни них кречетов – Сару и Саломею… Легла на траву, стала с замиранием сердца смотреть вверх широко раскрытыми глазами. К небу поднялись милые птички – за ними гнались хищники.
Сокола принесли добычу. В своей руке она держала львиные жолудки, окровавленные и разорванные. Их головки свесились вниз. Эти уже никогда больше не будут ни петь, ни летать. Они были еще теплые – совсем теплые. Разве не держала она в руке два сердца – свое и Яна?
Она сидела у садков с тирольским парнем.
– Спой! – приказала она ему.
Он запел о браконьере, который в воскресенье утром вышел на охоту. Его преследует егерь, но он находит приют на горном пастбище у красивой пастушки. Они оба издеваются над егерем, сторожащим дичь. Браконьер из-под носа уносит у него дичь, а впридачу и девушку. В припеве поется, что любить надо, пока молод, так как скоро придет старость – и тогда уже поздно.
Эндри мечтала, едва слушая слова песни. Там, в свете, егерь сторожит свою дичь, а у его девушки сидит браконьер.
Еще несколько своих песен спел Бартель по ее приказанию, некоторые она выучила и пела сама.
Ее грудь высоко вздымалась. Она чувствовала себя словно бы освобожденной, выкрикивая эти страстные напевы.
В июне на Петра и Павла был утренний праздник. Она позавтракала с бабушкой и отправилась в конюшню. Дала Питтье распоряжение оседлать ее кобылу и пошла в комнату переодеться.
Едва она разделась, к ней, запыхавшись, прибежала Фанни, зовя к бабушке. Та получила какое-то письмо, должно быть, с плохими вестями. Бабушка вскочила, побледнела, как полотно, чуть в обморок не упала. Вынуждена была схватиться за стол и тяжело повалилась в кресло. Она, Фанни, принесла ей токайского – теперь несколько полегчало…
Эндри накинула рубашку, халат и быстро спустилась с лестницы.
– От Яна? – спросила она.
Бабушка отрицательно покачала головой:
– Нет, не от Яна.
Она наполнила стакан вином и подала Эндри.
– Пей, девочка!
Эндри подняла стакан к губам и опорожнила его. Вино показалось ей терпким, но сладким.
– Нет, – повторила бабушка, – письмо не от Яна. Я спросила у друзей, что он делает, так как сам он не писал. Вот ответ. Он сдал экзамены…
– О! – прошептала Эндри. – И…
– Нет, нет, – крикнула бабушка, – он не приедет! Он уехал в Париж или в Испанию – этого они не знают. Уехал с танцовщицей!
Эндри вспыхнула. Бабушка наполнила ей второй стакан.
– Нет, нет, не плачь! – сказала она. – Выпей глоток.
Затем продолжала:
– С одной женщиной из варьете, которая поет грязные песни и показывает при этом ноги. Она очень знаменита – знаменита в кафешантанах!
Эндри выпила свое вино и пристально посмотрела на бутылку.
«Токайский Порыв» – значилось на ней. «1846. Урожая графа Гезы Андраши». А ниже: «шестичанное». Что это значит – шестичанное?
Бабушка протянула ей письмо:
– Хочешь прочесть?
Она не пожелала. Теперь он уехал, совсем уехал и никогда не вернется. Он был в Париже или в Испании, с танцовщицей, с женщиной, писавшей ему письма.
– Встань! – приказала она бабушке. – Я не хочу, чтобы ты плакала. Вытри глаза!
Что такое? Разве она плакала? Бабушка повиновалась, встала, взяла носовой платок – действительно, на глазах были слезы…
– Налей себе, – велела ей бабушка, – пей! Это пройдет, с танцовщицей, слышишь? Он все-же вернется в Войланд, приедет к нам – ты меня понимаешь?
– Да, – ответила безучастно Эндри, – да!
Опорожнила свой стакан, стояла и ждала.
– Теперь иди! – сказала ей бабушка.
Она вышла из комнаты, медленно закрыла дверь. Спустилась с лестницы, остановилась во дворе. А! Солнце сияет!
Пошла через двор, вышла главными воротами, прошла мостом, мимо пастухов. Пришла в парк, пересекла его и через луг вступила в Войландский лес.
«Солнце светит, – думала она, – сегодня день Петра и Павла». Ей стало вдруг холодно. Она подумала: «оттого, что я едва одета». На ней была шелковая рубашка, сверху халат, чулки и высокие сапожки для верховой езды. Нет, не поэтому мне холодно – солнце светит и греет.
Было тихо, очень тихо. «Надо вернуться, – подумала она, – в таком виде не могу же я бежать через лес».
Но шла дальше.
Шестичанное? Что такое: шестичанное? Комичное слов Голова у нее горела. Все было так растрепано! Она выпила три стакана – токайского. Не потому ли это, что она еще не привыкла к венгерскому вину? Или – шестичанное потому, что оно было шестичанное. Она засмеялась.
Эндри села на пень, снова вскочила и побежала дальше.
Ян был с одной из кафешантана, которая показывает ноги. С той, которая поет и скачет. И она знаменита!
С львиным жолудком был он в Париже, с поющим, скачущим и очень знаменитым!
Шестичанным было вино, шестичанным. И горячо же ей нынче!
Она должна была снова присесть. Деревья кругом вертелись. Там наверху было очень укромное местечко – мох под высокими буками. Там можно вытянуться.
Она побежала дальше на гору. Никогда Ян не вернется в Войланд, никогда! Зачем же сияет солнце?
А холм, он тоже шестичанный? Порыв – шестичанный?
Она сознавала, что пьяна, так порою казалось ей. Затем все снова становилось совершенно ясным. Где же родник? Там, под звездообразным кустом… Там могла бы она напиться воды, свежей, ключевой…
Она снова пошла вверх.
Услыхала какое-то журчание и жужжание. Словно большая жужжащая муха, только сильнее, гораздо сильнее. К тому же – в самом деле слышна какая-то мелодия! Она остановилась, заткнула уши пальцами: не шумит ли у нее в голове?
Снова прислушалась. Нет, нет, жужжало в кустах. Но ведь никакая муха так не жужжит, да и откуда быть ей в лесу? Это могло быть только большое животное, вероятно, птичка? Жужжание очень походило на пение, но никогда она не слыхала такого.
Теперь Эндри слышала уже совершенно ясно: звук исходил из одного и того же места. Наверное, это птичка! Нельзя ли ее поймать? Она принесла бы ее бабушке – эту жужжащую птичку.
Она сняла халат и приготовилась набросить его на птичку. Остро вглядывалась в кусты, бесшумно скользя туда. Медленно и осторожно, все ближе и ближе, шаг за шагом.
На мху сидел Бартель. Он что-то держал у рта и жужжал. Эндри стояла совсем близко от него.
Бежать хотела она, бежать! Но нет – разве она испугалась? Кого? Бартеля?
Она кинула белый халат на землю и села на него.
– На чем ты жужжишь? – спросила она.
– Ох, как я перепугался! – воскликнул он. – Подумал, что это пришла лесная ведьма!
Он тяжело дышал. Испуг был написан на его лице. Затем он протянул ей свой инструмент – маленькое железное кольцо со стальным пером в середине.
– Это – варган, – сказал он. – У каждого пустертальца найдется такой в мешке.
Он показал ей, как на нем играют. Одной рукой держал кольцо у открытого рта, а пальцем другой тренькал по перу, которое журчало и жужжало, встречая резонанс во рту.
«Варган, – думала она, – шестичанный варган». Она закрыла глаза и почувствовала, что должна за что-то держаться.
Затем она снова услыхала его голос.
– Сегодня жарко, барышня. Я уже тоже скинул куртку. Но так свободно, как барышня, я сделать не догадался.
Она взглянула, только теперь заметив, что свою куртку и шляпу он повесил на сук. На нем были длинные чулки, штаны до колен, широкий черный кожаный пояс и рубаха. Все белое и чистое – в честь праздника Петра и Павла.
Она хорошо видела, что он ее желает. Горячо, страстно, но и застенчиво тиролец смотрел на нее. Эндри чувствовала себя в безопасности – никогда он не осмелится прикоснуться к ней. Она высокомерно засмеялась.
– Что написано на твоем поясе? – спросила она Бартеля.
Он снял его и передал ей. Здесь были изображены два пылающих сердца, пронзенных стрелою с пером. Кругом надпись: «Истинная верность и нежность связывают нас навеки».
– Это тебе вышила твоя любимая?
– Нет, нет, – отвечал он, – еще дедушке его жена, а мне досталось по наследству.
– Спой, – сказала она, – но не слишком громко.
Он тотчас же начал петь вполголоса. Она не прислушивалась к тому, что он пел, откинулась назад, положив голову на мягкий мох.
Нет, Ян не приедет! Он забыл бабушку, как и орла, как и ее, – ее-то уж точно забыл. Помнит ли он еще, что когда-то ее целовал? Теперь он целует другую – из кафешантана.
– Знаешь ты, что такое кафешантан? – спросила Эндри.
– Очень хорошо, – отвечал Бартель. – Когда я состоял в императорских егерях, был там один обер-егерь, приехавший из Вены. Он рассказывал о кафешантанах. Это большие театры, где выступают красивые голые женщины. Они стоят чертовских денег, так как это великие актрисы.
«Великие актрисы! – думала Эндри. – Великая актриса – и та чужая женщина! Что я представляю собой в сравнении с ней? Глупую, незрелую деревенскую сливу!..»
Бартель пел о красивой девушке, равной которой нет ни в Испании, ни в Англии, ни во Франции, ни в Тироле, ни в Баварии.
Она резко поднялась. Рубашка сползла с ее плеча.
– А что, Бартель? – воскликнула она. – Как ты думаешь, могла бы я показывать себя?
– Думаю, да! – горячо согласился он. – Вы могли бы, барышня, всякого парня пленить!
«Только одного – нет! – подумала она, – Только не Яна!»
И она сказала:
– Почему же ты меня не поцелуешь?
– Я бы очень желал! – прошептал парень.
«Токайское вино, – подумала она, – порыв! И Ян целует чужую – никогда он не приедет ко мне…»
– Я бы очень желал, – повторил Бартель, – так бы желал…
Растрепанно было у нее в голове. Если бы только тут был родник. Издалека до нее доносился его голос:
– Очень бы желал…
И она подумала:
– Чего же ты ждешь?
Нет, она не подумала, она сказала это громко, во весь голос. Громко – и сама встрепенулась, испугалась. Почти приказом прозвучали ее слова: «Чего же ты ждешь?»
Он все еще колебался. «Что она плетет?» – думал он. Как это у них делается, он знал очень хорошо. Это стоит стольких усилий, и времени, и денег – в ресторане и на танцах. Надо долго ухаживать и льстить, упрашивать и уговаривать, пока девушка пустит в свою комнату. И должна при этом быть темная ночь, чтобы никто ничего не знал. А здесь, светлым днем, в праздничное утро, во время церковной службы прибегает к нему в лес барышня. Прибегает в рубашке, ложится к нему на мох, не стыдится – нет, сама его зовет. Она, должно быть, совсем свихнувшаяся!
Эндри взглянула на него, высокомерно подобрав губы. Она бросила соколов на жаворонков, потому что Ян их любил! Кузен забыл ее! Он целовал другую – она будет целовать Бартеля, как целовала Яна. Это сотрет с ее губ его поцелуи!
Поцелуй – он займет одну минуту – и она рассчитается с кузеном. Тогда она может встать, пойти домой, не бросив более ни одного взгляда на этого парня. Пусть бежит за ней, несет ее халат!
– Иди! – сказала она.
Взяла его голову и поцеловала в уста.
Итак, это было сделано. Но он не отпускал ее. Держал крепко, прижимал все теснее. Чего он хочет от нее?
– Уходи! – крикнула она. – Уходи!
Оттолкнула его от груди, ударила, ударила сильно – прямо в лицо.
Бартель отскочил. Лицо его пылало. Что такое? Она его поцеловала, а затем бьет? Что он – ее собачка, которую она может пинать? Его кровь бурлила. Ни одна девка этого не смеет – и барышня тоже! Она лежала перед ним нагая, и он бросился на нее.
Началась борьба. Она громко кричала, оборонялась руками и ногами, впивалась в его тело, как делали сокола. Разорвала его рубашку. Над собой она видела его грудь, противную, густо поросшую черными волосами.
Он уже не щадил ее, запрокинул ей голову назад, железными тисками сдавил грудь. Наклонился над ее телом, тяжелым сапогом отодвинул колено.
В голове ее все спуталось, все закружилось. Она чувствовала, что теряет силы, как бы тонет в середине Рейна. Ощутила что-то вроде судорог, и волны сомкнулись над нею.
Она лежала тихо, окровавленная, всхлипывая и дрожа. Допустила – все допустила!
Она открыла глаза и посмотрела вокруг себя. Бартель исчез, также исчезли с куста его шляпа с пером и куртка с пуговицами из оленьего рога. Возле лежала ее рубашка, запачканная тряпка. Она обвязала ею тело, как могла, накинула сверху халат. Тихо пробралась через лес, далее побежала лугами. Бежала, бежала. Пришла к парку, обошла дорожку, пробираясь кустами.
Полдневная жара. На замковом мосту ни единого человека. Она быстро прошла через мост и через ворота. На дворе было совсем тихо, очень пустынно. Прокралась вдоль стен, быстро вбежала по лестнице в свою комнату. Никто ее не видел, никто.
Она бросилась на кровать и лежала на ней, глядя вверх – неподвижно, точно окоченела, и очень долго. Затем постепенно оцепенение стало проходить. Она плакала, всхлипывала, стонала. Ее тело извивалось, руки цеплялись за подушки, в которые она зарывала свою голову.
Теперь все было ясно. Она отлично знала, что произошло. Это была ее вина, только ее! И тогда, когда она позволила Яну уехать, заперлась в своей комнате, выбросила ключ. В том, что она не пошла к Яну в ту ночь, – в этом тоже была ее вина.
И сегодня, сегодня – тоже ее вина, только ее вина!
Ничем она не могла себя оправдать! Она этого, конечно, не хотела, этого – нет. Она защищалась, боролась до крови. Он преодолел ее ослабленную вином силу, бросился на нее, как зверь. Грубым и диким насилием взял он ее.
И все же это была ее вина! Нагишом она побежала в лес, подсела к нему на мох. Дразнила его страсть, подстегивала его кровь, сама предложила ему свои губы. Тогда он взял и ее тело… Разве он не был прав?
Тяжело страдая, она громко плакала, засунула палец в рот и укусила его. Разбитая и подавленная, Эндри лежала еще несколько часов, беззвучно плача.
Стемнело. Слабый лунный свет пробился через окно. Она встала. Подушка ее была мокра, но сухи и воспалены глаза. Оделась, вышла из своей комнаты и из замка. Она побежала к лесному домику, где жил Бартель.
Ни одного слова она не сказала ему. Но оставалась у него всю ночь.
Она была как безумная в это время. Днем бегала по окрестностям, кое-где присаживалась, устремляла взгляд на небо. Мучила Петронеллу, а затем дарила ей белье и платья. Без цели и плана скакала верхом, спрыгивала и погоняла свою кобылу! Та, одна, в мыле и пене, прибегала в конюшню.
Бабушка все это хорошо видела. Она ласкала ее по лбу и щеке.
– Это пройдет, – говорила она. – Верь мне, дитя мое. Он вернется назад в Войланд!
Она ничего не отвечала. Только усмехнулась, когда была одна. Ян – в Войланде, чем это ей поможет теперь? Он может оставаться там, где находится, – здесь нет больше места для них обоих.
Каждую ночь она бывала у Бартеля, каждую ночь.
Когда днем она выезжала с ним на охоту, то обращалась с ним хуже, чем с последним слугой. Ни с кем из прислуги в Войланде она не позволила бы себе так разговаривать. Он делал все, что она приказывала, по ее первому слову. Только усмехался карими глазами. Он знал то, что знал…
Когда он пел, она кричала на него: она слышать не могла его песен. Часто он становился ей так противен, что она отворачивалась, лишь бы его не видеть. Она хотела бы его топтать, плевать ему в лицо.
Но наступала ночь, и она снова шла в лесной домик. Она разбила свою копилку, глиняную свинью ростом с кролика. Туда бабушка бросала ей талеры, а также и золотые монеты, когда бывала в хорошем настроении. Эндри взяла деньги и отдала их Бартелю.
У нее было ощущение, точно она должна ему заплатить. За оскорбления, наносимые ему днем. Или…
Она тряхнула головой, прогоняя неприятные мысли.
К чему думать? В это время она была как безумная.
Затем она вдруг перестала исчезать из замка. Она оставалась, где была, и снова спала в своей кровати. Избегала его и днем, едва на него смотрела. Она надеялась, что бабушка отошлет его домой, в его горы.
Стала спокойнее и тише. Иногда ей казалось, точно ничего этого и не было, точно она лишь видела скверный сон.
Проходили недели.
Они получили известие от Яна. Открытка с Мадейры. Бабушка прочла ее вслух: что он думает о Войланде и о бабушке. Он приедет, как только вернется в Германию, быть может, поздней осенью.
Бабушка ликовала.
– Он тоскует по Войланду, – смеялась она, – и по нам. Не говорила ли я, что он приедет? Он, как все мужчины, бегает за другими женщинами. У каждой женщины свой опыт. Ты, Эндри, получила свой очень рано. Я только поздно узнала это. Поэтому-то его было не так легко перенести. Но жалобами ничему не поможешь. Надо брать вещи такими, какие они есть, и муж, чин – тоже. Это то же самое, что болезнь, и она проходит.
Узкой мягкой рукой она приласкала внучку и протянула ей открытку.
– Поклон Приблудной Птичке! – прочла Эндри.
В эту ночь она долго лежала, не засыпая. Думала о Яне. Вот, он и приедет. Он забудет другую. Болезнь прошла. А она – разве у нее не все покончено с Бартелем? Это ведь одно и то же, совсем одно и то же, – думала она. И в то же время отлично чувствовала, что это – не одно и то же.
Но Ян ничего об этом не узнает. Тирольца давно здесь не будет, когда приедет Ян. Никто об этом не узнает. А если бы и она могла совершенно забыть, то вышло бы так, как будто никогда ничего и не бывало!
Конечно… да…
Может быть, он этого и не заметит. На свадебном ужине много пьют. А бабушка, наверное, достанет серебряный соколиный бокал и наполнит его шампанским. Перед закуской можно тоже поднести токайского – шестичанного…
Она вздрогнула… Ах, шестичанное! Или, быть может, она могла бы что-то сделать, чтобы…
Что же? Но кого она об этом спросит?
А не лучше ли рассказать ему все? Может быть, он только посмеется над этим. Женщина, с которой он уехал, – та, из кафешантана, – наверное, не была невинной! А когда женятся на вдове или на разведенной – разве это не то же самое?
Нет, нет, она не может ему этого сказать. Гораздо лучше, если он ничего не будет знать и ничего не заметит, если между ними не будет никакой тени.
Она должна справиться со всем этим. Это уж как-нибудь сладится. Она опоит его из соколиного кубка, снова, еще один раз…
Заснула она очень поздно, почти счастливая. Снился ей Ян и свадьба…
* * *
Проснулась с болью в груди: как будто в ней что-то давило и разрывалось. Она встала. Ее качнуло, пришлось держаться за стул. Затем – сильный припадок рвоты.
Немедленно, в ту же секунду, она поняла, что это означает. Святая Дева! У нее будет ребенок!
Это быстро прошло, так же быстро, как и налетело. Она медленно оделась, сошла вниз, позавтракала с бабушкой. Поехала с нею верхом, вернулась. Только после обеда, снова очутившись одна, нашла в себе силы для обдумывания.
Ребенок! Что же теперь произойдет? Яна и соколиный кубок надо отбросить. Свадьба – ах, теперь уже она должна будет выйти за Бартеля, которого ненавидит! Разве не так? Разве девушка, имеющая ребенка, не должна выйти замуж за отца своего ребенка? Она еще должна быть благодарна, если тот ее возьмет! Жена Бартеля… Жена Бартеля Чурченталера! Нет, как на самом деле его настоящая фамилия? Клуйбеншедль… Эндри Клуйбеншедль!!
Что же они будут делать, она и Бартель? Конечно, из Войланда придется уехать. Он был хорошим сокольничим. Она сама тоже не меньше понимает по птичьей части. Они бы уж нашли какое-нибудь место в Голландии или, может быть, в Англии. Лорды и леди ведь ездят на соколиные охоты.
Затем она вспомнила, что у нее есть деньги, собственные деньги, наследство от матери. Бабушка однажды про это говорила… Эндри не знала, сколько, но, может быть, хватит для покупки небольшого имения. Можно было бы разводить соколов. Тогда не нужно искать место – можно продавать птиц.
Да, это уже как-нибудь наладится. Но она будет женой Бартеля, потому что носит его ребенка. Должна будет всегда быть с ним, всегда – всегда подчиняться его воле, если только он захочет…
Она стиснула зубы: этого уже не переменишь. Он хороший и веселый парень, несомненно. И он любит ее, обожает ее. Ей надо преодолеть отвращение, приучить себя к нему. Как говорила бабушка? Надо брать вещи, какие они есть. Это уж наладится, потому что должно наладиться.
Она должна переговорить с ним. Теперь это самое важное.
Надо все сказать ему.
Она отправилась в лесной домик. Обошла его сзади, как всегда делала, мимо решеток, где сидели сокола на своих шестах и орлица Аттала. Она услыхала его голос. Кто-то у него был. Значит, надо обождать, пока тот уйдет.
Она подошла мимоходом к чулану, где было маленькое оконце, оставленное полуоткрытым. Заглянула туда.
Бартель сидел на своей кровати. На коленях он держал, крепко обняв, растрепанную Фанни. Она была полураздета, с распущенными иссиня-черными волосами.
– Ну, иди уж, дорогая, что ты так жеманишься? – смеялся он.
Точно остолбенев, смотрела Эндри. Как будто она приросла к земле – не могла сдвинуться с места. С трудом она повернулась и тихо отошла от чулана и от решеток, за которыми сидели сокола.
Недели, длинные недели. Временами она совсем тупела, не способная связать ни одной мысли. Затем опять вырабатывала план за планом, проводила бессонные ночи в лихорадочных размышлениях.
Разве нельзя как-нибудь избавиться от ребенка, от этого ребенка, которого никто на свете не желает? Если бы поехать в Клеве. Нет, это невозможно, там все ее знают. Быть может, в Арнгейм или Нимгевен? Или еще лучше в Дюссельдорф, в большой город? Там, конечно, есть акушерки и врачи.
Прошел август. Был уже сентябрь. Один день следовал за другим. С ужасом она смотрела на себя, идя в постель, не потолстела ли она? Недоверчиво глядела на каждого, проходившего мимо нее. Не смеялись ли над ней служанки, не хихикали ли за ее спиной.
Однажды утром, когда она выходила из ванны, приковыляла в спальню старая Гриетт:
– Мария-Иосиф! Приблудная Птичка! – воскликнула она. – Как ты растолстела! Ты слишком обленилась за последнее время, тебе надо побольше двигаться!
Она стала пунцово-красной, надела рубашку на набухшие груди. Как сумасшедшая, она скакала верхом в этот день. Быть может, она упадет, быть может…
Но ничего не случилось – только шло время…
А Бартель все еще оставался в Войланде. «Он должен тут жить, пока не приедет Ян», – сказала бабушка. Значит, оба будут тут и тогда уже ничего не скроешь!
Постоянно эта рвота, эта тошнота перед ней! Однажды у Эндри случился обморок за обедом, как раз когда бабушка вышла из комнаты. После того – еще раз в конюшне. Она ввела туда кобылу, пошатнулась и упала бы, если бы ее не поддержал старый Юпп. Питтье принес ей стакан воды.
В это время кто-то засвистел во дворе. Она слышала, как Юпп сказал:
– Девушке, которая свистит, и курочке, которая кричит петухом, надо свернуть шею.
Она выглянула из конюшни. У колодца приплясывала бабушкина камеристка. Стройная и расторопная, как всегда! С ней вот ничего не случилось! Как это она, черноокая Фанни, ухитрилась не получить ребенка? Вот она и бегает тут, насвистывая выученную у Бартеля тирольскую песенку…
Эндри топнула ногой. Схватила за руку Юппа и прошипела:
– Ну так сверни шею этой девке!
Старый кучер изумленно взглянул на нее.
– Сделай это сама, Приблудная Птичка, если тебе это доставит удовольствие! – сказал он.
Дальше так продолжаться не может! Она должна искать чьей-либо помощи. И она выбрала самое худшее, что могла выискать в Войланде. Выбрала Гриетт, эту старую высохшую деву, неспособную отличить кота от кошки. Когда Эндри ей призналась и сказала, что ждет ребенка, Гриетт даже не спросила, от кого. Она закрыла лицо передником и завыла. Это и был ее единственный ответ. У нее нашелся только один совет: надо сказать бабушке. Эндри сначала противилась, но была в таком отчаянии, столь беспомощна, что крикнула наконец старухе:
– Скажи ей это ты!
Гриетт тотчас же заковыляла к графине.
Эндри сидела у себя в комнате и ждала. Только через два часа к ней постучались. Вошла Фанни, принесла приказ придти к графине. Именно Фанни должна была это сделать!
Бабушка сидела в спальне на большой готической кровати. Она казалась спокойной и сдержанной. Около нее стояла плачущая и всхлипывающая Гриетт.
– Правда ли то, что говорит старуха?
Эндри подтвердила.
– Когда это случилось?
– В конце июня, – призналась она.
– Скажи правду, – настаивала графиня.
Эндри хорошо заметила, как дрожал ее голос. Она поняла смысл вопроса: если это случилось раньше, в марте или в апреле, причиной мог быть Ян.
Она отрицательно покачала головой и сказала безучастно:
– Это – правда. Случилось в конце июня.
Бабушка вздохнула, тяжело и глубоко, словно похоронила последнюю надежду. Помолчала несколько минут и сказала ровным голосом:
– Еще одни вопрос – и ты можешь идти. Кто это был?
Эндри знала, что она спросит ее об этом. Она подготовилась рассказать все, что случилось, ничего не скрывая. А теперь вдруг точно язык у нее отнялся: не могла произнести ни одного слова.
Бабушка поняла ее состояние. Дала ей время. Через несколько минут снова спросила:
– Это был кто-нибудь из Клеве?
Эндри отрицательно покачала головой.
– Кто-нибудь из служащих в Войланде?
Графиня поднялась, и голос ее звучал угрожающе:
– Кто же это был?
Эндри все молчала. Тогда бабушка подошла к ней совсем близко:
– Я хочу это знать и буду знать! Кто это?
– Я не могу этого сказать, – прошептала Эндри.
Графиня засмеялась.
– Принеси мою плеть, – крикнула она Гриетт. – И крепкую веревку.








