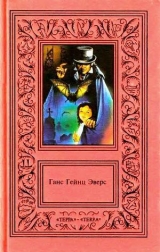
Текст книги "Сочинения в двух томах. Том второй"
Автор книги: Ганс Гейнц Эверс
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 32 страниц)
– Да, ну так хорошо!.. – прошептал он.
– Что ты под этим подразумеваешь: «так хорошо»? – спокойно спросила она.
Он смутился и покачал головой.
– Да ничего. Ты этого не поймешь. Поговорим лучше о чем-нибудь другом. Эндри! Это ведь не к спеху! Ты еще незрелая слива. Слишком молода для замужества.
– Слишком молода? – вскричала она. – Маме было семнадцать лет, когда она вышла замуж, а бабушке даже шестнадцать. Спроси ее! Ты должен еще сдавать экзамены, еще некоторое время будем женихом и невестой – и я достаточно вырасту.
Он оборонялся:
– Я думаю, ты слишком молода для меня. Я старше тебя на шесть лет. Теперь ты слишком молода, а позже – будешь слишком стара. Разве ты этого не понимаешь? Женщина стареет быстрее мужчины. Когда тебе стукнет сорок, ты будешь старухой, слишком старой для меня.
Она покачала головой:
– То слишком стара, то слишком молода! Как тебе угодно. Ты думаешь, я не знаю, что все это – только глупые отговорки? Что было в письмах, Ян?
Он невольно сунул руку в карман.
– Письма? Это – ничего, это – только… – Он прервал себя, взял ее руку, погладил ее.
– Ну, Ян? – настаивала она.
– Оставь меня в покое, Приблудная Птичка, – просил он. – С письмами – это уже прошло. Я ведь остаюсь здесь, остаюсь дожидаться орла.
Он засмеялся, выпил, поднес бокал к ее губам. И опять быстро заговорил о тирольском орле.
– За кем будет охотиться орел? Ни волков в Войланде нет, ни газелей, диких ослов тоже нет…
– А ты, Приблудная Птичка, – шутливо заметил Ян, – всегда должна выходить с зонтиком, иначе с тобой будет, как с Эсхилом!
– А кто такой Эсхил? – спросила она.
Он вздохнул.
– Я хотел бы, чтобы бабушка тебя хоть на год послала в какую-нибудь школу – ты бы хоть чему-то научилась. Ты очень способная, Эндри, но при этом неприлично необразована. Эсхил был греческий поэт, который вывел в театре в своих пьесах все то общество, что ты видишь здесь, на Рубенсовских коврах.
– Я ни разу еще не бывала в театре, – отвечала Эндри. – Ты мог бы меня когда-нибудь взять с собой – вот я и знала бы об этом Эсхиле.
– Это не так просто. О нем говорят, но его уже не играют.
– И он всегда ходил с раскрытым зонтиком?
– Да нет же, – возразил студент. – Тогда и зонтиков не было. Просто орел сбросил черепаху на его лысую голову и убил его.
– С каких это пор орлы кидаются черепахами? – смеялась Эндри.
– Они на самом деле так поступают. Ловят черепах, но не могут склевать и тогда с высоты бросают на скалы, чтобы разбить их броню.
Они смеялись, пили и болтали. Он забыл свои тревоги, она – свои планы. Оба были снова, как дети, беззаботны и свободны. Лежали у огня, катались вместе по ковру, как молодые звери.
Она встала.
– Ну, Ян, я должна теперь идти, – сказала она.
Он взглянул на нее:
– Как ты выросла, Приблудная Птичка! Если так пойдет дальше, я буду выставлять тебя на ярмарках, как женщину-гиганта.
Он встал рядом с ней:
– И действительно, Эндри, ты красива! У тебя серые глаза, как у бабушки.
Он вынул изо льда бутылку и вылил остатки в кубок:
– Еще по глотку на каждого. Пей, Эндри!
Когда она пила и глубоко дышала, он заметил, как подымалась ее грудь. Только теперь он обратил внимание, что она была в платье с вырезом.
– И грудь у тебя, – засмеялся он, – тоже, ей-богу, красивая!
Она схватила с кресла платок и накинула на плечи.
– Это тебя не касается! – воскликнула она. – Раз ты не хочешь на мне жениться, то не надо тебе и знать, какая у меня грудь.
Это раздразнило его. Смеясь, он начал срывать с нее платок. Его руки коснулись ее спины – ее кожа похолодела.
Но она жгла. Он отнял пальцы, но тотчас же потянул их снова. Он дрожал и чувствовал, что и она тоже трепещет. Медленно его рука сползла по ее плечу.
Их взгляды встретились. Пелена была перед глазами – точно они смотрели через туман. Глаза стали влажными.
– Эндри! – прошептал он.
Ее губы шевелились, не издавая ни звука.
Он притянул ее к себе, нагнулся. Его губы прильнули к ее губам – она не отвела своих, и, дрожа, почувствовали они свой первый поцелуй. Она закрыла глаза. Чувствовала, как его рука скользит ниже, ее правая грудь напрягается, чувствовала, как раскрываются ее губы.
Он целовал и целовал ее. Она прижималась к нему и блаженно ощущала, как он прикасается к ее молодой груди.
Затем все кончилось. Длилось это так недолго!
Они стояли на том же самом месте, тесно прижавшись друг к другу. Но были снова двумя разными людьми – Яном и Эндри.
Она повторила:
– Теперь я должна идти, Ян!
Он только кивнул головой.
– Покойной ночи, Ян, до завтра! – сказала она.
Провела легко рукой по его волосам, по лбу, по щеке – как делала бабушка.
И ушла…
Она разделась и села на край кровати. Нет, она не будет умываться. Ее рот он целовал, ее руки – он прижимал к своим, и ее спину, плечи, руки и грудь.
Но зубы? Это дело другое! Взяв зубную щетку, она приготовила воду, прополоскала рот и почистила зубы, тщательно стараясь не дотрагиваться до губ.
Снова села на кровать. Вздохнула. Засмеялась. Опять вздохнула.
Как же это случилось? Он ведь сказал, что не женится на ней. Придумывал отговорки, всякий раз новые. Она знала: тут замешана женщина. Она читала адреса – женская рука, и постоянно та же самая. Но он ведь сказал, что это прошло – с письмами. Он останется, пока не привезут орла.
Уедет после и очень скоро вернется. Она целовала его сегодня…
То ли это, чего хотела бабушка? Конечно, то самое!
И, может быть, она должна побежать к бабушке и рассказать ей все – сегодня же.
Она вскочила, подошла к окну. Нет, в покоях бабушки уже не было света! Но из бокового флигеля, где помещался Ян, свет пробивался из окна. Ян еще не спал.
Думал ли он о ней, как она о нем? Что скажет он завтра утром? Там, в окне, она видела его тень. Он ходит взад-вперед, взад-вперед.
Она вернулась к кровати. Завтра утром она должна немедленно переговорить с бабушкой. Позднее, когда он уедет, будут все готовить. А она должна будет многому учиться. Она очень необразована, – сказал он, – даже неприлично необразована.
Она засмеялась. Это придет. Она может хорошо учиться, когда захочет.
Сохранит ли он тогда свои комнаты там, во флигеле? А она здесь, наверху? Или, если бабушка…
Подвенечное платье – ну, об этом можно и не заботиться. Оно еще хранится от пра-пра-бабушки! Бабушка ей как-то показывала. Она тоже надевала его во время своей свадьбы, мама – также. Оно из тяжелого атласа и со шлейфом в восемь метров! Каждый раз его немного переделывают. Этим займется черноокая Фанни!
Цветы для невесты! Бабушка носила померанцевые цветы. Это потому, что она венчалась в Англии. У мамы были мирты, но Эндри их не хочет. Когда была свадьба Катюши, бабушка выписала мирты из Дюссельдорфа, и они – на самом деле – пахли франкфуртскими сосисками. Сначала она подумала, что так пахнет сама Катюша. Она сняла венок с ее волос и полила ее всю одеколоном. Затем снова понюхала и ее, и венок. Только Катюша пахла одеколоном, а миртовый венок – сосисками.
Если свадьба будет приблизительно через год, можно будет взять яблоневые цветы, вишневые. Но только они тотчас же опадают. Впрочем, это уже решит бабушка. Если она захочет миртовый венок, придется надеть его и целый день, как Катюша, пахнуть франкфуртскими сосисками.
Разве люди были так глупы, что не замечали этого запаха? Или замечали, но боялись это сказать, потому что… почему? Или эти сосисочные цветочки были чем-то священным? Об этом надо бы переговорить с Яном – уж он-то знает! А он может поговорить с бабушкой: он легко может настоять, чтобы она в день своей свадьбы не пахла франкфуртскими сосисками.
Тут внезапно у нее что-то случилось с сердцем. Она поднесла руку к груди: оно билось, но не болело. Что же это такое?
А, она знает: это страх. Страх?
Она снова встала, подошла к окну. Все еще свет в комнате кузена, все еще тень движется взад-вперед, взад-вперед! В чем дело? Почему он не спит?
Она почувствовала: он думает об этом письме и о женщине, его написавшей. Если бы она была с ним теперь этой ночью, то это бы прошло! Под ее поцелуем он забыл бы и ту женщину, и ее соблазнительные письма.
Она подбежала к двери, взялась за ручку. Но остановилась и не открыла дверь. Вчера ночью – вчера она бы пошла к нему без всяких размышлений. Он был ее двоюродным братом и никем иным. Но сегодня – сегодня было иначе. Она пришла бы к нему, как…
Как его любовница пришла бы она к нему сегодня… Так бы оно было. Он бы ее обнял, целовал и…
Этого бы он захотел, и она бы того же захотела.
А разве не было бы хорошо и так? Почему они должны ждать, пока она наденет на голову цветы, которые могут еще пахнуть франкфуртскими сосисками? В ее объятиях он забыл бы ту женщину, ту чужую женщину. Только это и нужно.
Она открыла дверь и – снова ее закрыла. А если она ошибается? Если он думает вовсе не о той женщине, если такой опасности не существует? Разве сегодня ночью она недостаточно навязывалась ему? Разве она должна еще бегать вокруг него, как на дворе курица вокруг надменного петуха? Должна пойти просить милостыню?
Откуда она знает, что он хочет ее, хочет сегодня, этой ночью?
Она заперла дверь и выбросила ключ через окно во двор. Тяжко вздохнула. Теперь это уже невозможно: не может же она спуститься со второго этажа по гладкой стене!
Но затем снова пришел страх. Она чувствовала совершенно ясно: он мечтает о той женщине, а не о ней. Она должна вырвать его у чужой, а все остальное – неважно.
Она рванула дверь. Дубовые доски и стальной замок: ей никогда не открыть!
– Петронелла! – крикнула она. – Петро…
Голос ее оборвался. Петронелла сегодня не спала рядом с ней. Она отправилась сегодня с отцом в Лесной Дом и осталась там ночевать. Что делать?
Она бросилась в постель – плакала и стонала. Зарыла голову в подушки, вздыхала, захлебывалась слезами.
И наконец заснула.
Проснулась Эндри очень поздно. Подошла к окну, увидала во дворе Фанни, бабушкину камеристку. Она позвала ее, велела поискать ключ и принести ей.
Черноокая Фанни нашла ключ и принесла.
– Барышня только теперь встала? Молодой барин еще спозаранку приказал запрячь лошадей и уехал со своими чемоданами…
Эндри не удивилась. Чувствовала: моя вина, моя!
Она выкупалась, оделась. Пошла искать бабушку и нашла ее в концертном салоне, во флигеле.
– Ян уехал! – сказала она.
Графиня кивнула головой:
– Еще до восьми утра. На одну минуту забежал ко мне попрощаться.
Эндри прошептала:
– Это из-за писем, бабушка, из-за писем!
– Знаю, – сказала графиня. – Это пройдет, мое дитя.
Она погладила ее по волосам, по лбу и по щеке, как делала всегда, – и увидела слезы в глазах внучки.
– Не надо плакать! – крикнула она. – В Войланде не плачут.
Ее правая рука была у груди, левой она взяла несколько аккордов.
– Ты видишь Яна не в последний раз, слышишь, Эндри?
Затем она начала играть. Это была «Партита».
Эндри стояла за ее спиной, слушала тихо, пока та не кончила.
– Для Яна, – прошептала она, – ты играешь это для Яна, бабушка.
Графиня обернулась:
– Почему ты так думаешь?
Эндри ответила:
– Это ведь «Партита» – значит: прощание и отъезд!
– Глупенькая! – сказала бабушка. – Это название музыкальной формы, как сюита или соната. Ничего общего нет с прощанием. Как это тебе взбрело на ум?
– Ян мне так объяснил, – возразила она. – Уже много лет тому назад. Это по-латыни, – сказал он, – происходит от слова «partire», что значит «уезжать».
– Он глупый мальчик, – воскликнула графиня. – Вероятно, теперь он знает это лучше.
Но Эндри настаивала:
– Нет, нет. Это звучит, как расставание. Ян это чувствовал.
Бабушка посмотрела на нее, улыбнулась и сказала:
– Ян также. Тогда это, может быть, для Войланда!
Глава четвертая
ЧЕЛОВЕК ИЗ ПУСТЕРТАЛЯ
Гвинни Брискоу сидела в личном кабинете своего отца и ждала своего друга Тэкса. Она была им очень недовольна. Она велела ему приехать ровно в двенадцать, уже было три четверти первого, а он все не появлялся.
Уже два дня, как она снова в Нью-Йорке. Она немедленно вызвала Эндри Войланд, и та пожелала, чтобы Гвинни, когда поедет в «Plaza», взяла с собою Тэкса Дэргема. А как могла она это сделать, если глупый юноша сидел в тюрьме?
Наконец, он явился. Гвинни встретила его весьма немилостиво. Его должны были выпустить в 10 часов утра – где он так долго пропадал?
Тэкс оправдывался: пришлось ждать. Тюремный директор был занят, затем он говорил ему большую речь о том, что он должен исправиться: в следующий раз вместо недели ему пропишут, по меньшей мере, три месяца.
– Они должны были бы тебя сейчас же совсем запереть на Блекуэльс-Айленд, – воскликнула Гвинни. – Ты этого заслужил, заставив меня так долго ждать!
Он вздохнул и замолчал. У Гвинни Брискоу своя логика, и ее не переборешь. То небольшое обстоятельство, что он ничего дурного не сделал и отдежурил в тюрьме неделю из-за нее, не имело для Гвинни никакого значения.
Произошло это так. Он должен был отвезти Гвинни во Флориду на своем автомобиле. Но она ни за что не хотела оставить его у руля. Сама же была в очень дурном настроении и пустила машину вовсю, как только выехала за город. И через четверть часа наехала на старика. Конечно, она заявила, что старик сам виноват, так как бросился под автомобиль. Он не пострадал и был очень доволен, когда Тэкс дал ему двадцатидолларовую бумажку за испачканные штаны. Но полицейский остался менее доволен. Он приказал им взять с собой в экипаж старика и поехал с ними сам, чтобы доставить их к судье.
Дорогой они обдумали, как быть. Гвинни уже пять раз штрафовали за быструю езду. В последний раз ее даже задержали в полицейской камере на сутки, и это оставило у нее дурное воспоминание. Она заявила, что это место совершенно не подходит для молодых дам. Тэкс должен был поэтому взять вину на себя. Он немедленно согласился, хотя и сам был уже два раза оштрафован за такой же проступок. Он разыграл кавалера и сознался судье, что правил машиной. Пострадавший это подтвердил. Судья, очевидно, в тот день был в таком же дурном настроении, как и Гвинни. Тэксу присудили сто долларов штрафа и неделю тюрьмы впридачу. Все это длилось менее получаса, затем они поехали дальше. А потом он должен был отсиживать эту неделю.
– Это очень грубо с твоей стороны, – стыдила его Гвинни. – Ты знал, когда я вернусь из Майами, почему ты не отбыл свое наказание раньше?
Тэкс защищался:
– Это не делается по желанию, Гвендолин. Приходит на дом повестка, и тогда надо явиться. И, кроме того, я ведь сидел за тебя.
– Какое это имеет значение? – спросила Гвинни. – Опять эти глупые отговорки.
– Хорошо, я больше этого делать не буду, – огорчался Тэкс. – В следующий раз можешь одна есть свой салат!
Она смягчилась:
– Если ты мне, Тэкси, пообещаешь, что всегда будешь сидеть за меня, то…
Он перебил ее:
– Всегда? При твоем способе езды я могу полжизни провести в тюрьме!
– Позволь же мне сказать! – крикнула она. – Я хотела бы тебе дать нечто особенное, если ты мне пообещаешь!
– Что же? – настаивал он.
– Сначала ты мне должен обещать, а затем я скажу. Ты будешь этому очень, очень рад!
Они торговались. Наконец, он уступил. Протянул руку и твердо обещал ей всегда брать на себя вину, и не только при автомобильной езде. Тогда она торжественно заявила:
– Тэкс, с сегодняшнего дня ты можешь меня называть Гвинни!
Он был не очень-то этим восхищен. Он постоянно называл ее Гвинни раньше, пока она не запретила. Гвинни – ба! Да всякий ее теперь так зовет! Теперь он уже привык к Гвендолин. Это ему приятнее, так ее называет только он один!
Она рассердилась:
– Если ты хоть раз еще назовешь меня Гвендолин, не смей больше приходить ко мне! Ты совершенно невыносимый, неблагодарный человек, увы! Кроме того, неверно, что все мне говорят «Гвинни». Только тесный круг имеет на это право. Вся прислуга и многие другие люди должны называть меня «мисс Брискоу»…
Ей очень понравилась фраза о «тесном круге». Очень умно прозвучало, когда она сказала:
– Тэкс Дэргем, я приняла тебя в мой тесный круг.
– Половина Нью-Йорка принадлежит к твоему тесному кругу, – подумал он. Вздохнул и промолчал – какой смысл спорить с Гвинни Брискоу?
Затем она предъявила ему свои требования. Он должен сейчас же узнать, кто на сегодня лучшие, самые лучшие фотографы. С ними он должен вступить в переговоры и с каждым договориться о визите на завтра после обеда.
– А если они в это время уже заняты? – возразил он.
– Ты всегда сам себе придумываешь затруднения! – крикнула она. – Если они заняты, то должны этим своим клиентам отказать. Это ведь совершенно ясно. Разве ты сам не мог до этого додуматься?
Все, что бы Гвинни ни приказывала, было по-детски легко и бесконечно просто. Это Тэкс Дэргем знал по опыту. Но когда он начинал ее желания осуществлять, они требовали огромных усилий. При помощи телефона ничего добиться было нельзя. Кто из уважающих себя фотографов унизится до телефонных переговоров? Надо ведь переснобить снобов!
Тэкс мог переговорить только с секретаршами. Они отвечали, что, может быть, недели через четыре…
Он бегал по лестницам вверх и вниз, ждал часами, ухаживал за принимающими клиентов дамами, подкупал их и, в конце концов, устроил то, чего хотела Гвинни. Само собою разумеется, втридорога! Это отняло у него все время. С огромным трудом он поспел на следующий день к обеденному часу в «Plaza».
– Я уже пять минут жду тебя, – встретила она его упреком.
– Но, Гвинни, – обратился он к ней, – ты ведь на самом деле торопишься. Ты велела мне быть к половине второго, а теперь только…
Она перебила:
– Все же ты должен был придти раньше. Не заставляют даму ждать одну.
Сошла Эндри Войланд. Они отправились в столовую.
– Это Тэкс Дэргем, – представила его Гвинни. – Он в полном вашем распоряжении, когда вы только ни пожелаете. Не так ли, Тэкс?
– Конечно! – пробормотал он. Еще недоставало, чтобы и эта дама пользовалась им, как мальчишкой на побегушках!
Конечно, он не сказал за столом ни одного слова, впрочем, и Эндри Войланд – тоже. И Гвинни обнаружила некоторое стеснение. Разговор вышел очень натянутый. «Дама-то довольно скучна!» – подумал Тэкс.
Когда Гвинни налила себе четвертый стакан ледяной воды, Эндри отняла у нее графин.
– Теперь довольно, Гвинни! – засмеялась она.
Тэкс прислушался: это ему понравилось. И он вовсе раскрыл глаза и уши, когда Гвинни отставила полный стакан и сказала:
– Простите, я не знала, что вам это не нравится.
Он подумал: «Она, может быть, и скучная, но у нее разумные взгляды».
Эндри рассматривала изящного юношу. Она была рада его присутствию – это оберегало ее от излияний Гвинни. Она почувствовала, как это комично – красавец Тэкс в роли старой дамы для соблюдения приличий между Гвинни и ею! Она не смеялась, а хотела только одного – снова очутиться одна в своей комнате. Дэргема ей было жаль за его беспомощную зависимость и полнейшее непонимание. Жалела она, несомненно, и Гвинни. Та выглядела восхитительно, как игрушка, как прекрасная, ослепительно чистая куколка – но такая, которая может сильно любить и сильно страдать! Эндри охотно пожала бы ей руку, слегка приласкала бы ее. Но она на это не решалась. Мало ли что натворит Гвинни в ответ, несмотря на присутствие Тэкса Дэргема и на заполненный посетителями ресторан? И в конце концов – если уж она кого-то хотела жалеть, то не начать ли с себя? Душевные страдания этих двоих, быть может, и велики. И все же они могут пройти. Она же, Эндри Войланд, вступает на неизвестный путь, по которому до сих пор еще, со дня существования мира, не шел ни один человек.
Они поехали к фотографам, сперва к Арнольду Генте, затем к барону де Мейеру и Николаю Меррей. Тэкс дивился: не Гвинни снималась, а лишь одна мисс Войланд. Барон де Мейер оказался упрямым. Он не допускал никого постороннего в комнату для съемок. Гвинни и Тэкс должны были дожидаться в приемной.
– Слушай, Тэкс, – сказала Гвинни, – ты должен ее попросить, чтобы она разрешила снять нас с ней вдвоем.
– Спроси ее сама, – отвечал Дэргем.
– Нет, нет, – воскликнула она, – это неудобно. Это выйдет неприлично, увы! Ты должен сделать, как если бы это исходило от тебя. Если она разрешит, ты получишь один снимок.
Это тоже был не очень ценный подарок. Ее фотографий у него уже накопилось до двадцати. А на что ему карточка той, другой? Но именно эту карточку Гвинни и считала каким-то необычайным подарком. Он пристально посмотрел на нее: кто такая эта дама, к которой Гвинни Брискоу чувствует столь безграничное почтение?
Как всегда, он исполнил ее волю, попросил немку о милостивом разрешении. Та соблаговолила. Тогда Гвинни немедленно приказала заказать дюжину таких снимков.
Когда они спускались в лифте, Эндри пришла в голову неприятная мысль. Уже несколько лет она не снималась. А теперь вот снова появятся дюжины ее карточек. И эти фотографии могут попасть – наверняка попадут – в газеты, когда все свершится! Сделают новые снимки, поставят рядом со старыми, как в рекламах о росте волос: до и после употребления!
Она повернулась к Гвинни:
– Я не хочу, чтобы негативы остались у фотографов: они должны быть во что бы то ни стало уничтожены.
Гвинни горячо поддержала:
– Слышишь, Тэкс? Ты должен достать негативы и разбить их у меня.
Тэкс вздохнул. Он хорошо знал, что фотографы не отдают своих негативов. Это снова потребует бесконечного труда, просьб, уговариваний и денег!..
Эндри Войланд вернулась совсем усталая. Утомительны были это необычайное положение, эти вымученные, несвободные разговоры. Она бросилась на кушетку, передохнула. Слава Богу, теперь она освободилась от Гвинни на целую неделю, может быть, на две.
Ее отец, Паркер Брискоу, был у нее в «Plaza» только один раз. Как полагается, он сопроводил свой визит цветами и конфетами. Они беседовали о том-о сем, едва перемолвившись словом о деле. Оно труднее, чем он предполагал, – сказал Брискоу, – но теперь его друг Штейнметц ему положительно пообещал прислать нужного человека, который все устроит. Если только это вообще возможно, то этот человек скоро поставит дело на рельсы.
– Кто такой? – спросила Эндри.
Имени Брискоу не знал, но предполагал, что это соотечественник старого Штейнметца, немец.
Затем Брискоу снова рассказывал о своей жене, умершей два года тому назад. Только ее он и любил, на другую женщину никогда и не смотрел.
«Он говорит о ней что-то слишком много», – подумала Эндри.
Конечно, он чувствует себя одиноким, совсем одиноким. И если дело кончится, как они все надеются, если он потеряет Гвинни, отдаст ее мисс Войланд, – тогда он останется совсем один на этом свете. Но что делать! Никакая женщина, никакая не может заменить ему покойницу.
Она, мисс Войланд, конечно… Иногда он думал, что она была бы способна действительно стать помощницей мужчины. Кто знает, быть может, Гвинни перерастет свою несчастную страсть раньше, чем будет слишком поздно…
А в конечном счете все то, чего он от нее требует и на что она хочет согласиться, просто безумие! Противно природе и противно воле Бога!
– Верите вы в Бога, мисс Войланд? – спросил он.
Она покачала головой и ответила:
– Временами…
Он откланялся, оставив ей чек на круглую сумму. Но постеснялся дать его в руки и сунул в цветы.
Эндри чувствовала, что могла бы пленить этого человека, несмотря на всю его слепую любовь к покойной жене и к живой дочери. Если бы захотела, она могла бы стать миссис Паркер Эспинуолл Брискоу и мачехой Гвинни. Это было бы чем-то несомненным и прочным, а все остальное – лишь дикие мечты.
Конечно, в конце концов, и это окончилось бы неудачей. Гвинни снова бы наделала глупостей и при нерассуждающей помощи Тэкса Дэргема нашла бы более действительное средство, чем лизоль. И тогда Брискоу…
– Ах, зачем думать дальше? Она не выйдет за Брискоу, и с этим покончено! Она предпочтет другое – то, что он назвал безумием.
Эндри Войланд легла на кушетку и стала вспоминать.
Что же происходило, когда Ян Олислягерс бежал из Войланда? Она отлично поняла тогда, что это было бегство. От нее и туда, к другой…
Она не плакала. Кусала губы и не плакала. Она надеялась…
Но Ян не писал ни единой строчки.
Недели через две прибыл орел. С ним – четыре крупных сокола, изжелта-серых кречета. С ними и тиролец. Гендрик ван дер Лер с Питтье поехали за ними в Клеве. Оба заявляли, что с тирольцем очень трудно сговориться. Он, правда, знает по-немецки и понимает, что они говорят, но сам употребляет какие-то небывалые слова.
Графиня решила, что его надо направить к старому Юппу. Тиролец быстро с ним сдружится и научится говорить по-рейнски.
Она приказала приготовить для него и его птиц прекрасную лесную хижину, лежавшую между замком и Лесным Домом. После обеда он должен был явиться к ней.
Эндри вместе с бабушкой сидела за чаем, когда длинный Клаас доложил о тирольце. Это был красивый парень, постарше двадцати пяти лет, с каштановыми кудрявыми волосами, усами и с маленькими веселыми карими глазами. Графиня поздоровалась с ним и осведомилась, как он доехал. Затем спросила его имя.
– Чурченталер, – ответил парень. Графиня изумилась. Что это значит? Как его зовут?
– А так. Зовут меня также Гросрубачер.
– Что? – переспросила графиня. – Гросрубачер?
– Так точно. Когда я ходил в школу, так, значит, жил у дедушки на хуторе Рубачер в Обервинтле в Пустертале.
Видя, что от него многого не добьешься, графиня дала ему карандаш, чтобы он написал все свои имена.
Он почесал за ухом и объяснил, что не вполне хорошо пишет. Наконец, удалось выяснить, что его зовут и Бартоломеем, и Лоисом.
– Хорошо, – сказала графиня, – мы будет звать тебя Бартелем.
Бартель имел в Войланде большой успех. Его смертоносные сокола работали хорошо и уверенно. Они не уступали войландским. Хотя они не имели имен и он их называл просто кречетами, графиня взяла их всех для собственной охоты. Она дала птицам пышные имена: Саломея и Сара, Сабина и Сюзанна. Бартель не был этим очень доволен. «Они ведь звери, а не христиане, – говорил он, – души не имеют, так зачем им нужны имена?»
Орел вначале разочаровал графиню. Выяснилось, что это вовсе не черный альпийский, а, скорее, белоголовый венгерский озерный орел, пойманный на падали и доставленный в замок Роденэгт. Птица была с великолепным кудрявым оперением, но годилась только для охоты, а не для ловли. Ее огромные когти наносили жертве слишком опасные раны.
Только один раз графиня взяла орла с собой на травлю цапель и позволила ему убить одну цаплю. Еще менее удовлетворила ее охота на диких кошек и лисиц, устроенная Бартелем. Графине было противно уже то, что надо было сначала поймать этих зверей, а затем пустить их перед орлом по полю. Орел взял обоих с большой уверенностью: ударил раз в живот, другой – в голову, чтобы лишить их возможности кусаться. Кошку он тотчас приволок к ногам охотников, и ее надо было добивать. Лисица храбро оборонялась. Она кинулась на землю и каталась с орлом так, что он ее бросил и отлетел от нее. Но едва лиса подумала, что может ускользнуть, как орел снова налетел на нее. Он повторил такой маневр дважды. Один глаз он выбил ей при первом же ударе, и лисица не могла уже верно нацелить на него свой опасный укус. Когда ее силы истощились, орел схватил ее и принес еще живою. Пришлось и ее добить дубинкой. Гендрик завистливо смотрел на эти штуки, но просиял, когда графиня воспретила всякую дальнейшую охоту на лисиц и кошек.
Но через короткое время Бартель со своим орлом приобрели большое расположение графини. Произошло это, когда она увидела орла на водяной охоте. Одним ударом он бил уток, приносил на перчатку и немедленно летел за другими. Когда он чувствовал усталость, то, как чайка, садился на воду, отдавая себя движениям волн. И снова прилетал по первому зову Бартеля, поднимаясь одним взмахом могучих крыльев. Он господствовал над водой, как над воздухом и землей. Ни одна ныряющая птица не могла от него ускользнуть. Он спокойно парил над поверхностью воды и, когда птица высовывала голову, был уже над нею. Она снова ныряла, пока не выбивалась из сил, и опасности задохнуться предпочитала смерть от его когтей и клюва.
Они стояли у берега Рейна. В двадцати-тридцати метрах над водой кружил орел. Внезапно, как ураган, он глубоко нырнул в воду. Поднялся ввысь, встряхнулся, как пудель, и принес на перчатку молодого охотника огромную щуку.
Графиня Роберта пришла в восхищение. Эндри – не меньше. Даже Гендрик должен был признать, что в наше время не только в их соколином гнезде понимают толк в птичьей охоте. Графиня приказала Бартелю изготовить для нее толстую кожаную перчатку и гарцевала на своем сером в яблоках с гордой птицей на руке.
Она дала орлу имя: Аттала.
С внучкой она беседовала о том, кого травить, когда вернется Ян.
Тиролец просил, чтобы ему дали серну или дикую козу.
Но графиня не хотела ни ловить для орла дичь, ни выписывать от Гагенбека какого-нибудь волка или шакала. Хотя гнаться за волком или шакалом по полю и приятно, – но нет, это была бы лже-охота – бесчестная и трусливая! Держать зверя на запоре, ухаживать за ним, кормить его, а потом дать ему свободу, чтобы затравить насмерть в болоте. А там отдать его в когти орлу и под конец добить дубиной!
Но у Эндри появилась другая идея, и бабушка за это даже погладила девушку. Можно было бы затравить дикого кабана и посмотреть, как справится с ним Аттала. Дикие кабаны забегали иногда в пределы Войланда и наносили окрестным крестьянам большой ущерб. Это был бы честный бой. Графиня дала приказ немедленно сообщить ей, как только появится черный дикий кабан.
Но Ян не приезжал в Войланд, не приезжал и не писал. Две женщины каждый день ждали его и тосковали.
Бартель из Рубачера имел большой успех. Майским вечером он сидел во дворе замка с цитрой на коленях, играл и пел. Все девушки толпились около него.
– Посмотри-ка, парень, что за толпа перед тобой, – сказал ему старый Юпп. – Все бабы за тобой бегают!
Бартель улыбнулся и запел тирольскую песню.
Эндри услыхала певца и подошла к окну. Она видела, как близко к тирольцу стоит Стина из коровника, сестра Катюши, такая же белобрысая неряха, как и та. Ее красная рука лежала на плече Бартеля, точно она хотела удержать его для себя. Около нее сидели и стояли прочие служанки, горничные, работницы. Несколько поодаль у скамейки, где сидели Юпп и Питтье, стояла Нелля, с нею рядом старая Гриетт, но менее других восхищенная. Даже изящная Фанни спустилась и стояла на лестнице, глядя на красивого Бартеля взором, в котором сквозило желание.
Старый Юпп взял своими сильными пальцами гармонику.
– Это правильно! – крикнул тиролец. – Сыграй немного на твоем органе с животом.
– Это вовсе не орган с животом, это духовой инструмент, – поучал его Юпп и запел сочиненную им песенку:
«Стина должна иметь мужа. Подходит уже последний срок, чтобы Стина получила мужа. Иначе она сойдет с ума!»








