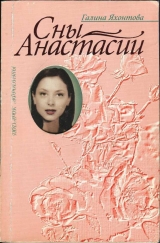
Текст книги "Сны Анастасии"
Автор книги: Галина Яхонтова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 12 страниц)
– Ребята, вы долго еще собираетесь тыкаться в темноте? – спросил чернявый с плохо скрываемым раздражением в голосе.
– Уходим уже, приятель. Завтра придем: проверить кое-что надо, – успокоил его участковый, а потом обратился к Насте: – И с вами, хозяйка, завтра побеседуем. Где мне вас найти?
Все еще находясь в состоянии легкой невменяемости, она назвала адрес:
– Добролюбова, десять дробь одиннадцать. Общежитие Литинститута…
А пока участковый записывал цифры и дроби в блокнот, успела подумать: „Почему я назвала именно этот адрес?“
– И что же, есть подозрения? – спросил пожарный у участкового.
– Есть. И у меня, и у следователя, – ответил тот. – Понимаешь, загорелась хата не от телевизора, не от утюга и не от газа… Нужно разобраться.
Следователь, казалось, соблюдал обет молчания и в разговор не вступал.
Но Настя поняла, что в полном соответствии с ныне здравствующей русской литературой этот сюжет дрейфует от распутинского „Пожара“ к астафьевскому „Печальному детективу“.
Она вышла из пожарной машины в перепачканной шубе, с нелепым пакетом с еще более нелепыми итальянскими туфлями и вошла в общежитие.
Вахтерша удивилась Настиному виду» но в этих стенах было не принято слишком сильно удивляться чему бы то ни было. Она проверила липовый пропуск, который, к счастью, оказался в сумке фирмы „Дэниел Рей“ и осталась удовлетворена.
Потом Настя вошла в лифт и механически нажала кнопку с цифрой „7“.
Сомнамбулической походкой она вышла на площадку седьмого этажа и увидела, что в двух шагах от нее пытается куда-то дозвониться по телефону-автомату поэт Ростислав Коробов. Собственной персоной.
– Настя?! – Трубка выпала у него из рук и повисла, распространяя короткие противные гудки.
– Да, это я. – С такой интонацией отвечают, наверное, только призраки.
Он опешил, поскольку не привык общаться с пришельцами из иных миров. Потом задал нелепый вопрос, в данном случае попав в самую точку:
– Откуда ты?
– У меня сгорел дом, Слава… Мне некуда больше…
Не договорив, Настя захлебнулась слезами и стала медленно оседать на пол.
Она не почувствовала, как Ростислав подхватил ее на руки и, словно Королевич Елисей Мертвую Царевну, понес в свою комнату.
Когда Настя очнулась, то увидела, что лежит на диване, укрытая теплым клетчатым пледом. Под головой она почувствовала не слишком мягкую – общежитскую, но все же подушку. Почему-то вспомнилось, как однажды в хозмаге наблюдала целую груду таких подушек, к уголку каждой из которых была пристрочена этикетка, где значилось: „Подушка перовая“. Еще тогда она подумала, что в этом эпитете следует заменить первую букву на „х“. Теперь Настя убедилась, что была права.
Комната была оклеена голубыми обоями в мелкий растительный рисунок – он делал ее светлее. Обстановка состояла из дивана, на котором она лежала, кровати, кресла странной круглой формы, больше подходящего для какого-нибудь киношного интерьера, чем для комнаты в общежитии. Были здесь еще и два стола – письменный и обеденный, а также несколько стульев и три безногих тумбочки, по правилам общежитского дизайна поставленные друг на друга так, что образовывалась новая функциональная единица – столбик. Как говорится, количество перешло в качество. Голубые занавески шевелились вблизи открытой форточки. И казалось, что за окном кто-то дышит.
Ростислав вошел, тихо прикрыв за собой дверь. Сначала он остановился в маленькой прихожей, отделенной от основного пространства комнаты темно-ультрамариновой шторой. Как оказалось, там находилось два встроенных шкафа: один для одежды, а другой для всяческих кухонных потребностей. А Ростислав искал сахарницу.
– Я заварил чай. Будешь? – спросил он буднично.
– Буду, – так же буднично ответила Настя.
Он протянул ей сначала чашечку чая, а потом зеркало на длинной ручке. Она увидела, что лежит в шикарной крепдешиновой блузке, в дивном шелковом платке, измятом, как цыганская юбка, на подушке, перепачканной темными пятнами. И лицо ее тоже было покрыто серо-черными разводами, намалеванными пеплом, слезами и остатками косметики. Светящиеся рыжеватые волосы придавали ему и вовсе потустороннее выражение.
– Я сейчас, сейчас, – забормотала она и потянулась к сумке в надежде отыскать там хотя бы носовой платок. Рука наткнулась сначала на зачехленный диктофон, а потом на какую-то книгу. Это оказался „Молот ведьм“.
* * *
Белый снег медленно кружил за окнами, наполняя голубую комнату таинственным мерцанием. В относительной „общежитской“ тишине, время от времени щедро сдабриваемой самыми невероятными звуками, шепот, на который они перешли, казался почти сакральным. Гремели проносимые по коридору кастрюли и чайники, звучали разноязычные голоса, кричали кошки и дети. А Ростислав и Настя шептали друг другу какие-то бессмысленные слова.
– Не было счастья, да несчастье помогло, – говорила она, боясь впасть в кощунство.
– Это Бог привел тебя ко мне, – вторил он.
Несколько раз в дверь стучали, что ровным счетом ничего не значило. Но Ростислав все же взял лист бумаги и вывел четким почерком: „Не беспокоить“. Плакат, похожий на белый стяг, сделал мрачный коридор чуть светлее.
А снег все падал, падал… И Ростислав зажег свечу, чтобы было совсем как у Пастернака:
…Метель лепила на стекле
Кружки и стрелы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.
На озаренный потолок
Ложились тени,
Скрещенья рук, скрещенья ног,
Судьбы скрещенья…
Его золотой нательный крестик, управляемый золотой цепочкой, словно марионетка исполнял странный танец на ее груди. И ей больше не хотелось быть ведьмой. Она жаждала вечно пылать на этом костре.
Белые хлопья за окнами вдруг, на пороге забытья, показались черными, как чешуйки пепла сгоревших рукописей.
А потом Насте приснился сон, один из многих, из целой рати снов, которых она пугалась.
На огромной рыночной площади не было ни зеленщиц, ни корзин с фруктами, ни ремесленников с их нехитрыми товарами.
Площадь казалась пустой, как еще не накрытый поминальный стол.
Но вот появились вооруженные всадники. Они вели группу закованных в кандалы людей, измученных и избитых. Их оставили на площади под охраной нескольких конвоиров. Остальные стражники снова куда-то умчались.
Настя смотрела на площадь с высоты Брейгелевской перспективы – с птичьего полета, но точка ее обзора неожиданно опустилась ниже, и она различила, что люди, закованные в кандалы, – женщины. В грубых рубищах, с короткими, очевидно опаленными огнем волосами, они стояли и ждали.
Чего?
Своей участи?
Стражники возвращались, и за конным патрулем двигалось несколько тяжело груженных подвод. Их тащили волы, а волами управляли тоже женщины в кандалах.
Настя не слышала голосов, но понимала, что на площади будет возводиться какое-то сооружение: подводы были нагружены досками и хворостом.
Закованные женщины медленно, словно в полусне, принялись за работу. Они раскладывали доски, доставали гвозди, брали в руки молотки.
И все – в мертвящей тишине. Не слышно было даже ударов. Гвозди бесшумно и словно без усилий входили в дерево, чужеродно поблескивая на желтой смолистой поверхности, оставляющей занозы на нежных, закованных в железо руках. Женщины строили.
Настя с ужасом понимала, что они возводят плаху. На базарной площади в безлюдном городе будут кого-то казнить.
Желтые Готические соборы приятно сочетались по цвету со свежими досками. А черепичные крыши предвещали кому-то восшествие на престол пламени.
Посреди плахи, к подножию черного как уголь столба, легла вязанка хвороста.
Здесь будет казнь… Женщины заканчивают работу, безропотные, плененные за неведомые преступления. Может быть, все они ведьмы, эти бесшумно стучавшие тяжелыми молотами великомученицы?
На вороном коне появился черный всадник. Он черен весь – даже лицо его было закрыто непроницаемой маской с узкими прорезями для глаз.
Медленно развевался на несуществующем ветру иссиня-черный плащ. Блестели, отражая небо, высокие ботфорты.
Он спешился и поднялся на помост.
И Настя поняла: это палач.
Черный человек выбрал одну из закованных женщин. Его выбор казался совсем случайным. Обреченно одна из несчастных поднялась на эшафот.
Палач снял оковы сначала с ее ног, а потом – и с рук. Привязал жертву к столбу, отступил на несколько шагов, словно хотел полюбоваться на свою работу.
Наверное, композиция показалась ему незавершенной. Он возвратился, чтобы разорвать на несчастной платье. Один взмах огромной руки в кожаной перчатке, и дряхлые нитки рубища расступились, обнажая божественное тело.
Та сущность, которой Настя была во сне, стремилась подлететь поближе. Какая-то сила неодолимо влекла ее – нет, не к этой женщине, но к тому, что должно с ней произойти.
Она приближалась. Она подняла голову, и Настя узнала ее: она – это сама Настя: ее каштановые вьющиеся волосы, ее серые глаза с нетающими льдинками на дне, ее чуть удлиненные мочки ушей. Настя узнала собственное тело, каждый изгиб, каждую родинку.
И вдруг родинка на левой груди стала крошечной бабочкой, расправила крылья и улетела. За нею летели еще несколько маленьких черных бабочек с бархатными на вид крылышками.
Но палач не замечал этого полета. Он произнес:
– Ты познала таинство любви, а теперь познай же таинство смерти!
Подручный подал ему смрадно чадящий факел. Хворост вспыхнул, как порох, и огонь спас обнаженное женское тело от стыда и масляных взглядов стражников.
Как только ведьма скрылась в пламени костра, палач снял маску, и Настя узнала его: это Валентин.
* * *
Она проснулась с испариной на лбу и некоторое время не могла сообразить, где находится. Лишь мерно падавший снег за окном и чье-то тихое дыхание рядом вернули ее к реальности. Она закрыла глаза, и слезы, которые стояли в них, быстро скатились на „перовую“ подушку. Она была невыразимо счастлива, слыша рядом дыхание мужчины. Настя положила руку ему на лоб, как когда-то мама клала свою ладонь на лоб ей.
Спать больше не хотелось, и она сняла с полки книгу, как ей казалось, наиболее соответствовавшую ее состоянию. Это были избранные произведения Донасьена Альфонса Франсуа де Сада.
„К чему хранить верность тем, кто никогда не соблюдает ее по отношению к нам? Разве не достаточно нашей слабости, чтобы добавлять к ней еще и нашу глупость? Женщина, стремящаяся внести утонченность в любовные отношения, безмерно глупа… Поверь мне, дорогая, меняй любовников, пока возраст и красота позволяют тебе, забудь порожденное фантазией твоей постоянство, добродетель унылую, нелепую и весьма бесполезную, и никогда не навязывай того другим“.
Но в это утро Настя не хотела соглашаться с мыслями, высказанными героиней де Сада. А еще месяц тому назад она повторила бы эти слова вслед за ней, как клятву.
„Что же меняется: я или жизнь? Может быть, я старею?“ – думала она.
Всяческих „материальных помощей“ едва хватило на кое-что из одежды. О том, чтобы начать ремонт в квартире, не могло быть и речи. И Настя решила отложить это мероприятие по крайней мере до весны. А сама осталась жить в общежитии, в семьсот тридцать четвертой комнате, которая числилась за слушателем ВЛК Ростиславом Коробовым.
Ее появление здесь никого не удивило: у многих странствующих поэтов заводились верные временные подруги, так что седьмой этаж напоминал большую коммунальную квартиру с общей кухней…
Новая роль заботливой женщины и умелой хозяйки постепенно входила в свою колею. И ежедневно Настя играла в одном и том же спектакле: магазины, кухня, плюс неизменная редакция, институт и все прочее.
В один из таких обычных уже дней Настя спустилась на лифте вниз.
На первом этаже, неподалеку от вахтеров стоял Петропавлов. Она слегка удивилась, увидев его здесь: ведь он не жил в общежитии. „Наверное, пришел продавать книжки“, – предположила она и ошиблась.
– Настена! – улыбнулся он широкой улыбкой Луки из „На дне“.
– Привет, Авдей. Какими судьбами?
– Да, вот, киску принес. Возьми киску, а…
– А домой чего не несешь?
– У мамашки-то аллергия. Особенно на все мохнатое.
– Ну да, на тебя, например. – Она укоризненно посмотрела на его голову.
За пазухой у Петропавлова что-то шевелилось. Явно не камень. А впрочем, это оказалось весьма точным сравнением, потому что два зеленых изумрудика вдруг засияли на высунувшейся мордочке. Черное чудо с белыми лапками, носиком и грудкой выглядело просто очаровательно. И Настя, вспомнив, что кошки всегда были спутницами женщин, решилась на безумный поступок.
– Возьму, Авдей. А он не блохастый?
– Сама ты блохастая… И, между прочим, это кошечка. Только прошу тебя, не выбрось ее на улицу.
Она взяла усатую красавицу, и та доверчиво приникла к ее груди.
– У меня, Настя, к тебе еще одно дело будет… Но это потом… В институте поговорим. Ладно?
– Ладно, – ответила Настя даже не пытаясь представить, какое дело может возникнуть у непредсказуемого Петропавлова.
Вскоре Настасья убедилась, насколько соответствует истине расхожее мнение о том, что кошки считают себя хозяевами в доме. А обитателей этого дома воспринимают приблизительно так, как мы воспринимаем их.
Гера лежала на коленях у Ростислава, и он не мог удержаться, чтобы не почесать ей за ушком.
– Знаешь, Настенька, мой сын очень любил котят, – вздохнул он.
– Все дети любят котят. – Она попыталась перевести „вечер воспоминаний“ в другое русло.
– Где он сейчас? Раньше хотя бы по выходным я имел возможность повести его гулять. И мы шли в парк или к морю…
К морю… Настя представила, как он водил своего малыша к их морю, и волны бились о берег, высокие – почти в человеческий рост. Наверное, волны казались малышу просто огромными! И они оба смотрели на солнце, щурясь, становясь похожими на японцев: большого и маленького.
Настя видела фотографию Юры. Мальчик был очень похож на отца. Особенно разрезом глаз.
– Ты почему ушел от них?
– Потому что я так и не научился жить с семьей. Они все время были рядом, и я нигде не мог найти одиночества. Я боялся раствориться в их ауре, боялся ощущать себя человеком Средневековья, который еще не „отпочковался“ от общества.
– Мы живем с тобой вместе уже месяц. Ты не боишься раствориться в моей ауре?
– Мы живем с тобой, как на вулкане, Настя. Здесь все временно: я, ты, эта комната, где каждые два года появляются новые люди. И все они живут, думают, пишут, а потом исчезают, уходят, возвращаются в прошлую жизнь.
– Ты не ответил на мой вопрос.
– На что я не ответил?
– Ты не боишься привязаться ко мне?
– Мы оба свободны, Настя. Мы оба – как она. – Ростислав поднял Геру на ладони вытянутой руки, и кошечка, почувствовав себя неуютно, ощутимо царапнула эту руку.
– Ой! Сатанинское создание…
– Дай ее мне. Вот так, моя хорошая, на, попей молочка… Я устала от свободы, Слава. Я устала сама отвечать за свои поступки. Я устала гулять сама по себе.
– Это потому, что ты не знаешь, как мучительно бывает вдвоем, когда, кажется, невозможно расстаться. И тогда время останавливается, а часы выстукивают: „Так будет всегда!“
– Все так живут. Все – значит, это верный путь.
– Какая ты еще маленькая, Настя. Я же люблю тебя. Что тебе еще нужно? Быт? Тебе мало быта здесь, в этой комнате?
– Я хочу заново отстроить свой дом и жить в нем. Разве это плохо?
– Знаешь, малышка, когда-то очень давно жил один философ, который бродил по свету и думал. Так вот он сказал, по-моему, замечательную фразу: „Мир ловил меня, но не поймал“. А ты жаждешь быть пойманной этим миром.
– Я хочу быть с тобой.
– Ты и так со мной. Ты всегда была со мной, потому что я всегда тебя помнил.
– Даже в день своей свадьбы? – Настя уже готова была расплакаться.
– Ты смешиваешь два понятия: „быт“ и „бытие“. Ты – это бытие. Мое бытие, которое определяет сознание. – К Ростиславу вернулось хорошее настроение. – Кстати, ты не забыла, что скоро твой день рождения? Тут в журнале какие-то гороскопы. Прочесть твой?
– Да, пожалуйста. – Она устала вести этот беспредметный квазифилософский спор.
– Итак, Стрелец. Жизнерадостна, пристрастна, постоянно требует смены впечатлений. Любит сенсации. Уравновешенна, непринужденна в общении. Чувственное наслаждение от вкуса, запаха, звука, изображения приносит ей радость. Больше всего на свете любит собственное тело. Сексуальные возможности практически неограничены – как количественно, так и качественно. Разрывает брачные узы с мужчиной слабого или среднего темперамента, потому что в противном случае ее ждут бесконечные неврозы или постоянные внебрачные приключения. При успешном выборе партнера сохраняет ему верность. Секс в ее исполнении – мистерия, спектакль… Ну, и что скажешь?
– Что-то есть…
– Я скажу тебе больше: здесь все правда. Особенно, что касается мистерии и спектакля. Иди ко мне. Иди же…
За окном Останкинская телебашня, усыпанная красными огоньками, казалась похожей на новогоднюю елку. Скоро Новый год. Меньше чем через месяц. А завтра, тринадцатого декабря, у Анастасии Филипповны, день рождения.
Чем же был знаменателен этот год? Она написала детектив, который забраковал издатель. Потом погрузилась в будни эротики и даже сочинила две „сказки“, которые сгорели вместе с таинственно вспыхнувшей квартирой. По поводу этого сначала собирались вроде бы открыть уголовное дело. Но за недостатком улик разрабатывать версию прекратили, констатировав „возможное самовозгорание“.
Что еще случилось в этом году? Она встретила и бросила Валентина, открыла, что за женоненавистнической маской Гурия Удальцова скрывается мирный и добрый человек.
А еще она снова встретила свою любовь и поняла, что она была единственной.
Е-дин-ствен-ной!
Настя попросила всех приглашенных не дарить ей подарков, а принести что-нибудь выпить и закусить. И ребята приняли ее предложение на „ура“. Узбек Улугбек взялся готовить плов в привезенном с собой в Москву пудовом казане. Все узбеки возят с собой подобные ритуальные сосуды, потому что без плова жить не могут. А армяне возят большие-пребольшие кастрюли. И сегодня Грачек в одной из таких посудин собирался сварить настоящий армянский хаш. Остальные обитатели этажа, судя по отсутствию ажиотажа на кухне, собрались поздравить Настю в более интернациональных традициях. Например, бутылкой коньяка и десятком соленых огурцов.
Сидя за теннисным столом, застеленным бумажными скатертями, Настя впервые поняла, что житие в общежитии в чем-то похоже на совместное участие в боевых действиях. Между „сожителями“ возникает общность почти как между сражающимися бок о бок солдатами. И этому способствует все: изолированность от остального мира, оторванность от семей, огромная концентрация наделенных склонностью к творчеству людей на очень небольшой площади. Здесь люди как бы немножко сходят с ума, впадая в перманентную борьбу с миром, которому они вовсе не нужны, но который яростно пытается поймать их…
Настя поднялась в комнату, оставив веселиться и большую компанию, и Ростислава. Как только ее усталое тело распласталось на постели, малышка Гера, бросив удобную лежанку в кресле, прыгнула на одеяло и свернулась калачиком. Настя взяла ее под одеяло и прижала к себе. Теплое живое существо устроилось у нее на груди и даже ткнулось мокрым холодным носиком в сосок. От этого прикосновения она вздрогнула, как от неожиданного удара, волна пробежала внутри тела – от макушки до пяток.
И Анастасия поняла, что хочет ребенка, маленького и родного, своего. Она слегка испугалась, потому что никогда раньше столь земные мысли не отягощали ее Бог знает чем забитую головку. С этой безумной мыслью она и уснула.
Проворная Гера выбралась из-под одеяла и снова устроилась в кресле.
В комнате у аспирантки Марины тихо играла музыка. У нее всегда играет музыка.
– А знаешь, Настя, ты оказалась права.
– Ты о чем?
– О том, что издатели все же возьмут мой перевод Харольда Робинса. Я даже получила аванс и сейчас буду тебя угощать. Ты ведь не слишком торопишься?
– Нет. Коробов творит, а я ушла, чтобы ему не мешать.
– Я польщена, что лучшее место „не мешать Коробову“ ты нашла в моей комнате. – Марина засмеялась.
– А где твоя… мегера?
– К счастью, она сняла квартиру.
– Квартиру? Одна?
– Да нет, с абхазцем.
Кавказцы, в том числе и абхазцы, поступали в Литинститут почему-то огромными толпами, и все пять лет этими самыми толпами и передвигались с курса на курс. Чем они занимались, эти „гости Москвы“, точно не знал никто. Но очень ошибался тот, кто думал, будто они здесь писали стихи. Раньше, говорят, они промышляли в основном куплей-продажей. А на данном историческом этапе, очевидно, обсуждали планы военных действий…
– Она что же, вышла за него замуж? – поинтересовалась Настя.
– Да нет. Ее вполне устраивает, что он платит за квартиру, – объяснила Марина и с гордостью добавила: – А знаешь, ведь она с ним ушла, чтобы меня не видеть! Я ее выжила!
– И кто же теперь живет в соседней комнате?
– А никто. Она ее держит в резерве.
Насте стало весело.
– Я у тебя тут посижу? Да? – извиняющимся тоном спросила она.
– Конечно! А я пока поставлю тушиться мясо. Купила классный кусок говядины. Осталось только его нашпиговать разными разностями и полить столовым вином.
Она вышла из комнаты, неся перед собой в небольшом тазике мясо, специи, бутылку винного уксуса, нож, большую вилку… На общую кухню, как и в общую баню, каждый приносит все необходимое с собой.
На столе лежала какая-то книга, которую хозяйка комнаты, очевидно, теперь прорабатывает.
„Зигфрид Шнабль, „Мужчина и женщина“, – прочитала Настя. – Ого, да наша вечная девушка втихаря интересуется сексологией!“
Закладка была заложена там, где начиналась глава „Аноргазмия и любовь“.
– Что, Шнабля читаешь? – Марина забежала на минутку.
– Оказывается, мне интересно и такое чтиво.
– Может быть, ты замуж собралась? – весело спросила Марина.
– Не знаю. – Настя искренне была не в состоянии ответить на этот вопрос.
Марина посмотрела на нее долгим внимательным взглядом и перевела разговор на другую тему.
– Ну, ладно. Пойду сторожить „жарево“. А то, знаешь, сопрут.
– Знаю, – ответила Настена, – у меня вчера со сковородки несколько кусков рыбы утащили.
Когда после сытного ужина она поднялась к себе на седьмой этаж, перед ней предстало увлекательное зрелище. Два алтайских поэта играли в лошадку. Один вел другого вдоль по коридору, предварительно накинув на приятеля импровизированную сбрую из двух махеровых клетчатых шарфиков, связанных толстым узлом. На Настю они не обратили никакого внимания.
– Еще раз пройдем – и будем квиты, – говорил один.
– Нет, уже хватит. Я столько тебе не проиграл, – отвечал другой.
Ростислав пребывал в мрачном расположении духа – она поняла это с первого взгляда. Он сидел за столом, созерцая чистый лист, а на полу было белым-бело, словно прошел снегопад. На измятых листах бумаги выделялись черные, как вороньи следы, закорючки.
Настя ни о чем не спросила бедного поэта. Она молча застлала постель и легла. Гера свернулась клубочком рядом. Настя спала, и свет настольной лампы не мешал ей…
Среди ночи ее разбудили странные звуки и голоса. Наверное, в соседней комнате разрушался мир… Он распадался на гортанные слова со множеством согласных, казалось, непроизносимых, а потому ошеломляющих. Там, далеко, в иных мирах и пространствах, что-то читали нараспев, может быть, причащались священной книгой, а может, отпевали покойника. Настя слышала голоса, не понимая ни единого слова. Но звуки казались огненными, булатными, упруго стальными, как ветры в ущельях гор. Голоса утихли, и до нее донеслась музыка – старинный мусульманский напев, которому разгуляться бы где-то над Босфором или Ферганской долиной. Он звучал в восемнадцатиметровой московской „келье“ с почти разрушительной силой.
Насте казалось, что рушится не старое общежитие, а само мироздание, что за каждым из слышимых звуков прячется целое сонмище ультразвуков неведомой силы.
Ростислава рядом не было. Не было его и в комнате, хотя лампа продолжала гореть, как неугасимая звезда любви.
Настасья набросила халат и вышла в коридор. Дверь оказалась незапертой. Коридор был пустынен, как Сахара.
Из соседней комнаты, откуда уже не доносились непонятные звуки, вышел узбек Улугбек.
– Настя-ханум, чего не спишь, поздно уже.
– А ты чего не спишь?
– Акмухамед Коран привез, кассеты с музыкой привез из Турции. Мы читали, пели, слушали. Еще будем.
Она почувствовала, что от него исходит какая-то мощная энергия, но не черная и, как следовало бы предположить, не „зеленая“, а просто новая.
– Ты не знаешь, где Ростислав?
– В „Сибирь“ ушел, кажется.
Уйти в „Сибирь“ на местном жаргоне означало оказаться в комнате, где жил Володька Старых, сибиряк, магаданец и по совместительству чукча. Эта комната находилась в противоположном конце коридора и была знаменита тем, что там шел перманентный запой.
Там пили всегда. Менялись дни и ночи, бутылки, огрызки на столе, появлялись и исчезали действующие лица. Но топка пьянки горела, как вечный огонь.
– Спасибо, Улугбек-джан. – Настя поблагодарила соседа за информацию.
– Может, ты голодная? Вилка – давай, тарелка – давай. У нас плов есть.
Тяжело было отказаться от плова, настоящего, восточного, но сейчас мысли были заняты другим. Сосед заметил ее минутное замешательство:
– Дверь ваш открыт. Я сам тарелку возьму. – Он улыбнулся так белозубо, как это получается только у смуглых людей.
Настя увидела, как из „Сибири“ вышли два человека и направились в ее сторону. Похоже, они не замечали ее, занятые ощущениями, полученными в „Сибири“. Она видела, что они „импозантно“ одеты: один, повыше, был в серых брюках, но с обнаженным торсом, а другой, пониже, – в таком же сером пиджаке, прекрасно сочетавшемся с полосатыми трусами и черными ботинками на босу ногу.
Вдруг они замерли, очевидно, заметив ее. И тот, что пониже, неожиданно присел, прикрывая явно коротковатыми для такого дела фалдами пиджака свои голые волосатые ноги.
– Леха, вставай, пошли, – дергал его за рукав спутник.
– Не могу, Ваня, там же девушка, – галантно отвечал Леха.
Настя прошла мимо, сделав вид, что не заметила демонстрации моделей.
Дверь в „Сибирь“ была приоткрыта, и из щели доносились обрывки оживленного разговора.
– Да ты что, не может быть, чтобы у моржа – и такой х…
– Да точно, б…, точно тебе говорю, у этих ластоплавающих в хрене косточка есть. Мне одну, вот, чукчи подарили – вас потешить.
Анастасия вспомнила, что читала что-то подобное в сгоревшем „Тропике Рака“ Генри Миллера. Когда она вошла, то увивсем по-детски, словно рогатку или палку, передавали друг другу, пустив по кругу, какую-то изогнутую кость примерно в треть метра длиной. Кость была грязно-желтого цвета, как протравленные никотином зубы.
– Мальчики, а где Ростислав?
– Настя? Ты только не волнуйся. – Настя сразу испугалась.
– Где он?!
– Вышел, милая. Скоро придет.
– Как – вышел? – В памяти мгновенно всплыла легенда о том, как когда-то „вышел“ Гурий Удальцов. – Куда?
– Туда. – Старых указал на окно.
Настя едва не лишилась чувств. Невесть откуда в ее руке оказался стакан, в котором еще оставалось несколько глотков на дне.
– Выпей. А он сейчас придет.
Она проглотила мутную жидкость и поняла, что это была скорей всего сивуха. На столе стоял полный до краев стакан, наверное, с водой. Она схватила его, чтобы запить принятую мерзость. Но неосмотрительно выпитые несколько глотков обожгли рот. Горело все нутро.
В то время как Настя задыхалась, словно выброшенная на сушу рыба, жадно заглатывая воздух, мужики одобрительно хохотали.
– Вот это девушка! Самогонку спиртом запивает! Чудеса, да и только.
В голове у нее помутилось, ноги стали ватными, а руки бессильно повисли. Она присела на услужливо придвинутый кем-то стул и снова спросила, демонстрируя просто маниакальную пристрастность:
– Так где же он?
– Сейчас придет. Ушел за бутылкой в таксопарк.
На ночь двери общежития закрывались наглухо, перекрывая все возможности входа и выхода. Но именно ночью в этом здании с магическим числом этажей вдруг нарастало ощущение тотальной тревоги, как нарывы, вскрывались творческие кризисы, и тогда призрак алкоголизма бродил по коридорам, навевая жажду на несбывшихся поэтов и удачливых графоманов.
А путь к утолению жажды был один-единственный, как жизнь: стальная пожарная лестница, словно ржавый шрам украшавшая здание. И выход на эту лестницу находился как раз справа от окна „Сибири“.
Ни жива ни мертва Настя неподвижно сидела в кресле, а компания продолжала оживленную беседу.
Наконец она услышала, как где-то далеко внизу металлически застонала лестница.
Володька тоже прислушался, подошел к окну, растворил его настежь, и промерзший декабрьский воздух, насыщенный запахами почерневшей опавшей листвы, заиндевелых проводов, старинных аллей, нечистот, разрушенных особняков пушкинской эпохи, запущенных дворов, словом, запахами предновогодней Москвы, затопил комнату, заставив ее дрожать не только от волнения, но и от холода.
Лестница стонала все ближе и ближе. Ростислав возвращался. Он преодолевал этаж за этажом и где-то между пятым и шестым приостановился немножко отдохнуть. Настя поняла это, потому что услышала его голос.
– Я уже тут, Вовик. – Голос был радостный. – Извини, что так долго. Представляешь, они испугались, что я из „легавки“. Я же в первый раз пошел, они меня в лицо не знали. Пришлось предъявить писательский билет. – Он засмеялся.
И снова пошел лестницей вверх. На высоте седьмого этажа остановился, слегка отдышался и поправил в кармане бутылку, чтобы, не приведи Господь, не выпала. Потом он сделал широкий шаг с лестницы на подоконник. Володька успел подать ему руку, и Ростислав, посиневший от холода, ввалился в комнату.
– Ну ты даешь, друг, – выдохнул Старых, – еще б чуть-чуть – и взлетел бы, как ангел. Я едва успел твои скользкие пальцы поймать.
Но Ростислав не слушал его.
– Настя? Что ты здесь делаешь? – Веселые нотки в его голосе сменились на раздраженные.
– Не видишь – пью! – сказала Настасья, встала и направилась к двери. – Свечку в церкви поставь за чудесное спасение! – это она произнесла уже на пороге.
На столе в комнате ее ждала полная миска чудесного рассыпчатого плова.
Тридцать первого декабря к Улугбеку прилетела жена.
Анастасия знала, что их у него две – Зульфия и Амина, но не решалась спросить у приверженца шариата, которая из женщин решила почтить мужа своим присутствием.
Он представил ее сам:
– Настя-ханум, это – Зульфия-ханум, поэтесса.
Поэтесса казалась воплощением всех грез Востока: и луноликая, и бровь полумесяцем, и черных прядей завеса, усмиренная в двух косах. Только вот стан красавицы на данном этапе не вписывался в поэтику: вызревавший маленький восточный гражданин заставил ее носить широченное платье. Беременная Зульфия, очевидно, чувствовала себя несколько неловко, и это было заметно в каждом ее движении и слове.






