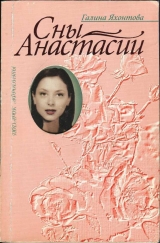
Текст книги "Сны Анастасии"
Автор книги: Галина Яхонтова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 12 страниц)
Полдня она наводила порядок во временном доме мужа, не разделенном, как принято у узбеков, на мужскую и женскую половины.
А к вечеру в дверь постучал Улугбек, и с выражением лица, какое бывает у радиста, передающего сигнал бедствия, попросил:
– Ростик-джан, зайди к Зульфие, она плачет, рыдает, спросить хочет.
Ростик-джан зашел к Зульфие, которая на самом деле рыдала и плакала. Он вернулся в комнату через полчаса с пакетиком соленых абрикосовых косточек и урючиной за щекой, так что казалось, будто у него выскочил флюс. Сначала Настя испугалась, что щека у него вспухла от неожиданной пощечины, но потом, поняв причину косметической перемены, мысленно посмеялась.
– Что там, Слава?
– Презабавнейшая история. – Он достал из кармана обрывок листа бумаги. – Вот, почитай.
На листе почерком Улугбека со множеством русификаторских правок Ростислава было начертано:
„Милая Татьяна!
Нам, восточным парням, свойственны как скромность, так и беспощадность.
Я не хочу тебе льстить, поэтому пишу как есть. В твоем облике я увидел любовь, доброту, уверенность, а также незримую красоту – те качества, которых не замечал у белых женщин.
У меня появилось желание долго разговаривать с тобой, не скрывая своего удивления.
Жаль, что ты ушла…
Жду доброго времени – времени встречи.
Твой турецкий мальчик“.
Прочтя подпись, Настя сразу представила себе статуэтку „Турецкий мальчик“ с улыбкой, как у фарфорового китайчонка периода культурной революции и с гиперболизированным предметом на том месте, которое избрал для художественных экспериментов при изображении жеребцов Настин давний приятель анималист-портретист.
– Что это такое? – спросила она.
– Понимаешь, я когда-то помог Улугбеку составить послание, он текст переписал начисто, а черновик оставил для пущего непредвиденного случая, чтобы больше ни к кому не обращаться за помощью, Ты же понимаешь, как он по-русски…
– А Зульфия, значит, нашла этот образчик вашего коллективного творчества?
– Ну, да. И полчаса меня допрашивала, была здесь некая Татьяна или нет.
– Забавно.
– Слушай, Настя, ты б зашла к ней, успокоила как женщина женщину. Все-таки, я не смог. Беременная она ведь.
В соседней комнате шел оживленный разговор. Настя постучалась, двери открыла сама Зульфия:
– Настя-джан, заходи.
Улугбек стоял у окна, и вид у него был, как у побитой собаки. Зульфия сразу же перешла на „великий и могучий“, который, как оказалось, знала намного лучше, чем муж.
– Вот, Настя-ханум, посмотри на него! Бабник! Гуляка! Зачем женщин водишь?
Улугбек покраснел настолько, насколько позволял цвет его лица.
– Тра-та-та-та! – ответил он что-то.
Насте послышалось именно „тра-та-та-та“.
– Что? Сам ты какой? Вэрблюд ты, вэрблюд.
– Кто я? Кто? – Улугбек быстро снял с полки толстенный русско-узбекский словарь и стал нервно просматривать все на букву „в“. Докопавшись до истины, он побелел от злости.
– Я? Я – „тра-та“? Ты посмел меня так назвать, презренный женщина!
Он выскочил из комнаты, словно за ним и вправду гнался двухгорбый плевака, пригодный в условиях Европы разве что для производства одеял. Зульфия, еще мгновение назад никак не проявлявшая восточной покорности, теперь присела на край кровати и горько, как все женщины мира, заплакала. Настя подсела к ней и нежно погладила ее руку.
– Не плачь. Все образуется.
– Ах, Настя, у нас будет третий ребенок, а он, – она повысила голос, указывая в сторону двери, – он хочет других женщин. В прошлом году он ездил в Бухару и провел там два дня с девушкой.
– Ну, два дня – это ничего, – успокаивала ее Настя.
– Два дня и одну ночь! Одну ночь. – Она подняла указательный палец вверх, очевидно, для большей наглядности.
– А может быть, это неправда?
– Правда! Девушка приезжала ко мне в Ташкент и просила отдать мужа.
Будучи не в состоянии самостоятельно разобраться в сложных окологаремных интригах, Настя спросила:
– Но почему она приезжала к тебе? Ведь есть же еще и Амина.
Зульфия вздрогнула, гневно сверкнула глазами и сказала:
– Я ее ненавижу, эту женщину. У нее пять детей – пусть их смотрит.
– Что-то я не понимаю. Вы же обе вроде как жены? – допытывалась Настя, не замечая, как любопытство вытесняет чувство такта.
– Я жена. А она детей своих смотрит. Там детей вагон и маленькая тележка. Но она такая подлая, не хотела, чтобы он на мне женился. – От Зульфии исходили волны ненависти, достойные пушкинской Земфиры.
Анастасия поняла, что ревнуют восточные женщины точно так же, как и западные. И что ничуть не меньше, чем она сама, Зульфия хочет быть любимой и защищенной. „Что это – свидетельство взаимопроникновения двух культур, двух систем жизни, двух религий? – задавалась вопросом Настя. – Или просто проявление извечных земных отношений между мужчиной и женщиной?“
Ростислав интересовался историей мировой культуры, и в собранной им библиотеке она пыталась найти ответы на некоторые из этих вопросов.
Сначала Настя нашла в „Священном коране“ главу „Аль-Ниса“, что означает „Женщина“.
„И если вы боитесь, что не будете честны в вашем обхождении с сиротами, то возьмите в жены себе из женщин, сколько вам желательно, двух, трех или четырех; а если вы боитесь, что не будете поступать по справедливости, то возьмите в жены только одну или же из принадлежащих правым рукам вашим. Это – ближайший путь для вас к избежанию несправедливости“. Из этого отрывка она смогла понять только то, что мужчина может взять себе четыре жены.
„И не завидуйте тому, чем Аллах возвысил одних из вас перед другими. Получат мужчины долю из заслуженного ими. И молите Аллаха о щедротах его. Истинно, Аллах ведает все о совершенстве“. Эти мысли показались Насте достойными быть предтечей фрейдизма.
„Мужчины – покровители женщин, ибо Аллах сотворил одних превосходнее других и ибо они (мужчины) расходуют из богатства своего. Итак, добродетельны те жены, которые повинуются и блюдут тайны мужей своих при покровительстве Аллаха. Что же касается тех, от которых вы опасаетесь неповиновения, увещевайте их и оставьте их одинокими на ложах их, и наказывайте их. Тогда, ежели они будут послушны вам, не восставайте против них“. Вот он, закон жизни – „блюдите тайны мужей своих“!
В Литинституте с „женщинами Востока“ происходили любопытнейшие метаморфозы.
На первый курс поступали девочки со множеством косичек, с лицами без тени косметики, в длинных национальных платьях из жаркого бархата, расшитых блестками, бисером и люрексом. Подобный „внешний“ статус-кво они сохраняли год-два, неизменно вызывая заинтересованные взгляды и явно выбиваясь из толпы даже в перемешивающем и переплавляющем все и вся Третьем Риме – Москве. Они примерно посещали лекции и семинары, а по вечерам запирались в своих комнатах на женской половине и тихо читали книги.
Удивительно, но все этажи общежития, кроме последнего, где живут не студенты, а „апробированные“ писатели – слушатели ВЛК, разделены были на женскую и мужскую половины. Из лифта мальчики шли налево, а девочки направо в самом прямом топографическом смысле. Но так бывало только в светлое время суток. А ночью, когда в здании оживлялись тараканы и страсти, переставало быть незыблемым и это святое правило…
Но вот наши восточные девушки, проучившись несколько лет, пробыв в гуще иной жизни, переставали чувствовать неразрывную связь с родным миром, который вырастил их, наделив, с невосточной точки зрения, своеобразно уродливой душой. Подобно тому, как древние китайцы навечно помещали маленьких детей в причудливые вазы, чтобы вырастить „форменных“ уродцев, восточных женщин на родине воспитывают в железных правилах послушания и табу. Но всякой вазе в конце концов суждено разбиться. А телесные – в случае китайцев – и душевные – в случае остальной Азии – изъяны при этом не исчезают.
Девушки, изжившие вековые табу и стремящиеся примкнуть к новой жизни, оказывались неспособными почувствовать, что в этой жизни тоже есть свои правила и свои запреты. Восточные красавицы вырывались из мира, закованного в железо, и попадали в мир, переплетенный гибкими нитями. Они, как птицы, вырвавшиеся из клетки с толстенными – в руку – прутьями, не замечали медных проводов, переполненных неощутимым током. И вот результат: незаметно, путем эволюционных революций, к концу учебы девушки превращались в освобожденных женщин Востока. Как правило, в очень освобожденных.
Теперь они начинали одеваться по европейской моде, но с азиатским блеском и шиком. Они понимали, что любовь должна быть свободной от всех условностей, и меняли возлюбленных, руководствуясь только инстинктами.
Наконец, они решали никогда не возвращаться в родной кишлак или аул, а потому кидались жить со всей страстью обреченных.
Да, они переставали быть собственностью мужчины и подчиняться власти мужа, отца или брата. Да, они знали, что не изведают горькой участи быть второй или третьей женой. Но что им было известно еще? И впрочем, такая ли горькая участь – быть второй или третьей, если второй или третьей были их матери, бабушки, весь их женский род, уходящий в глубину кочевой жизни, в которой были свои правила чести, свой военный гуманизм.
Когда мужчин-чужаков убивали в бою, их женщинам и маленьким детям не давали пропасть. Вот и появлялись у степняков вторые и третьи жены. Жизнь была суровой, походной. Вечно над кочевниками висел дамоклов меч вымирания, и чем больше жен имел храбрый воин, тем больше уверенности было в продолжении его славного рода. И потом, по мере старения и потери воинственности, кочевые народы отнюдь не стремились избавиться от многоженства. Слишком большие и важные преимущества оно создавало, и в первую очередь для самой женщины.
Когда-то Настя прочла в „Науке и жизни“ сообщение об исследованиях французских ученых, результаты которых показались сенсационными самим исследователям. Этнографы обнаружили, что число детей в арабских семьях с тремя-четырьмя женами в начале века было равно числу детей в семье с одной женой в наши времена. Стал понятен и механизм демографического взрыва – опасного роста народонаселения мусульманских стран Африки: женщина вместо двоих-троих здоровых и желанных детей, между рождением которых она отдыхает от домашней работы и от обязанностей ублажать мужа от двух до пяти лет, теперь должна практически без восстановления сил рожать десять – двенадцать все более хилых и недоразвитых потомков. Причем все это время ей приходится работать в сельском хозяйстве, следить за домом и скотиной, заботиться о детях и родителях мужа, отбывать повинность в супружеской постели. И если у мужа не хватает средств завести себе сексуального партнера на стороне, то его единственная жена просто не выдерживает!
Так можно ли считать проникновение западной культуры благом для Востока? Для народов, которым Аллах воспретил ограничивать деторождение и которые вместо простых европейских путей отыскали для этого обходной и по-азиатски хитрый – многоженство?
Коран не воспрещает занятий любовью даже во время строжайшего поста – месяца Рамадана. А христианство? Не в этом ли основное противоречие между двумя мировыми религиями? Не в отношениях ли между мужчиной и женщиной?
„Возлежание с женами вашими в ночь поста сделано законным для вас. Они одежда для вас, как и вы одежда для них. Аллах знает, что вы несправедливо поступали к самим себе, посему Он обратился к вам с милосердием и даровал вам облегчение. Итак, отныне дозволено вам возлежать с ними и искать того, пока вы сможете, с приходом зари, различить белую нить от черной нити. Затем соблюдайте пост до наступления ночи и не входите к ним, когда вам надо пребывать в мечетях для поклонения“.
Так что же, опять – „Ищите женщину“?
Настасье Филипповне самой иногда хотелось облачиться в светлое одеяние, закрыть лицо тонкой белоснежной чадрой и стать невидимой. Да – невидимой! Непредсказуемой, с невычислимой фигурой и стертыми чертами лица. Это благо – быть женщиной, непостижимой всему миру, но открывающей лицо, зеркало души, ему одному. Единственному!
Принадлежать ему в ночь великого поста, как в седьмом веке принадлежали женщины поэту Омару ибн Аби Рабиа:
И сам не чаял я, а вспомнил
О женщинах, подобных чуду.
Их стройных ног и пышных бедер
Я до скончанья не забуду.
Немало я понаслаждался,
Сжимая молодые груди.
Клянусь восходом и закатом,
Порока в том не видят люди!
И за это откровение поэта не приговорили к смертной казни, как, спустя много веков, Сальмона Рушди за его „Сатанинские стихи“.
И даже романом „Стыд“ этот европеизированный мусульманин не смог снять с себя печати проклятья… Но как замечательно он смог уловить нюансы женской психики, описывая подготовку девушки к первой брачной ночи:
„– Представь себе, что тебе меж ног всадили рыбину, угря, например, и лезет этот угорь все глубже; или будто в тебя шомпол засунули и гоняют туда-сюда. Вот и все, что ты почувствуешь в первую брачную ночь, больше мне и рассказать-то нечего, – так напутствовала Билькис свою младшую дочь Благовесточку. Та слушала пикантные подробности и дергала ногой от щекотки – мать разрисовывала ей хной пятки. При этом вид у нее упрямо-смиренный, словно она знает страшную тайну, но никому не расскажет. Ей исполнилось семнадцать лет, и ее выдают замуж. Женщины из гнезда Бариамма слетелись, чтобы убрать невесту. Билькис красит дочь хной, вокруг крутятся родственницы, кто с ароматными маслами, кто со щетками и гребнями для волос, кто с краской для век, кто с утюгом. Главенствовала, как всегда, похожая на мумию, слепая Бариамма – она охала и ахала, слушая отвратительно-омерзительные описания интимной супружеской жизни, которыми щедро оделяли невесту почтенные матроны, и в негодовании свалилась бы на пол, если бы не кожаные подушки, подпиравшие ее со всех сторон.
– Представь: тебе в пузо шампуром тычут, а из него еще горячая струя бьет, прямо обжигает все нутро, как кипящий жир! – пугала Дуньязад, и в глазах ее полыхали отблески давней вражды.
Молодое девичье сословье было настроено более жизнерадостно.
– Наверное, это – будто верхом на ракете сидишь, а она несет тебя на Луну, – предположила одна из девушек, но ее „ракета“ ударила по ней самой: так сурово выговорила ей Бариамма за богохульную мысль, ведь один из постулатов веры гласит, что невозможно долететь до Луны“.
Но потом было то, о чем повествует одна из сказок „Тысяча и одной ночи“: „Ситт аль-Хушн приблизилась к нему и притянула его к себе, а он обнял ее и придвинулся еще ближе. Потом охватил ее ногами, зарядил орудие и нацелил его на крепость. И, выстреливши, разрушил стену, защищающую вход. И обнаружил в Ситт аль-Хушн несверленную жемчужину или необъезженную кобылицу“.
Они встречали Новый год вдвоем в полупустом, но все равно шумном общежитии. Праздничный набор, купленный для такого случая и состоящий из бутылки испанского шампанского и двух изящных бокалов на высоких ножках из черного, как камень гагат, стекла, украшал стол. И Гера поблескивала из неподвластного единственной свече полумрака своими фосфорическими глазами.
– С Новым годом, любимый!
– С новым счастьем, Настенька!
Она попыталась представить свое желанное новое счастье с подмоченной пеленочной репутацией. Как бы ей хотелось встретить следующий год втроем… Нет, вчетвером – и с Герой.
Настя загадала желание, пока на экране маленького черно-белого телевизора били часы.
Шампанское было с тонким привкусом мускатного ореха. Настя опустошила бокал и сквозь его кривое, словно магическое, стекло увидела печаль в глазах Ростислава.
„О чем он грустит? Может быть, о той женщине, от которой ушел? Или о сыне?..“
Из телевизионного динамика лилась веселая, как шампанское, музыка.
Первый месяц года закончился трагедией. В счастливый вечер встречи, когда под крышей общего дома снова собрались окрепшие за две недели каникул питомцы Литинститута с одной шестой части суши, год от года становящейся все меньше и меньше, случилось несчастье.
Анастасия узнала об этом лишь утром, потому что всю ночь крепко спала, словно все привычные кошмары разом улетели в другое место. И, услышав страшную новость, она поняла, куда они улетели. Погиб Вася Мочалкин, дрянной поэт, но хороший парень и отец троих детей.
Ростислав рассказал, что все было, как обычно. Так же металлически стонала лестница, и Вася, похожий на пьяного циркового эквилибриста, испытывающего нервы глуповатой публики, быстро спускался вниз. Его ходка оказалась результативной. Ритуально поправляя бутылку в кармане, он уже собирался сделать традиционный широкий шаг с лестницы на подоконник. Но ржавый жестяной карниз был покрыт тонким слоем льда. Володька Старых успел подать Васе руку, но не успел поймать его ускользающие пальцы. Всем телом Вася качнулся назад, какое-то мгновение побалансировал над пропастью, на глазах у лишившейся дара речи публики. А потом был его долгий парящий крик. И падение с высоты седьмого этажа. И смерть.
Кто-то бегал, кто-то кого-то будил, кто-то вызывал „скорую“ и „легавку“. Но все это уже не имело никакого значения.
Если бы не разбрызганные мозги, обломки ребер и берцовая кость, вылезшая наружу где-то в районе кишечника, то все было бы удивительно похоже на банальный сюжетный ход в каком-нибудь мексиканском мыльном сериале…
По пути в институт Настя заметила, что в городе появилось необычно много сорок с траурными хвостами, на которых удерживаются только плохие новости.
Она шла по Тверскому бульвару мимо „Макдональдса“, мимо маленькой случайно уцелевшей кофейни, мимо лиц, окон, домов, афиш. Она шла и вспоминала собственные стихи:
От шумной кофейни,
Где варится каждому кофе
Больной Маргаритой
С повязкою теплой на горле —
До странного дома,
Где дружно живут тараканы,
И малые дети,
И взрослые добрые люди;
От шумной кофейни
До мирного странного дома
Мы со странниками вперемежку
Идем по бульвару,
Зимой
Из-за снега не видя
Гадательной гущи…
Сейчас она прошла в противоположном направлении: от тараканьего дома мимо кофейни на Бронной, где Маргарита, которая раньше летала, а теперь стоит за прилавком, к старинному особняку на Тверском бульваре.
Профессор, читавший курс теории литературы, обычно начинал очередную лекцию обращением: „Друзья мои!“ И в этот день он не изменил привычке и провозгласил: „Друзья мои! Пить нужно в подвале!“ Этот житейский совет был встречен минутой молчания.
Когда Настя одевалась в гардеробе, зябко кутаясь в видавшую виды каракулевую шубу – единственное случайно оставшееся от мамы наследство, к ней подошел мрачный, как и все вокруг, Петропавлов.
– Привет, Настя, – начал он и замялся. Было заметно, что что-то его очень беспокоит.
– Что тебе, Авдей? Про кошку спросить хочешь? С ней все в порядке. Такая красавица растет!
– Нет, не про кошку. Я знаю, что она в надежных руках.
– Тогда – что же?
– Настя, только, прошу, не перебивай меня… Потому что я и так собьюсь…
Она умолкла, предоставив ему возможность высказаться.
– Понимаешь, я… Знаешь, я же вижу, что сегодня все не к месту… Но так трудно тебя поймать: ты же все время в бегах… А я, вот… Помнишь, я предупреждал, что хочу с тобой поговорить?
– Я слушаю тебя, – как можно мягче произнесла Настя.
Парень немного успокоился, и его речь приобрела некоторую связность.
– Настя, я влюбился.
„Господи, неужели в меня?“ – испугалась она.
Но поэт, к счастью, развеял ее опасения.
– Я влюбился в Марину. А она, я знаю, твоя подруга. Ну, или приятельница. Я не понимаю, как у вас, у девушек, называется дружба.
– А почему ты говоришь об этом мне?
– Потому что я не знаю, как объясниться с Мариной. Она такая умная, такая красивая… А я… – Он критически оглядывал себя, насколько мог сделать это без помощи зеркала.
– И что я могу сделать? – Настасья спешила, потому что опаздывала в редакцию.
– Только ответить на мои вопросы. – Он полез во внутренний карман и вытащил блокнот, на удивление аккуратный и даже заграничный. – Вот. Я тут составил вопросник. Ты ответь, пожалуйста, письменно как-нибудь на досуге. Очень прошу. Умоляю! – Он смотрел так преданно, что она не смогла отказать.
– Хорошо, Авдей.
– Спасибо, сестричка. Только… – Он снова замялся.
– Что – только?
– Только не показывай никому. Ладно? Ты пойми – иначе мне не жить.
Он по-военному четко повернулся кругом и быстро удалился.
Настя раскрыла блокнот и прочла:
„Что ей нравится из напитков? Какие цветы предпочитает? Какие театры посещает? Какой цвет – любимый? Во сколько обычно встает по утрам?.. Какие мужчины в ее вкусе?..“
С правой стороны было оставлено место для ответов.
„Бедный, бедный Авдей, – подумала Настя, вспомнив унитазный вернисаж, – мой ответ на последний вопрос вряд ли тебя утешит…“
Февраль выдался не холодным, а лютым. Не зря именно так называли этот месяц в старину! А в некоторых славянских языках подобное нелестное определение так и закрепилось за одной двенадцатой года. Слава Богу, самой короткой.
По утрам в комнату сквозь щели в „общественных“ неухоженных оконных рамах, рассохшихся еще лет двадцать тому, врывались маленькие морозики, невидимые, как духи, но с успехом леденящие души и сердца. И в этот час наших героев прибивала друг к другу угроза тепловой смерти Вселенной. Исчезали вечерние ссоры, дневное раздражение, всегдашняя неустроенность.
И снова, засыпая поздним зимним рассветом, Настя как-то сказала:
– Я читала у Кабакова… Героиня говорит герою: „У нас никогда не будет революционной ситуации, потому что у нас низы всегда хотят, а верхи всегда могут“.
– Не будет, потому что у нас низы перемешались с верхами, – уточнил Ростислав.
И она вспомнила давнее определение экстрасексуального Игоря: „лежащий в объятиях женщины“…
„Надо бы к нему забежать…“ – Здравую мысль поглотили остатки ночи.
С утра кружилась голова, ничего не хотелось есть. Настя даже измерила температуру, но она оказалась нормальной. Еще больше удивило ее то, что не только вкус, но и запах любимого кофе вызывал неодолимое отвращение.
„Так бывает и в отношении мужчин“, – подумала Настя и процитировала по памяти четверостишье из Ахматовой:
Для того ль тебя я целовала,
Для того ли мучилась, любя,
Чтоб потом спокойно и устало
С отвращеньем вспоминать тебя“.
На кухне двое студентов спорили, карауля шикарный расписной чайник, который все никак не желал закипать.
– Тридцать баксов за час – это же с ума сойти. Сколько же она имеет? – вопрошал один.
– А какое твое дело, сколько она имеет, если у тебя все равно тридцати баксов нет.
– Нет – и не надо! Можно позвать Гульбахар – за так. Или еще кого. Нашел проблему.
– Проблему не проблему, а позвонить было любопытно. Уж очень много они объявлений дают. Неужто всем им мужиков хватает?
– Это кажется только, что много. А на самом деле Москва большая, и парни умеют деньги зарабатывать, не то что мы с тобой.
Чайник закипел, засвистел, и ярко-алые цветы на его боку сменили свой цвет на пурпурный. Спорщики, подхватив посудину, удалились.
Вместо гипотетических потребителей сексуальных утех появилась вечно беременная Зульфия с кастрюлькой, полной кусочков баранины.
– Привет, Настя-ханум. Видак смотреть будешь? Турамирза кассеты принес – все про любовь. – Она приглашала Настю культурно провести пока еще далекий вечер, потому что знала: с наступлением темноты на Ростислава снова обрушится приступ творческой чумки, а Улугбек уйдет в комнату этого самого Турамирзы – вести мужские разговоры.
В чем-то уделы всех женщин были похожи. Хотя „Запад есть Запад, Восток есть Восток“…
– Хорошо, приду.
Зульфия поставила будущую шурпу на огонь и удалилась.
А Анастасия готовила самый изысканный завтрак – сваренные вкрутую яйца. Два символа мироздания, окруженные бурлящей водой, выглядели хотя и не золотыми, но очень похожими на беломраморные. Закипающая баранина распространяла умопомрачительные запахи, от которых у Насти закружилась голова и свело судорогой внутренности. Бросив недоваренный завтрак, она выскочила из кухни.
Через несколько часов врачиха, чем-то неуловимо похожая на птеродактиля, подтвердила счастливые опасения. Настя вышла из консультации и увидела, что из-за серых низких туч выглядывает краешек солнца.
Она брела по Москве, и этот привычный город казался ей в чем-то новым. Она заметила на каждом шагу детали, которых не видела раньше.
Прибили вывеску над бывшей пельменной, из которой следовало, что вместо пельменей здесь теперь будут лепить авиабилеты.
Снова собралась демонстрация на Пушкинской. В этом не было ничего нового и удивительного, но раньше она этих демонстраций просто не замечала… Какая-то полная женщина в очках что-то рьяно выкрикивала, при этом широко жестикулируя. Настя чувствовала к ней едва ли не жалость – женщина все-таки должна быть занята извечным женским существованием. А в политике баба похожа на львицу, которая пытается освоить премудрости слоновой походки. Беда, если ей это удается…
Ну вот – новость, и новость грустная, почти трагическая: закрыта кофейня на Бронной, там, где Маргарита варила ароматный напиток. А впрочем, именно к кофе Настя в данное время испытывала некоторое недоверие. Закрыли – и закрыли. Пусть продают гамбургеры – пищу не только богов, но и всех смертных. Универсальную.
Спецкурс по Достоевскому читал извечный депутат и публицист демократического толка, сподвижник Сахарова и продолжатель общего дела прогрессивно настроенной русской интеллигенции Юрий Варягин.
– Достоевский был жутко несексуальный писатель. Иногда мне кажется, что он жуткий лгун. Заявить, что Сонечка Мармеладова – проститутка! Вздор! Я где-то уже писал, что она торгует телом, которого нету. Представить себе Сонечку, которая спит с каким-нибудь клиентом, – невозможно, запрещено всей структурой романа. И все домогательства вокруг нее просто смехотворны. Ну какая она проститутка? Она святая, без тела… И Настасья Филипповна – выдуманная страсть. Желание Достоевского перевоплотить свой неудачный роман с Сусловой породило целый поток этих инфернальных героинь, но все они какие-то абстрактные.
Услышав свое имя, Настя невольно вздрогнула, но потом сосредоточилась на словосочетании „выдуманная страсть“.
„Боже, как точно! И сколько же их было, этих выдуманных страстей? И зачем они были, что значит простая механика отношений, если люди не нужны друг другу? Да ничего, ровным счетом – ничего. Эти люди, расставшись, не думают друг о друге, а случайно встретившись, ничего не испытывают. Даже приливов памяти. Значит, ничего не было, ничего вообще не бывает, если не помнишь. И в моей жизни был только Ростислав, один – был и есть, потому что никого больше я не помню. Или не хочу помнить. Все они были возлюбленными абстрактной героини Настасьи Филипповны, но не моими…“
Вечером Настя ждала Ростислава. Ей обязательно, позарез нужно было рассказать ему все – именно сейчас, сию минуту. Но он не появлялся, несмотря на наступившее темное время суток. Его не было ни в „Сибири“, не пустующей несмотря ни на какие трагедии, ни в телекомнате, где мужчины с неизменным удовольствием смотрят урок аэробики.
Она уже привыкла к тому, что телекомната бывает переполненной только когда демонстрируют футбольные или хоккейные матчи, мультики, новости и… эту самую аэробику. Стоило лишь заглянуть в телепрограмму, и можно было с уверенностью Кассандры предсказать, когда относительно небольшое пространство перед стареньким „Рубином“ наполнится терпкой смесью запахов – одеколонов, дезодорантов, пота, перегара, нестираных носков, несвежих сорочек, воблы, пива, мироздания…
Именно запахи на этом этапе жизни вдруг стали ее неприятно раздражать. Поэтому от выпуска новостей она решила отказаться.
В дверь постучали.
– Войдите.
– Настя-ханум, кино смотреть будешь? – Это была грустная Зульфия, очевидно, уставшая от одиночества, невнимания мужа и тяжкого груза „зреющей“ жизни.
– Буду.
Она написала записку. „Я у Зульфии“ и, закрыв дверь, повесила белый листок с помощью кнопки, которая темнела на светло окрашенной поверхности даже тогда, когда никаких записок не было. Это удобно: не надо искать каждый раз такую мелочь, как кнопка. Она всегда на месте, как глазок в иные миры.
Аппаратура в комнате у Ахметовых, была, конечно, помощнее общежитской: видеодвойка „Сони“. Но Улугбек все равно смотрел аэробику не в своей комнате, не вместе с женой, а по старенькому „Рубину“ в разноязыкой мужской компании.
Зульфия перебирала кассеты.
– Вот – „Дневная красавица“. Про любовь. И артистка такая красивая – Катрин Денев.
Настя видела, как Зульфия краснеет и то и дело отводит глаза от экрана. Наверное, ее „внутреннему взгляду“ тяжело воспринимать мазохистские наклонности „белой“, как однажды определил Улугбек, женщины. Настя вспомнила, что смотрела когда-то турецкий фильм „Червоная дама“, показавшийся тогда дурным плагиатом „Дневной красавицы“. Может быть, Турция европеизирована намного больше, чем Средняя Азия? Дневная красавица Северина приходит в дом свиданий. Настя пыталась понять ее, Зульфия же однозначно осуждала. Но обеих интересовало движение внутреннего мира героини, и обе немножко отождествляли себя с ней.
И вот Северина, вернувшись домой, стоит под душем. Сквозь прозрачную занавеску легко заметить, как энергично она трет свое тело, словно хочет избавиться от подозрительного запаха. Потом через открытую дверь в ванную комнату, в которой видна ванна и роскошный, завидный туалетный столик, уставленный флаконами, зритель наблюдает Северину уже в розовом пеньюаре, вытирающую розовым полотенцем мокрые волосы. Вероятно, чтобы скрыть следы усталости, она красит губы. Потом снимает со спинки стула лифчик, белье и исчезает из кадра. И появляется уже в гостиной. Садится у камина на подлокотник кресла и швыряет все свое белье в огонь. И пусть, пусть горят презренные свидетели постыдного мазохистского инстинкта! Кочергой она сдвигает белье в центр, где полыхает огонь.
– У меня был только один мужчина, – вдруг сказала Зульфия.
– Но ведь ты его любишь, Зульфия.
– Да, люблю. Но как посмотрю кино, думаю, что это плохо, когда в жизни только один мужчина… Хотя у нас, если жена заведет любовника, то муж может ее убить – и никто его не осудит.
– А у самого Улугбека – две жены.
Зульфия вспыхнула.
– Я ненавижу эту женщину. И она меня. Но там дети, пятеро детей.
Настя мысленно улыбнулась, проделав простую арифметическую операцию. Там – пятеро, Зульфия ждет третьего. Значит, скоро у тридцатидвухлетнего Улугбека появится восьмой по счету отпрыск.
* * *
Вернувшись в свою комнату, Настя думала о том, что все-таки очень мужской по сути, по мировосприятию фильм „Дневная красавица“! Несмотря на обилие женских ролей, несмотря даже на блестящую игру Катрин Денев, эта лента – всего лишь проба перевести непереводимое, переписать с „мужского“ языка на „женский“. Ей казалось, что режиссер Луи Бонюэль переписывал себя самого, свои комплексы, свое желание наконец-то понять женщину. Где-то она читала, что этот фильм – „принудительная попытка мужчины представить себе воображение женщины“. Очень точно. Северина живет и действует по-мужски. Ей присущи одновременно неизбывное чувство вины, гипнотический интерес к греховному сексу. Бонюэль абсолютно игнорирует мир собственно женщины, которая всегда, в любых обстоятельствах, хотя бы на периферии сознания, имеет в виду свое чувство, свою любовь. Женщина не умеет „выключаться“, ее чувство непрерывно, в то время как в восприятии мужчин любовь возникает, наоборот, в некоторых точках разрыва мира. Мужчина не может существовать только как любовник. Такой мужчина, подобие Дон Жуана, сам оказался бы женственен, слаб, нуждался бы во внимании и поддержке. Однако был бы способен на ряд мелких интрижек, но не способен, как Северина, вести четко раздвоенную жизнь. А женщина по природе своей неспособна на двойную мораль. Для нее подобное положение бывает крайне неустойчивым, а значит, она стремится к смещению действия в ту или другую сторону. Напротив, многие мужчины в состоянии раздвоенности живут всю жизнь, не испытывая при этом каких-либо серьезных душевных томлений…






