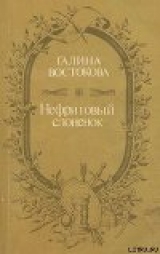
Текст книги "Нефритовый слоненок"
Автор книги: Галина Востокова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 21 страниц)
– Зануда Купревич? Мы с ним дежурим в разные смены, редко встречаемся и очень этим довольны. Он неплохой малый, но скучный до предела.
Савельев достал из шкафа стаканы, хлеб, копченую колбасу, печенье. Зашуршала полупрозрачная бледно-розовая бумага. Из нее вылупилась, блеснув длинным зеленым металлическим колпачком, бутылка португальского «Опорто».
– Рюмок нет, но вы представляйте, что пьете из хрусталя, – сказал он, наливая в простые госпитальные стаканы темно-красный, отсвечивающий золотыми искорками портвейн. – Удивляетесь, откуда бутылка? Здесь и не такое можно достать. Вот побегаете по магазинам… – Он поднял стакан, подумал, глядя на лампочку через рубиновый напиток. – Ну что ж, девочки, выпьем за встречу, за удачу, за победу и чтоб мы подольше без неподъемной работы оставались. Сейчас на фронте затишье. Завтра приступите к дежурству – увидите. Долечиваем раненых, тех, кого решили домой не отправлять, да так больные идут кое с чем… До дна, Зоя, до дна, а Катюша маленькая еще, как хочет.
Сладкая с пряной горчинкой жидкость обожгла горло. Катя, чтобы не закашляться, скорее запила вино чаем из такого же стакана и спросила:
– Много раненых, да? Расскажите, Сергей Матвеевич, про войну, про госпиталь.
Он посерьезнел.
– Когда я начинаю размышлять о нашем положении, у меня настроение портится надолго. Во время работы проще: думай только, чтобы левую руку к правому плечу не пришить. Режешь, зашиваешь, вливаешь. А начнешь говорить с ранеными – ужасаешься: они идут в наступление кто в лаптях, кто в сапогах, а кто и в галошах на босу ногу. Потерял лапоть, пока полз по какой-то грязевой промоине, оставайся вовсе без обувки или снимай с подвернувшегося мертвеца. Кто в папахе, кто в малахае, а кто и просто тряпкой обмотанный. Зато у японцев обмундирование с иголочки. Я здесь почти с самого начала и насмотрелся всяких порядков, вернее, беспорядков. Вообще ко всему, что здесь происходит, лучше всего подходит приставка «без»: бесхозяйственность, бездумность, бездушие, безнаказанность… Хватит? А то у меня таких слов уже с пару десятков набралось: безначалие, безобразие… Кто может – наживается, а к нам везут раненых, по три дня не кормленных. Насмотритесь. Но вот, хотите, несколько цифр. У японцев маршалы и адмиралы получают по шесть тысяч рублей в год в переводе на наши деньги, а русские – по сто двадцать тысяч за тот же год. Теперь солдаты: у японцев – шестьдесят рублей, у нас – шесть. В год, Катюша, в год. У вас вот восемьдесят рублей в месяц и теплая постелька, а у них за полтинник окопная грязь да несколько сухарей в мешке. Уже это о чем-то говорит, да? Хорошо еще, если начальство честное попадется, а то продукты на сторону, обмундирование туда же. Мужики, мол привычные, нечего баловать…
Катя смотрела на Савельева, понимая, отчего Зоя восьмой месяц каждый день повторяет: «Ах, Сереженька!» Он, конечно, хорош собой. Высокий («Верно, на голову выше Лека», – отметила она вскользь), стройный, прямые темные волосы, четко вылепленные черты. Глаза… Если бы эти глаза да на женском лице, их назвали бы русалочьими: длинные, чуть оттянутые к вискам, неопределенного – в свете керосиновой лампы – цвета, – но не было во взоре врача русалочьей томности и загадочности. Трезво и строго смотрел он перед собой, продолжая говорить о солдатах.
– Сережа, ну что ты разволновался? – Зоя перехватила его руку. – Дай-ка пульс посчитаю.
Кате стало неловко смотреть, как она гладила крепкое смуглое запястье и перебирала пальцы, испачканные йодом, которые умели возвращать людям жизнь.
– Ну, спасибо вам. Я пойду к себе. Что-то спать хочется.
– Спокойной ночи.
Прежде чем уснуть, Катя долго ворочалась, укладываясь поудобнее на продавленной койке под тощим байковым одеялом. Потом, замерзнув, поднялась, чтобы снять с вешалки шубку, накинула ее поверх серой байки и погрузилась в сбивчивые сновидения с последней мыслью: «Надо будет завтра выбраться в магазин, купить хорошее одеяло».
Но назавтра оказалось не до прогулок.
Был торжественный день, день Георгия Победоносца. В честь такого события сводный госпиталь должен был посетить главнокомандующий Куропаткин, и Катя сразу включилась в общую суету: поправляла белье лежачих больных, протирала стекла, меняла занавески на окнах.
Куропаткин подъехал к одиннадцати часам, на белом коне, сопровождаемый свитой.
– Как Наполеон, гарцующий перед Москвой, – тихо пробормотал рядом стоящий врач.
«Как Чакрабон на своей Ромашке», – одновременно подумала Катя.
Все раненые, которые могли передвигаться, были собраны в самой большой, стокоечной, палате и разместились кто где сумел, наскоро приведя себя в порядок. Внесли и развернули складной алтарь, установили знамя, зажгли свечи. Начался молебен. Добродушный на вид священник соседней церкви начал почему-то с молитвы Николаю-угоднику.
– А при чем тут Николай? – шепотом спросила Катя сестру-хозяйку.
– Тс-с… – ответила та, но спустя минуту пояснила: – Священник сам Николай, и это его собственный святой, да, кроме того, император – Николай, так что он любую службу одним и тем же начинает.
– «…О всеблагий отче Николае, избавь Христово стадо от волков, губящих его, и страну христианскую сохрани святыми твоими молитвами от мирского мятежа, трусов, нашествия иноплеменников и междоусобной брани, – монотонно басил поп, – от глада, потопа, огня, меча и напрасной смерти, и яко же помиловал еси трех мужей, в темнице сидящих, и избавил их от посечения мечного, тако помилуй и нас, умом, словом и делом во тьме грехов сущих, и избави нас от гнева божия и вечной казни…»
Катя посмотрела на генерала: «Не удивлен ли он молитвой невпопад?» Черные с сединой волосы, твердый, углубленный в себя взгляд на сумрачном лице без тени бурбонства.
Куропаткину было не до молитв. Катя не знала, что перед его внутренним взором стояли строчки только что полученного письма от Сергея Витте: «Алексей Николаевич, все-таки Вам нужно знать правду. Ведь это война беспричинная и бесцельная. Ее можно и должно было избежать. Никаких результатов, благих для России, мы от нее ждать не могли – никаких результатов от нее не получим. Теперь, дай бог, только уйти без срама… Это род государственной авантюры… Прежде правительство не любили, но с ним считались, а теперь над ним смеются…»
Священник перешел к речи, ближе касающейся темы торжества:
– Георгий Победоносец победил ворога злого – Змия. Тако и вы, воины, поражайте ж врагов и за это отличены будете знаком военного ордена, сиречь Георгиевским крестом.
Куропаткин был немногословен:
– Спасибо за верную службу государю императору и великой нашей отчизне. Ура!
Прокричали трижды «ура», и генерал повернулся к наместнику, стоящему возле него с коробкой солдатских крестов:
– Где списки представленных к награде?
– Сейчас принесут, – засуетился тот, – разыскивают.
– Безобразие, – хмуро выговорил главнокомандующий и после минутного ожидания, бросив: – Мне некогда! Раздадите без меня, – вышел из палаты и вскочил на коня.
Списки так и не нашли, а может, их и не было вовсе.
Далее следовала церемония награждений.
Генерал Алексеев, маленький, кругленький, подвижный, шел по проходу между рядами коек, изредка, не совсем уверенно, останавливался, выбирая, вероятно, самых изможденных солдат.
– А ты, дружок, как ранен был?
– В атаке, ваше превосходительство, высоту брали… – Солдат, мучительно напрягаясь, пытался вспомнить название китайской деревушки между двумя сопками.
– Ну выздоравливай. Чтобы к Новому году в строю был. Вот тебе крест. – И наместник выискивал следующую фигуру, достойную награды и чтоб поближе к широкому проходу: между койками было сложно пробираться.
Некоторые солдаты из честолюбивых всячески старались попасться ему на глаза, преображаясь мгновенно и принимая кто геройски-бравый, кто особенно страдальческий вид:
– Рад стараться, ваше превосходительство, служу царю и отечеству!
Над ухом Катя услышала голос Савельева:
– Смотри, девочка, внимательнее. Видишь, вон Илюшке Петрову крест нацепили? Он еще что-то про штыковой бой на перевале говорил… Так вот этот горе-солдат был как кусок баранины на шампур насажен японцем на штык, улепетывая без оглядки с поля боя, и доставлен с ранением в ягодицу, правда, сильным. А вон у стенки, куда не достал сиятельный перст, лежит другой, с израненными ногами и контузией, вынесший к перевязочному пункту полуживого офицера. Вот тебе и раны. Вот и награды.
Потекли относительно спокойные – затишье на фронтах – госпитальные будни. Самую грязную работу выполняли палатные служители и денщики. Сестрам оставалось перевязывать раны, раздавать лекарства, кормить лежачих больных, делать уколы. «Ох, доченька спасибо, легкая у тебя рука!» Сначала Катю направили в офицерскую палату, но через два дня она попросила перевести ее к солдатам. Слишком много было рук в офицерской палате, которые стремились ее коснуться, слишком много глаз, которые видели в ней не сестру милосердия, исполняющую служебные обязанности, а хорошенькую синеглазую барышню, к тому же, кажется, свободную.
В солдатской палате она сразу выделила несколько симпатичных лиц, таких, как Захар, отказавшийся назвать свое отчество и оставшийся до выписки дядей Захаром. У него была перебита правая рука и обморожена левая. Катя кормила его с ложечки и разговаривала:
– Как же ты, дядя Захар, руку не уберег? Теперь месяц, если не больше, здесь пролежишь.
– А чем тут плохо? Только рот открывай да проглатывать успевай. А руку-то… Это счастье, что руку… Мы же как стреляли? Высунешь одни руки из окопа и палишь в ту сторону, откуда вражьи дети бьют. Авось попадешь в кого-нибудь. Высунул бы голову – давно бы шакалы растерзали.
– А японцев близко видел?
– Живых – нет, а мертвых – полно. Зато письма ихние читал. Ну не сам, правда: печатные буковки еще разбираю, а написанные, да криво, – с трудом. Поручик нам читал.
– Что ж за письма? Листовки, что ли? Или завещания убитых?
– Да нет, сплошные любезности. У нас сопка была сторожевая. Так она две недели на каждую ночь рускими занималась, а утром к японцам отходила, почти без выстрелов. Положит поручик, бывало, конверт, а на том же самом месте вечером ответ лежит. На французском или русском, что, мол, мы молодцы и офицеры у нас молодцы, и фотокарточки оставляли своих красавиц или природы: вулканы там, острова. Ну и наши в том же духе отвечали. Театр, да и только. Мы бы до такого не додумались. Уж дюже вежливый народ – японцы. – И подумав, добавил: – Когда не убивают. Не хочу напраслину возводить, сам не видел, но говорят, они и своих тяжелораненых приканчивают.
– Ну допивай чай. – Катя обтерла его рот салфеткой и перешла к следующему солдату.
Молодым и тем, с которыми устанавливались доверительно-приятельские отношения, Катя говорила «ты». А врачи «тыкали» всем без разбору, и было не по себе иногда слушать, как старший врач, делая обход, пренебрежительно бросал: «А ты еще валяешься? Пора „вышивальную комиссию“ организовывать. Скажи спасибо, что на фронте тихо!» – а пожилой солдат, отец пятерых детей, силясь подняться с кровати, заискивающе улыбался: «Так точно, ваше высокоблагородие! Никак нет, ваше высокоблагородие! Рад стараться!» Савельев тоже называл раненых «ты», «Артем», «Захарка», но, прислушиваясь к его интонациям, Катя улавливала не грубость, а доброжелательное подтрунивание. И забитые русские мужики – «пушечное мясо», – про которых он говорил, что нельзя выиграть войну, если солдаты не могут пользоваться картой и компасом и держат книгу вверх ногами, останавливали его, спрашивали про положение на фронте, а кто посмелее, те и на совсем отвлеченные темы старались поговорить.
– Вот, Сергей Матвеич, проходили мы старинным кладбищем под Мукденом, – заговаривал Захар, – так там, на ихних могилах, идешь и о гробы деревянные, торчащие из-под земли, спотыкаешься. Как же так?
– У нас одни обычаи, а у китайцев другие, – терпеливо, но на ходу, торопясь в операционную, отвечал Савельев. – Ты дома в деревне хоронишь – могилу поглубже копаешь, а они гробы прямо на землю ставят, а сверху холмик насыпают, ну его ветром и разносит потом.
– Вот нехристи дурные, – сокрушенно качал головой Захар, – ведь любой раскроет и осквернит останки. Вот манзы! Едят нечисть, поклоняются идолам.
– Нельзя так говорить, – хмурился Савельев. – Для них мы странны и непонятны, а вообще это древний и очень культурный, только по-своему, народ. Я спешу. Освобожусь – расскажу что-нибудь еще.
А вечером не забывал подойти к Захару, и с соседних коек на него, ожидая добрых слов, смотрели солдаты.
– Сколько вы фанз беззащитных разгромили, сколько полей рисовых перетоптали, а заметили хоть, как чисто в их домишках, как тщательно обработаны эти поля? И стожки сложены колосок к колоску. А видели хоть одну брошенную палку или никчемную поломанную вещь на дороге? Или беспризорную кучку гаоляна? Не видели? То-то. Все обдумано и применено к делу. Пусть бедно, но на своих местах. Везде порядок. Послушайте, разве зверюшки, мартышки безмозглые могут написать такие стихи?
Весенней водою озера полны,
Причудлива в летних горах тишина.
Струится сиянье осенней луны,
Свежа в одиночестве зимнем сосна..
Или вот еще:
Вдали различаю сосну на высокой горе —
Пышна ее зелень жестокой морозной зимой.
В мечтах устремляюсь к дарующим негу ветвям,
Любуюсь безмерной и грозной ее высотой…
А было это написано пятнадцать веков назад, – продолжал он. – Представляете, за пятнадцать столетий до нас с вами!
И это «нас с вами» поднимало солдат в собственных глазах.
Катя, если случалась свободная минутка, норовила оказаться поближе к Савельеву, поначалу убеждая себя, что она перенимает профессиональный опыт и набирается ума. А когда стала давать себе отчет, что не все так однозначно, было уже поздно.
Если поворошить небогатый ее опыт общения с мужчинами, обнаруживалось лишь слегка снисходительное принятие Борькиной влюбленности – но какой же он мужчина? – и дружеское тепло Чакрабона – надо ему ответить на последнее письмо… Была еще только одна мимолетная встреча, про которую Катя никому не говорила, сама не зная, как к ней отнестись. В августе она возвращалась с соседского корта на дачу Храповицких и вдруг почувствовала, как чья-то мужская рука ласково, но крепко сжала локоть, поворачивая ее к себе и обнимая. «Иван?» – сразу подумала Катя, но увидела близко-близко чужие серые глаза. Незнакомец, не сказав ни слова и не оглядываясь, пошел назад по березовой аллее, а она своей дорогой, оправдывая его «Обознался, наверное». Но до сих пор сохранилось странно-приятное – это при независимом-то Катино, характере! – ощущение подчиненности ласковой мужской силе. Вот, пожалуй, и все.
А сейчас, когда она видела Сергея, даже мысленно опасаясь назвать его, как Зоя, Сереженькой, в душе сталкивались и рассыпались черно-белые вихри смятения. Она завидовала раненым, которых касались его бережные и умные руки. И не завидовала Зое. Вообще не думала о них вместе, словно подруга приходила ночью не от Савельева, а с дежурства в палатах, благо дверь открывалась бесшумно и свет не надо было зажигать: под окнами, покачиваясь на зимнем ветру, горел голубоватый газовый фонарь.
«Интересно, у всех так? И у Зойки так было?» – думала она, чувствуя непреодолимое желание дотронуться до его рук, для которых, кажется, не было ни чего невозможного.
– Сергей Матвеевич, а где можно плотника найти? Рамы бы подогнать на окне… Сквозняки по комнате гуляют.
– Бесполезно, Катенька, не найдешь. Я сегодня свободен, сам заделаю. Нарежь только бумаги – щели заклеить.
Она пошла домой, достала клей. Подержала в раздумье тюбик универсального «синдетикона». Он противно пахнет и вытягивается желтыми липкими нитями. Катя положила его обратно в шкафчик и придвинула поближе треугольный флакон гуммиарабика с удобной кисточкой, торчащей из оловянной крышки. Открыла ящик, чтобы взять ножницы, и рука коснулась прохладной округлости. Слоненок. Как он хорош все-таки! Голова, хобот немного прозрачнее, чем туловище, – она посмотрела через него на свет – и даже кажутся голубоватыми. Камень сразу согрелся от тепла ладони «Леку я так и не ответила. А что писать? Кормлю, пою, перевязываю. В город еще толком не выбралась. Вот схожу и напишу большое письмо. Он пишет каждые день – маленькие, а я собираюсь-собираюсь, но зато сразу полтетради испишу. Какая я ветреная, должно быть! Чакрабон, Савельев… Что для меня сейчас Лек? Дружеское участие, добегающее с письмами издалека. Спокойствие. Уверенность в своей нужности этому человеку. А что такое Савельев? Странно: знакома с ним две недели, а кажется, знаю вечность. Ах да, Зоенька же с весны только о нем и говорит. Сергей, принадлежащий другой женщине и удаленный ею в безнадежность, – вот что такое Сергей. Но что же делать с сердцем, которое при звуке его голоса начинает так стучать, что рука сама тянется к груди, чтобы его прижать, утихомирить?»
– Тук-тук-тук, – сказали, открывая дверь, – плотники нужны?
– Заходите, Сергей Матвеевич. Сейчас я кровать от окна отодвину.
– Давайте вместе. И правда, дует сильно. Что же вы раньше молчали?
– А я на ночь щели у подоконника шалью закладывала.
Споро застучал молоток, поправляя и забивая реечками рассохшиеся, перекошенные рамы.
– Сергей Матвеевич, а отчего вы вчера хмурый весь день ходили и, когда вышли от главврача, он долго кричал на каптенармуса?
Сергей посмотрел на нее внимательнее, словно проверяя, действительно ли интересно это девочке.
– Не хочу я наживаться на больных и не могу видеть, как это делают другие. Я никогда не буду заниматься политикой и примыкать к каким-нибудь партиям. Я только врач и стараюсь по мере сил делать все, чтобы считать себя честным человеком. Иногда идешь себе на уступки, но редко. «Опорто» в день приезда пили? Это с вашего же поезда, в числе подарков раненым от великой княгини. Нашему госпиталю перепало по два ящика вина и шоколада. Куда что делось – не знаю. Не видел, чтобы раненые шоколад жевали. Мне старший ординатор месяц назад в «макашку» бутылку шампанского проиграл, а принес, извинившись, портвейн. Я, ожидая вас, не стал отказываться. Да, – помолчав, продолжал он, – просто хочется быть элементарно честным человеком. И жалованья мне вполне хватает. Мать обеспечена – деревушка под Москвой небольшая, но хозяйство налаженное. А своей семьи нет и вряд ли скоро появится…
– Как же так? Отчего? – не зная, радоваться за себя или огорчаться за Зою, удивилась Катя.
– Да характер у меня не для семейной жизни. В самые лирические моменты начинаю думать о предстоящей операции. Представляешь? Целуешь женщин и думаешь о том, как бы избежать спаек на кишечнике… Но мы отвлеклись, – усмехнулся Савельев, от проблемы борьбы с наживателями. При тебе вчера рикшу с улицы привели, и он в кабинете главврача сидел.
– Ну и что? – спросила Катя, вспомнив маленького испуганного китайца в белом халате из-под которого выглядывали синие хлопчатобумажные штаны «Шанго, шанго[1]1
Хорошо, хорошо
[Закрыть]…» – быстро кивая головой, говорил он.
– Так вот, начальство сфабриковало счета на покупку постельного белья в китайской мануфактуре и с их стороны должен был расписаться какой-нибудь Ну Лик. А кто будет это делать? Липа же. Вот начальники поймают первого попавшегося на улице, благо почти все китайцы грамотные, и ставит он на счетах свой иероглиф. А нет, так и ладно, они сами закорючку позатейливее изобразят.
– Но разве можно так? И не проверяют?
– Если их уличат в подлоге, они поделятся, но никому нет дела, кроме таких ненормальных, как я а их мало. Начинаю искать концы, восстанавливаю справедливость… Очень давно я заметил, что когда все законное закрывается на защелку, то незаконное лезет в распахнутые рядом двери. Похоже, дело идет к тому, что я слишком мешаю главврачу и он хочет от меня избавиться. Мошенник на мошеннике сидит и бюрократом погоняет.
Вошла Зоя, пристально посмотрела на них.
– Ты все о том же, Савельев. Не надоело? Лучик бы нас в город свозил. Давно обещаешь же…
– Обязательно! Сейчас окно приведем в порядок. Давай клей, Катерина.
Он вдохнул фруктовый запах гуммиарабика, посмотрел на застывшие белые капли вокруг плоской кисточки и улыбнулся:
– Этим окна заклеивать? Ну, детский сад!
– Это Катя, – поспешила отгородиться от нее Зоя. – Я прекрасно знаю, что клейстер нужен.
– Да. Тогда окончание операции по утеплению мы отложим до вечера, а сейчас поедем на прогулку.
Катя захлопала в ладоши. Зоя протянула:
– Наконец-то…
– Клейстер возьмете на кухне. Там варили с утра. Если кончился, то и бог с ним. Можно любое мыло положить ненадолго в воду, чтобы размякло, потом им мазать полоски и наклеивать на щели. Даже лучше, весной легко отклеится. Ну собирайтесь, девочки, и я пойду оденусь.
Извозчик в старом армяке вез их в неудобной с потертыми подушками коляске, запряженной парой маньчжурских рыжих лохматых лошадок. Проехали по проспекту мимо деревянного собора, похожего на расписной пряничный домик, к знакомому уже вокзалу, к кремовому двухэтажному зданию с лепными украшениями – Железнодорожному собранию.
– Здесь иногда бывают концерты, а летом в саду уже тенисто от молоденьких вязов и тополей. Но зелени, в общем, мало.
Коляска жестко подскакивала на замерзшей грязи. Широкой муарово-серой равниной раскинулась Сунгари. Солнце висело негреющим оранжевым шаром.
– Там, где госпиталь, это Новый город, он очень быстро растет. Отведены места для парков и аллей. А вы заметили… и вон тоже, смотрите… везде легкие резные балкончики в китайском стиле, и даже в архитектуре обычных казенных зданий некоторое изящество. Плохо только, что дорог хороших мало и на площади перед пристанью в дождь такое болото, что экипажи застревают безнадежно. А пристань – это целый район, самый оживленный, торговый, но неблагоустроенный пока. Еще есть Модягоу и китайская часть Фуцзядянь. Я чувствую, что вы ждете экзотики, поэтому именно в Фуцзядянь мы и направляемся.
Они медленно ехали по узкой улице с низкими, обмазанными глиной домами. Коляску обгоняли разносчики-развозчики. Каждый что-то мелодично тянул на свой мотив.
– Послушайте и отгадайте, что продает вот этот, – показал Савельев на пожилого китайца в синей куртке, еле тащившего большую флягу и не перестающего голосить.
– Не знаю, – пожала плечами Зоя.
– А попробуй повторить, что он поет.
– Малакатанапладавай, – подражая китайцу, напела фразу Катя и, довольная собой, воскликнула: – Молоко продаю!
– Они просто картавят, но по-русски понимают, и, если прислушаться, можно разобрать, что лопочут.
Проплывали медные щиты менял; уличные цирюльники, погромыхивая нехитрым скарбом, подпрыгивали, пытаясь согреться; холодный ветер колебал полотнища с иероглифами – вывески, развешанные на столбах перед дверями. Чем богаче магазин, тем более вычурной была резьба на этих столбах, тем более яркими и игрушечно-устрашающими драконами, разевающими пасти навстречу покупателям, были они обвиты. Савельев открыл перед девушками дверь в магазин с вывеской, покрытой позолотой и стоившей, наверное, не одну сотню рублей.
– В этих иероглифах запечатлена вся история магазина и родословная хозяина, – пояснил Сергей.
Глаза разбежались от обилия товаров. На канах грудами были навалены рулоны расписного шелка. Одеяния, традиционно расшитые цветами и птицами, висели, пестрым ковром закрывая стены. Платки, тончайшие роскошные халаты… Катя, не удержавшись, сразу купила один, синий в белых орхидеях, себе и красный с хризантемами Ирине Петровне.
– Не годишься ты в китаянки, Катенька, – подтрунивал над ней Савельев, пока они ехали к следующему магазину, – Китаянки похозяйственнее. Прежде чем купят дорогую вещь, неделю ходят в один и тот же магазин, разговаривают, торгуются, мужчины табачком друг друга угощают. А выбранный товар им домой приносят, там его еще раз разглядывают и только после этого рассчитываются. А ты сразу – нате вам червонцы.
По углам стояли полицейские в красных куртках с иероглифами на груди и с дубинками в руках.
– Скучно им здесь, наверное, экипажей мало, а китайцы кажутся такими тихими.
– Днем – да, а вечером им работы хватает. Всякий сброд шастает Говорят, несколько лет тому назад кому-то из высших чинов пришла в голову чудная мысль: неплохо бы, мол, очистить город от подозрительных личностей, особенно в районе пристани. Но, к сожалению, от нее пришлось отказаться: при чуть более внимательном взгляде оказалось, что таковых набирается с половину Харбина. Осторожнее по вечерам. Ограбить, а то и убить могут запросто.
– Фу, запугал совсем, – встряхнула кудряшками Зоя и принюхалась: – Чем-то пахнет съедобным, но не пойму, вкусным или противным.
– Просто непривычным, – поправил ее Савельев, остановившись у огромного котла, из которого повар накладывал в протянутые глиняные чашки порции риса с кусочками свинины; люди уходили есть в комнату через настежь распахнутые двери.
Катя заглянула внутрь. Китайцы, быстро и искусно шевеля палочками, съедали снедь. Из первой комнаты был выход во вторую, притемненную. Там словно неряшливой рукой были раскиданы на канах и на полу тела китайцев в самых причудливых позах. Один из них протягивал к маленькой лампочке проволоку с шариком на конце. Катя натолкнулась на неприязненный взгляд и почувствовала, как Савельев потянул ее к коляске:
– Не суй свой нос, куда не следует, Катерина, там же курильня опиума. – И, заглаживая невольную резкость, весело сказал: – Вижу, уличная харчевня вам не по вкусу, но перекусить надо, так как моя программа простирается и на вечер. Раз уж выбрались сюда, поедем в китайский театр, но сделаем передышку от экзотики и поедим русской пищи. Один китаец здесь, рядом, вполне сносно научился жарить блинчики с мясом…
Потом уже он пояснил:
– Шарик видела? Белый? Опиум. Накаляется на лампочке до кипения, кладется в трубку. Две-три затяжки – и человек улетает. Почти на тот свет.
К неизменным драконам у китайского театра их коляска подъехала одновременно с грохочущей фудутункой – двухколесной, как арба, низко крытой повозкой. С наслаждением разгибаясь и вздыхая, из нее вылезли важные китайцы. Пока Савельев расплачивался с извозчиком, дверь перед Зоей галантно распахнул китайский полковник со стеклянной шишкой на шапке. Широко улыбнувшись, как позолоченная маска, висевшая напротив входа, он, мешая русские и французские слова, пожелал им приятно провести время и вошел в зрительный зал.
Катя так старалась все вокруг разглядеть до мелочей, что Зоя прошептала ей на ухо:
– Хватит вертеться, шея заболит.
Сергей провел их в ложу. Европейцев не было видно совсем. Зал понемногу заполнялся. Партера, как такового, не было. Вместо него стояли столики. За ними рассаживались мужчины, заказывая чай и раскуривая трубки. А в ложах, слегка вознесшихся над шумными столиками, расположились вельможные китайцы с женами и дочерьми в великолепных киримонах. Катя переводила взгляд с одного женского лица на другое и не могла уловить разницу, словно одно лицо, набеленное, разрисованное и украшенное причудливой прической, было размножено зеркалами.
Появились музыканты, уселись в глубине сцены, им тотчас же поднесли чай, и в свободные секунды они прихлебывали по два-три глотка из желтых фаянсовых чашек. В зале было жарко натоплено. То тут, то там пробегали служители с подносами, подвешенными к шее, и корзинками под ними. На подносах дымились кипы крошечных разноцветных платочков. Правой рукой служитель выхватывал из кипы тряпочку, а левой ловил использованные, которыми взмокшие от горячего чая и духоты китайцы вытирали потные лбы. Платочки летали над головами яркими птичками. Сергей взмахнул рукой, ловя один из них. Ему достался розовый. Он протянул его Зое, но она недовольно качнула головой.
– Ну тогда ты возьми на память о театре. – Савельев положил Кате на колени кусочек батиста, и она, поднеся его к лицу, вдохнула запах свежескошенной травы.
Ударил гонг, запела флейта, тоненько загнусавила двухструнная скрипочка, и на сцену вышли актеры. Ни занавеса, ни сложных декораций. Катя старалась вникнуть в происходящее на сцене. Вот вышел кто-то, верно изображающий старика, с голубой бумажной бородой, а у его партнера нос почему-то был заклеен белым квадратом. Первый затянул что-то высоким фальцетом, простирая ладони к безносому, и вдруг, разбежавшись в несколько шагов, подпрыгнул нелепо, взмахнув в воздухе руками. Китайцы за столиками одобрительно захлопали. Катя вопросительно посмотрела на Савельева, и он стал давать пояснения, не стараясь говорить шепотом: голоса актеров были так громки, что перекричать их мог разве только мощный голос.
– Чтобы здесь что-нибудь разобрать, надо иметь хорошее воображение. Видела, вон тот, синебородый, прыгнул на ровном месте? Так, значит, там был не просто пол, а широкая канава или, может, забор. Это, только зная текст, можно установить. Преграда. А сейчас, смотри, актер в веселой маске с красными волосами, комик наверное, пел, отвернувшись от других, а теперь, через что-то перешагнув, обращается к рыжебородому. Это он порог дома перешагнул. И наконец увидел хозяев.
Катя вдруг поняла, почему безносый странно прыгает, расставив колесом ноги:
– Сергей Матвеевич, это же он на коне скачет!
– Ну да, умница!
– Я устала, у меня от их мяуканья голова разболелась, – громко сказала Зоя, поднимаясь с кресла.
– Ну подожди еще чуть-чуть, – попробовали ее задержать, но Зоя быстро пошла к выходу, и Кате с Сергеем ничего не оставалось делать, как направиться вслед за ней.
На морозном воздухе Зоя достала белый карандашик мигренина и, со скрипом отвинтив крышечку, стала натирать виски. Катя вдохнула свежий запах камфары.
– Зоенька, ты и вправду бледная. Сейчас приедем домой, и сразу ляжешь спать, – заботливо наклонился к ней Савельев.
Экипажей не было видно, пришлось остановить фудутунку, и девушки, пригнувшись, а Сергей, сложившись в три погибели, втиснулись в нее и под громыхание колес по мерзлой грязи и частые Зоины оханья покатили обратной дорогой.
Дома, едва скинув шубку и мурлыча веселый мотивчик, Катя стала развязывать невесомые пакеты с китайскими халатами. Шурша, упала на пол бумага. Вдруг Катя услышала с Зонной кровати всхлипывания, грозящие перерасти в истерику.
– Ты что, Зоенька? Тебе плохо? Валерьянку накапать? Укол?.. Сейчас я Сережу позову…
– Не смей! Не надо мне ничего.
Катя остановилась возле нее в нерешительности.
– Что-нибудь случилось?
Сквозь Зоины еле сдерживаемые рыдания она едва разобрала:
– Я ехала за тридевять земель… как дура… к нему… Думала, сегодня поедем – он мне подвенечный наряд подарит… А он… краснобородые комики… сам он – синяя борода!








