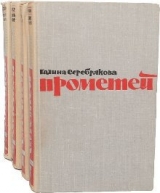
Текст книги "Похищение огня. Книга 2"
Автор книги: Галина Серебрякова
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 29 страниц)
Карл жил очень уединенно. Вейдемейер был за океаном. Веерт странствовал, Энгельс и Вольф находились на Британском острове, но вдали от Лондона.
В числе немецких эмигрантов, нашедших гостеприимный кров у Маркса, был двадцатишестилетний, ничем особо не замечательный, но весьма говорливый домашний учитель Вильгельм Пипер. Он чувствовал себя отлично, ночуя на тюфяке, постланном на полу на Дин-стрит, 28, и питаясь скромными, но очень вкусными обедами, которые приготовляла добросердечная Ленхен. Пипер играл с детьми, вмешивался во все дела Женни, повторял с важным и поучающим видом, словно эхо, все, что говорил по тому или иному поводу Маркс, и охотно выполнял некоторые секретарские обязанности. Не имея собственной отчетливой индивидуальности, Пипер был подобен благообразной внешностью и характером луне, которая, являясь мертвым светилом, отражает свет солнца. Находясь возле Маркса, Пипер казался даже ярким, поскольку довольно точно использовал то, что перенимал у Карла.
Назойливый, неумный Пипер поступил в качестве домашнего учителя в семью одного из родоначальников династии банкиров Ротшильдов в Лондоне. Зимой 1852 года он снова зачастил на Дин-стрит.
Пппер, которого Карл иногда называл добрым малым, в последнее время возомнил себя теоретиком и надоедал всем поучениями. Самонадеянно, бестактно и намеренно громко он пытался излагать то, что сам довольно плохо усвоил, вмешивался в разговор, испытывая этим долготерпение Карла и Женни.
Шутки ради он принимался поддразнивать детей Маркса и как-то, подарив не по годам смышленому Мушу нарядную записную книжечку, пригрозил затем, что заберет ее обратно. Обеспокоенный малыш спрятал подарок в укромное место и с таинственным видом шепнул на ухо отцу:
– Знаешь, Мавр, теперь-то я книжечку так запрятал, что ее никто не найдет. А если Пипер спросит, я скажу, что подарил ее нищему.
Пипер, как и все, кто бывал в семье Маркса, любовался величавой прелестью Женни. Лишения не отразились на ее красоте. Скромная одежда не ослабляла впечатления, которое она производила на окружающих.
«Хороша, словно греческая богиня, и к тому же так умна, приветлива, учена и остроумна», – думал Пипер и охотно выполнял ее поручения. Он помогал ей в переписке рукописей Маркса и в разных маленьких домашних делах.
Покинув роскошный дом Ротшильда, Пипер еще откровеннее восторгался Женни. В самых богатых хоромах ому не довелось встретить равную ей по красоте и статности женщину.
«Ни один современный Крез не может похвалиться такой женой, как Маркс, – думал он. – И эта чудесная жемчужина находится в такой нищете, предпочла жизнь изгнанницы, отказалась от всего, что обеспечивали ей знатность и необыкновенная красота».
Кончилась зима. Женнихен и Лаура с утра уходили в школу, и в мрачной квартирке становилось скучнее. Прекратились черные и желтые туманы, и на Пиккадилли-серкус появились первые продавщицы лиловых фиалок и ярко-желтых дефидолий. Над городом повисла прозрачная дымка белого тумана.
После долгого вынужденного затворничества Карл, выкупив из ломбарда сюртук и штиблеты, вышел впервые на улицу. Он жмурился от яркого света и глубоко вбирал влажный и дымный, как всегда в столице Англии, воздух. От многодневного пребывания в четырех стенах у Карла кружилась голова. Он приподнял шляпу с квадратной тульей и широкими полями, радуясь прикосновению свежего ветерка к густым волосам.
Было воскресенье – унылый конец английской педели, день, предназначенный не только Лютером, Кальвином, но и английским парламентом для чтения Библии, размышлений о грехах и их искуплении. Более ста лет назад особым парламентским декретом в «божьи» дин были воспрещены под угрозой строгих кар всякие общественные увеселения, зрелища, музыка, танцы.
В праздники Лондон казался опустошенным, как в средневековье эпидемией оспы или великим пожаром. Театры, против которых беспощадно боролся Кромвель, ненавидевший их, как потеху презренной аристократии, все еще несли на себе клеймо пуританского проклятия. Вышедшие из подполья в эпоху реставрации королевской власти, они, однако, никогда не смогли вернуть себе привилегии шекспировской поры и безропотно подчинялись в середине XIX века парламентским гонениям, имевшим почти двухсотлетнюю давность. В день отдыха закрыты были не только все без исключения магазины, читальни, но и рестораны. Зато в этот день, когда люди изнывали от безысходной скуки, особенно бойко торговали пивные. Заглянув в одну из них, Маркс увидел за столом с кружкой пива в руке Эрнеста Джонса, с которым был дружен последние годы.
– Алло, Карл, очень рад вас видеть, садитесь, дружище, – на чистом немецком языке весело приветствовал его Джонс – один из вождей чартистов, известный поэт и замечательный оратор. – Кончили ли вы книгу, ради которой ведете столь отшельническую жизнь? Не желая нарушать вашего творческого уединения, я не заходил к вам довольно долго. Надеюсь, вы подвели хорошую мину под негодяя Бонапарта? Никому это не удастся лучше, нежели вам. Известна ли вам резолюция, вынесенная на нашем митинге в Национальном зале?
Джонс вынул из кармана печатный текст и прочел его не без пафоса. У него был чистый, громкий голос и энергическая жестикуляция:
– «Митинг с ужасом и отвращением встретил победоносное узурпаторство Луи-Наполеона – узурпаторство, совершившееся с помощью целого ряда преступлений, измен, насилий и организованных убийств, не знающих себе равных во всей истории Европы. Мы глубоко сочувствуем великодушному французскому народу, видя, как национальные права и свободы, завоеванные нм с такими тяжелыми усилиями, грубо попираются военной силой, и мы твердо надеемся вместе со всеми благомыслящими людьми, что Европа скоро увидит конец этой узурпаторской власти, конец, достойный его царствования, достойный его преступления и его неблагодарности по отношению к французскому народу».
– Что ж, резолюция резка, и это хорошо, – сказал Карл.
– За нее голосовало большинство присутствовавших.
Между прочим, время оказалось хорошим учителем для господ вроде Карлейля. Второе декабря – великолепная иллюстрация к их теории о великих личностях, творящих историю. Если такое продажное и трусливое ничтожество смогло возглавить государство великих свободолюбцев, чего же стоят все разглагольствования о культе героев?
– На гребне исторической волны иногда может оказаться скорлупа от яйца или даже навоз, – саркастически улыбнулся Карл.
– Ого, сильно и точно сказано. – Свежее, приветливое лицо Джонса приняло чрезвычайно серьезное и даже несколько суровое выражение напряженно думающего человека. Рука англичанина поднялась, разжалась и точно схватила что-то. – Я понял, Маркс, что вы, именно вы являетесь живым опровержением тех, кто считает решающей силой роль личности в истории. У вас проникновенный, нечеловеческий разум, ваша самоотверженность почти божественного свойства. Не мешайте мне говорить. Оттого, что вы пришли в этот мир тогда, когда, согласно вами же найденной разгадке, экономические, исторические предпосылки для осуществления самых благородных целей человечества еще отсутствуют в должной степени, вы, Маркс, еще не стали душой и мыслью масс, вы, мудрый и сильнейший из сильных, не оценены пока по достоинству. Вы принадлежите будущему.
Маркс несколько раз пытался остановить пылкую речь Джонса, но ему удалось только задержать его руку, то и дело выбрасываемую вверх, как бы следом за словами.
– Не прерывайте меня, Карл. Для рабочего класса, когда он победит, будут святы имена революционеров и теоретиков.
Джонс прочел свои новые стихи о борьбе пролетариев.
– Хорошие стихи, – сказал Карл.
Джонс принялся за кружку эля и сандвичи. Вскоре Маркс и Джонс вышли на безлюдную улицу. Было еще светло.
– Проклятое воскресенье, день, когда воистину некуда податься. Сидеть на скамейках в парках рискованно, легко осложнить себе жизнь ревматизмом. Давайте погуляем, – предложил Джонс.
– Отлично, – согласился Карл, любивший ходьбу.
Они медленно направились к Гайд-парку по широкой степенной улице магазинов – Оксфорд-стрит. Джонс был ростом ниже Маркса, по так же широкоплеч и крепко скроен.
– Вы так-таки ничего еще мне не сказали о своей новой книге, – заговорил снова англичанин. – Слыхали ли вы о двух французских сочинениях, посвященных, также как и ваше, перевороту второго декабря?
– Да, я их читал. Переворот «елисейской банды» волнует и будет еще долго будоражить умы всех демократов мира. Одна из книг называется «Наполеон малый». Автор – Виктор Гюго, другая – «Государственный переворот» небезызвестного вам Прудона. Гюго и я, как видите, эмигранты, и оба нашли прибежище на земле туманного Альбиона.
– Не хочу ставить вас, Маркс, в один ряд с другими. Нельзя не уважать таланта Гюго, он, в конце концов, смелый человек. Что же касается достопочтенного Прудона, то чем дальше, тем больше он становится похожим на свистульку, воображающую себя органом.
Карл принялся рассказывать Эрнесту Джонсу о двух французских книгах, посвященных столь волновавшей его теме.
– Для Гюго события второго декабря явились громом среди ясного неба. По его мнению, это чуть ли не рок. Он видит в случившемся лишь насильственное деяние одного человека и, пытаясь умалить значение политического прохвоста, каким, несомненно, является Лун Бонапарт, возвеличивает его, приписывая безмерную мощь личной инициативе. Это неизбежно, раз не объяснены и попросту обойдены молчанием истинные исторические и политические причины такого стремительного возвышения. Поэтому книга Гюго, по-моему, несмотря на едкие и остроумные выпады, неубедительна и легковесна, как карточный домик.
– А что получилось у Прудона? – поинтересовался Джонс.
– Прудон впадает в ошибку так называемых объективных историков. Незаметно для себя самого, он хотя и стремится представить государственный переворот результатом предшествующего исторического развития, но фактически непрерывно возвеличивает Луи Бонапарта.
– Понятно, а вы, Маркс, как разрешили загадку трагикомических событий во Франции? Я обязательно прочту «Восемнадцатое брюмера». К счастью, мне не придется ждать обещанного Пипером английского перевода, так как я достаточно владею немецким. Большое удовольствие прочесть ваше сочинение в оригинале.
– Спасибо, Джонс. Я в своей книге, в противоположность Гюго и Прудону, показываю, каким образом классовая борьба во Франции создала предпосылки для того, чтобы этот скоморох Луи-Наполеон смог сыграть роль героя.
Условившись с Джонсом о встрече на следующий день, Маркс свернул в квартал Сохо. Внезапно обернувшись, он увидел круглое веснушчатое лицо следовавшего за ним почтенного господина в шляпе пирожком.
«Мой шпик тут как тут. Долго же я водил ого по городу», – подумал Карл. Это его рассмешило. Подойдя к своему дому, Карл еще раз посмотрел на несколько смущенного шпика, который сделал такой жест, точно хотел снять свою странного фасона шляпу и раскланяться.
Насвистывая шуточную немецкую песенку, Карл поднялся на второй этаж в свою квартиру. Едва он открыл ключом дверь, как услышал хор детских голосов:
– Ура, дядя Ангельс приехал, дядя Ангельс привез леденцы, конфеты и разные вкусные вещи!
Позади оживленных, разрумянившихся Женнихен и Лауры с Мушем на руках появился Энгельс.
– Ба, вот приятная неожиданность! У пас Фредерик, – радостно воскликнул Маркс, сбросив пальто.
Осторожно поставив мальчика на пол, Фридрих подошел к Карлу, ласково всматриваясь в его лицо.
– Как твои глаза? Кажется, тебе лучше. Наконец-то я вырвался опять к вам на несколько дней из проклятого Манчестера. Госпожа Маркс рассказала мне уже много интересного о твоей книге, а Ленхен напоила превосходным кофе. Я провел часок в обществе своих маленьких друзей. Мы выстроили великолепный вигвам и раскурили трубку мира.
Весь вечер, пока не улеглись дети, в квартире Маркса не смолкали смех и шутки. Когда Ленхен наконец удалось уложпть спать Женнихен, Лауру и Муша и укачать покашливающую хилую Франциску, собрались все взрослые члены семьи. Карл и Фридрих заметно истосковались друг по другу и сели рядом. Улыбка не сходила с их лиц. Переписка могла лишь отчасти заменить им живое личное общение. В редкие встречи они старались возместить время, прошедшее в разлуке.
В разговоре оба друга как бы ковали на огне мысли, те положения в политике, экономике, истории, которые не раз обдумывали и проверяли порознь, отделенные десятками миль. Но вначале беседа скользила лишь но поверхности. Они как бы отдыхали рядом.
– Джонс, несомненно одареннейший из чартистов, повсюду рекламирует твою корреспонденцию, Фридрих, сохраняя, однако, твое инкогнито. Завтра ты услышишь сам его мнение об этом. Кстати, я ужо писал тебе, что неудавшийся Марат – достопочтенный Гарни, любитель всяких театральных эффектов и рекламной шумихи, бесстыдно отбивает для своей газеты «Друг народа» подписчиков у Джонса. Черт знает где достает он деньги. Недавно Гарни нанял и пустил по Лондону фургон с объявлениями, призывающими подписываться на «Друга народа». Во всех витринах магазинов, хозяева которых объявляют себя социалистами, ты можешь полюбоваться рекламой газеты благородного чартиста Гарни Джорджа Джулиана.
– Думаю, что госпожа Гарни, его супруга, принимает во всех этих предприятиях самое деятельное участие. Я знавал только одну женщину столь же напористую, – сказал Энгельс. – Ты догадываешься, конечно, кого я имею в виду?
– Прелестнейшую из гадюк – Эмму Гервег, – смеясь, ответил Маркс. – Я теперь еще более убежден, что Гарни тщетно пыжится и хочет доказать, что мыслит и действует самостоятельно.
– Ты превосходно заметил, Карл, когда-то о Гарни, что в душе его живут три духа, – вмешалась в разговор Женин, – один усмирен вами, господин Энгельс, вот отчего мистер Гарни всегда отступает и как-то сжимается, когда вы с ним спорите, второй – это он сам в неприкосновенном виде, но третий и к тому же самый могущественный – это семейный дух, его достойная супруга.
– Эта дама, – заметил, смеясь, Карл, – превосходит всех героинь Шеридановой «Школы злословия». Бекки Шарп из «Ярмарки тщеславия» по сравнению с ней новорожденный младенец. Даже меня и Женни она умудрилась впутать в свои мерзкие сплетни. Эта женщина сует свои длинные руки не только в кухонные кастрюли знакомых, но и во все политические начинания мужа. Немало хороших людей уже поплатились только за то, что встречались с ней когда-либо. Но довольно об этом. Хорошо, что Эрнест Джонс другой. Несмотря на некоторую мягкость характера и частые колебания, он, несомненно, последовательный, надежный борец. Читал ли ты его новую поэму?
– Стихи Джонса очень хороши, – сказала Женни, оживившись. Она, как и Карл, любила искусство во всех его проявлениях и не уставала следить за литературой, поэзией, музыкой.
В соседней комнате раздались стоны и мучительный детский кашель.
– Франциска снова больна. У нее, по-видимому, бронхит. Как я боюсь за эту крошку! – Сказав это, Женни поспешно вышла из комнаты.
– Я разделяю тревоги госпожи Маркс, – произнес Фридрих. – Ребенок кажется мне очень слабеньким. Хорошо, если не будет воспаления легких.
Маркс помрачнел и нервно принялся отыскивать на столе коробку с пахитосками. Он тяжело вздохнул.
– Бедное дитя, – сказал Карл тихо. – Оно пришло в мир в тяжелое для нас время. Женни, произведя на свет Франциску, горестно оплакивала нашего умершего сынишку. После родов, как ты, наверно, помнить, она долго болела. Ребенок находился у кормилицы. Здесь ведь к тому же так тесно. Материальное положение мое так плачевно, что больная малютка не имеет необходимых лекарств и достаточной врачебной помощи. Если бы не ты, Фредерик, мы уже, должно быть, не существовали бы больше.
Энгельс не мог усидеть на месте. Он встал, прошелся по комнате, стиснул руки и сказал с горечью:
– Молчи, Карл. Я так мало могу сделать теперь для тебя и твоей семьи. Но терпение, друг! Когда я перестану быть всего лишь конторщиком и сделаюсь компаньоном фирмы отца, где бы она ни была – в Манчестере или Ливерпуле, все сразу изменится в твоей жизни. Я не могу дождаться той минуты, когда твоя семья будет иметь все необходимое и ты спокойно сможешь писать свою, несомненно замечательную и необходимую для нашей борьбы и победы, книгу по политической экономии. То, что ты мне показывал, превосходно и нужно миру и человечеству как воздух. Ты допишешь свой труд, чего бы нам это ни стоило, а пока…
Голос Энгельса, всегда такой ровный, уверенный, дрогнул. Маркс посмотрел на него сверкающим благодарным взглядом. Они молча закурили. Вскоре разговор возобновился, сначала отрывисто, вяло, затем с нарастающей силой и увлечением. Оба друга как бы домысливали в беседе все, что было не до конца уяснено. Взаимопонимание Карла и Фридриха было так велико, что, едва один начинал говорить, другой мгновенно безошибочно мог продолжать его мысль. В этом отчетливо сказывались их совершенная близость и единство.
Оба они отлично знали все, что касалось развития английской экономики и важнейших политических событий. Маркс и Энгельс жили интересами всей планеты, и разговор их был подобен кругосветному путешествию. Индия, Америка, Китай и европейские страны – все это было в поле их зрения и мысли.
Но вот беседа перешла к волновавшим их особенно делам Союза коммунистов. Маркс, негодуя, рассказывал о подлом прусском провокаторе Гирше, втершемся в Союз коммунистов.
– По моему предложению, – говорил он, – этот юркий негодяй был исключен на очередном собрании коммунистов Лондонского округа. Пришлось изменить адрес и день еженедельных собраний, чтобы скрыться от полиции. Вместо Фаррингтон-стрит в Сити, где мы собирались по четвергам, отныне встречаться будем в таверне «Роза и корона», неподалеку отсюда, в Сохо, на Краун-стрит. Как видишь, Фред, мы окружены шпиками. Наши письма перлюстрируются. Необходима осторожность, чтобы ничем не подвести арестованных в Кёльне братьев по партии.
Борьба за соратников, которых привлекли к суду, обвиняя в участии в так называемом немецко-французском заговоре, была кровным делом Маркса и Энгельса, и они долго обсуждали, как следует им ее вести. Было уже далеко за полночь, когда они заговорили об американских друзьях Вейдемейере и Клуссе, который недавно сообщал в письме много важных сведений о деятельности за океаном мелкобуржуазных политических дельцов, таких, как Кинкель и Гейнцен.
– Ну, а как ведут себя эмигрантские инфузории здесь, в Лондоне? – спросил насмешливо Энгельс.
– Копошатся. Чтобы различить их деятельность, требуется сильнейший микроскоп. Но переступим через них. Я уже знакомил тебя с тем, что установил для самого себя со всей ясностью в сложном вопросе о классах и классовой борьбе в истории. Существование классов связано лишь с определенными фазами развития производства – это первое; классовая борьба неизбежно ведет к диктатуре пролетариата – второе, и, наконец, третье – эта диктатура сама собой составляет лишь переход к уничтожению всяких классов и к обществу без классов вообще.
На следующий день Фридрих пришел на Дин-стрит в холодные серые сумерки. Здоровье Франциски ухудшалось, и в квартире царило беспокойство. Женни и Ленхен не отходили от больного ребенка. То они принимались обогревать его, закутывая в теплую шаль, то, не добившись облегчения, бросались поднимать раму окна, чтобы освежить комнату притоком воздуха. Ничто не помогало.
Старшие дети, Карл и Фридрих перешли в соседнюю комнату. Камин чадил, и Карл принялся растапливать его. У огня на рваном полосатом пледе лежал хилый котенок. Все в семье Маркса и он сам трогательно жалели и любили животных. Часто дети приносили с прогулки домой брошенного щенка или горемычную кошку.
Энгельс раскладывал на тонких ломтиках белого хлеба ветчину и сыр. Он был большим мастером делать сандвичи. Женнихен и Лаура с детской беспечностью помогали ему. Потом они окружили Энгельса, требуя сказок. Только Мавр, по мнению детей, умел сочинять их лучше Фридриха. Но в этот печальный день они не решались просить о чем-нибудь отца.
Прежде чем начать рассказ, Энгельс прошел в соседнюю комнату.
Женни бросилась к нему навстречу, тревожно говоря:
– Малютка очень страдает. Она задыхается. Я никогда не видела, чтобы бронхит был столь мучительным. Не знаете ли вы какого-либо исцеляющего средства?
– По моему разумению, надо искупать ее, – вмешалась решительно Ленхен. – Когда-то господин Гейне спас горячей ванной от смерти нашу крошку Женнихен.
– Что ты думаешь о ванне, Фред? – с надеждой в голосе спросил Маркс, взяв на руки хрипящую потную Франциску.
Маленькие ноздри девочки раздувались. Иногда она открывала мутные тоскливые глазки, глядя в пространство. Впервые в жизни Карл вдруг почувствовал желание закричать о помощи. Он крепко закусил губы и отвернулся, чтобы скрыть слезы.
– Конечно, это не может причинить вреда малютке. Ванна, во всяком случае, совершенно безвредна, – ответил Энгельс и принялся деятельно помогать Ленхен готовить горячую воду. Про себя он думал: «Ребенок очень болен. Неужели и он, как Фоксик, погибнет в Лондоне?»
После ванны Франциске стало лучше, и надежда – эта злейшая и желаннейшая обманщица – снова внесла успокоение в семью Маркса.
Фридрих вернулся к терпеливо поджидавшим его детям. Он пододвинул единственное кресло к камину, и Муш тотчас же забрался на его колени, а девочки уселись рядом. Насытившийся котенок улегся у их ног, поближе к огню.
– Надеюсь, я не помешаю импровизации? – спросил Маркс и подошел к рабочему столу, чтобы просмотреть свежий номер «Таймса».
– Нет, Мавр. Но, увы, я не обладаю твоим даром фантазии. Хорошо, что мои слушатели весьма снисходительны. Итак, хотите ли вы, высокочтимые леди и джентльмены, послушать миф о Прометее? – сказал Энгельс, обняв одной рукой Муша, другой – Лауру и Женнихен.
– Да, да, о Прометее! – закричали дети, которым понравилось звучное, никогда ранее не слышанное имя.
Фридрих понизил голос и медленно, таинственно, как надлежало, начал рассказывать сказку.
– Это было давным-давно, на далеком рубеже земли, принадлежавшей жестокосердным скифам. Там всегда грохотало и пенилось море. Узкие и острые скалы, будто ножи и кинжалы, торчали на берегу, омываемые волнами. Никогда не ступала в этой дикой и пустынной местности нога человека. Но вот однажды появились там страшные стражи сурового греческого бога Зевса. Их звали Власть и Сила. Они гнали перед собой титана – Прометея, чтобы приковать его навеки к вершине самой высокой скалы. Позади Прометея, печально понурив голову, брел его друг, сын Зевса, кузнец Гефест. Ему было приказано приковать к скале руки и ноги пленника. Но мало показалось Зевсу этого наказания, и он велел также пронзить грудь титана стальным острием. «Сильней бей молотом! Крепче стягивай оковы!» – приказывали Власть и Сила Гефесту. «О Прометей! – шептал тот печально. – Я страдаю, видя твои муки, но не могу ослушаться грозного бога Зевса». – «Торопись, бей крепче, иначе и ты тоже будешь закован!» – прервала Гефеста суровая Власть.
И вот все было кончено. Титана приковали к скало и в грудь воткнули стальное копье.
«Безумец, ты помог людям и навлек гнев богов, а эти жалкие однодневки на земле не придут облегчить теперь твои страдания. Зачем ты пожалел их, дерзкий?» – насмехались над титаном Власть и Сила.
Маркс давно отложил газету и, опершись головой на руку, то ли слушал, то ли думал о чем-то.
– Распростерт на высокой скале, – продолжал Энгельс громче, – пригвожден и опутан оковами Прометей. Жгут его тело палящие лучи солнца, проносятся над ним бури, по изможденному телу хлещут дожди и град, зимой леденящий холод сковывает искалеченное тело. Каждый день громадный орел прилетает и садится на грудь Прометея и рвет клювом его печень. Потоками льется кровь, обагряя скалу. За ночь заживают раны и вновь отрастает печень, но утром прилетает орел и клюет ее снова. Многие сотни лет длятся эти муки, но не сломлен гордый дух Прометея страданиями. Бессильны перед ним его лютые враги.
– Какая страшная сказка! – говорит Лаура.
– А за что приковали Прометея к скале? – спрашивает Женнихен, блестя черными, в голубой оправе белков, такими же яркими, как у отца, глазами.
Муш силится понять сказку и напряженно морщит лобик.
– Могучий Прометей, вопреки воле Зевса, похитил с божественной горы Олимп небесный огонь и передал его людям, – продолжает Энгельс. – Полудикие, жалкие, несчастные люди благодаря огню обрели письменность, числа и ремесла. Прометей, принес им счастье и подорвал безграничную власть над человеком мстительных богов.
За помощь сильную
Главарь богов неистовыми пытками
Мне отомстил наградою чудовищной, —
декламировал Фридрих строфы из Эсхилова «Прикованного Прометея».
Ведь такова болезнь самодержавия:
Друзьям не верить, презирать союзников,
Вы спрашивали, почему постыдно так
Меня калечит, – ясный дам, прямой ответ.
Едва он на престол сел родительский,
Распределять меж божествами начал он
Уделы, власти, почести: одним – одни,
Другим – другие. Про людское горькое
Забыл лишь племя. Выкорчевать с корнем род
Людской замыслил, чтобы новый вырастить.
Никто за них не заступился, я один!
Один лишь я отважился! И смертных спас!
Энгельс помолчал.
– Вот что еще говорил Прометей, – сказал он затем: – «Я людям подарил огонь…»
Женнихен протянула ручки к камину.
– Он стащил с неба огонь? – сказала она, удивленно вскинув вверх черные ресницы. – Но как стали бы люди жить без него? Они замерзли бы, наверное?
Никто ей не ответил. Муш дремал на руках Энгельса. Лаура прикорнула, положив голову на его колено. И Женнихен одна, пораженная загадочной сказкой, смотрела не мигая в пасть камина. Ей казалось, что сквозь пунцовые языки пламени она видит распластанное тело Прометея, которое разрывает острый птичий клюв.
В тихой комнате снова зазвучал мужественный голос Энгельса. Он продолжал читать наизусть столь любимые Марксом и им стихи Эсхила:
… Врагу от врагов
Казнь и муку терпеть – в этом стыдного нет,
Ну так пусть двухлезвийные кудри огня
В грудь мне ринутся, в клочья пускай разорвут
Воздух – громы и дурь сумасшедших ветров!
Пусть тяжелую землю до самого дна,
До кремнистых корней потрясет ураган.
Пусть в кипенье и бешенстве хляби морей
Вперемежку сплетутся с дорогами звезд.
Пусть швырнут мое тело в бездонный провал
Чернокрылого тусклого Тартара, пусть
Заклубит меня круговерть медной судьбы,
Умертвить меня все же не смогут!
Энгельс опустил глаза и увидел, что только Женнихен по-прежнему жадно слушала, раскрасневшись, миф о Прометее. Муш и Лаура тихо спали.
– Несчастный титан. Неужели всегда Зевс будет его так жестоко мучить? – спросила Женнихен испуганно.
– Прометей – огненосец и провидец. За это-то больше всего и ненавидел его злобный бог. Прометей предсказал, что Зевс должен погибнуть.
Пускай сейчас надменен Зевс и счастьем горд,
Смирится скоро!..
…Пускай царит, небесными гордясь громами.
Пускай царит,
В руке стрелою потрясая огненной!
Нет, не помогут молнии. В прах рухнет Зевс
Постыдным и чудовищным крушением.
Соперника на горе сам себе родит,
Бойца непобедимейшего, чудного!
Огонь найдет он гибельней, чем молния,
И грохот оглушительнее грома гроз…
И содрогнется в страхе Зевс.
Наступило молчание. Затем, улыбнувшись широкой ласковой улыбкой, Фридрих продолжал, обращаясь к своей единственной слушательнице:
– Запомни, малютка, Прометей был великий и благородный мученик, как сказал некогда наш Мавр. Он принес себя в жертву потому, что больше всего на свете любил людей. Ничто и никто не мог сломить его волю. Только божественный огонь мог принести счастье людям. И раз боги не отдали добровольно, Прометей его похитил.
Тринадцатого апреля, после нескольких дней пребывания в столице, Фридрих уехал в Манчестер. А днем позже в тяжких страданиях умерла маленькая дочь Маркса.
Снова светило лондонское солнце сквозь прозрачную дымку. Наступила пасха. Продавщицы цветов вывезли на улицы тележки с букетиками разноцветных голландских тюльпанов и серебристых нарциссов. Звонили колокола. В сквере Сохо зеленела свежая трава, веселились воробьи. Только в квартирке на Дин-стрит, 28, стало еще мрачнее. Крохотное бездыханное тельце умершей покоилось в маленькой комнате. Трое детей и трое взрослых горько оплакивали Франциску.
Смерть вошла в дом, где господствовала нищета. Ленхен первая, со свойственной ей трезвостью и силой перед лицом всяких страданий, вспомнила о том, что нужен гробик, но в кошельке Маркса не нашлось ни гроша для его покупки. Эрнест Джонс хотел достать денег, но и ему это не удалось. Мертвое дитя, у которого никогда не было при жизни колыбельки, лежало на столе, не имея последнего прибежища. Ночью вся семья укладывалась вместе в соседней комнате.
Будущее не предвещало им скорого избавления от страшных лишений. Закрыв глаза, без сна лежала Женни возле своих детей. Мысли, одна мрачнее другой, возникали в ее утомленном мозгу. Что будет с Мушем? Не по летам развитой, необыкновенно одаренный мальчик заметно слабел, прозрачно бледным было его личико, темные круги лежали вокруг прекрасных, глубоких, полных мысли глаз.
Женни поднялась с постели, похожая на смелую прекрасную орлицу, готовую погибнуть, но спасти своих птенцов. Дети спали. Стараясь не разбудить мужа и Ленхен, со свечой в руке прошла она в соседнюю комнату, где лежало уже три дня ее мертвое дитя. Здесь в полном одиночестве, окаменев от горя, глядя без слез на застывшее белое личико, она вдруг вспомнила Трир и огромный сад с беседкой, обвитой виноградными лозами, где так любила сидеть в знойный день ее мать, баронесса Каролина фон Вестфален. Девочка, бегавшая среди цветов в белоснежном платье с оборками и бантами, похожими на стрекоз, веселая, нарядная, неужели это была она? Если бы Муш, Лаура, Женнихен росли в достатке, если бы маленькая Франциска и бедный Фоксик резвились в старом вестфаленском доме, может быть, смерть не осмелилась бы приблизиться к ним.
Больному воображению Женни послышались звуки музыки. Кто это играл обычно Моцарта на белом клавесине в зале, убранной в шотландском стиле? Это ее брат. Теперь Фердинанд фон Вестфален стал чванным прусским министром. Он богат, но никогда сестра не обратится к нему за помощью.
Снова далекий Трир приблизился к Женни. Как беспечно начиналась ее жизнь в отчем доме! Вот и платан на Римской улице, свидетель счастливых свиданий. Часто стояла она в его тени, слушая Карла. Впереди, казалось ей тогда, была одна только радость. Женни закрыла лицо руками.
– «Нет горя горше, чем в несчастье о счастии минувшем вспоминать», – прошептала она слова поэта.







