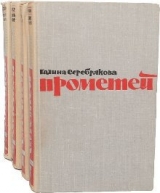
Текст книги "Похищение огня. Книга 2"
Автор книги: Галина Серебрякова
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 29 страниц)
Иначе выглядел рядом стоявший его постоянный соперник, любимец королевы Виктории – Дизраэли.
Все в этом смуглом худом человеке с насмешливыми глазами, похожем на испанского гранда, отражало откровенное, сжигающее честолюбие. Политический задор, нетерпение избалованного удачами, не знавшего преград, цинично умного Дизраэли еще больше подчеркивали скрытность, притворство, точный расчет ждущего своей минуты, готового к прыжку купеческого сына Гладстона.
Карл тщетно искал среди восковых фигур, размещенных вдоль стен наперекор историческим былям и датам, любимого своего поэта Шелли. Его не было, так же как и могучего крестьянского поэта Шотландии Бёрнса и мечтательного Китса. Но Женни увидела Шекспира. Он стоял, подняв руку в кружевных манжетах, подле хмурого Свифта.
Восковой Диккенс с нескрываемой скукой отмечал в толпе те же надоевшие, слишком знакомые лица: тощую даму с шелковой суповой миской, опрокинутой на макушку; чинного болезненного мальчика, притупленного «хорошим воспитанием»; лысого скептика; любителя виски, дымящего трубкой отставного моряка; остроголового скрягу; напыщенного ханжу; неуклюжего блеклого клерка; одинокую немолодую девушку, отдающую неисчерпанную нежность кошкам. Дольше чем перед другими куклами простаивали зрители возле шеренги выстроенных в исторической последовательности королей и королев Британии всех династий, от норманских завоевателей до современных Виндзоров. Ревнивая Елизавета и ее соперница королева шотландская стояли друг против друга. И тут же художники представили в воске сцену казни Марии Стюарт. Палач держал в руках отсеченную голову, из которой (грубый фокус) текла красная жидкость.
Сын шотландской королевы Яков, преемник рыжей распутной «девственницы» на англо-шотлапдском престоле, примирил убийцу с ее жертвой, похоронив их в одной могиле в Вестминстерском аббатстве. «Музей», следуя тому же правилу, смирил былую вражду «усопших душ». Поэтому дюжий Генрих VIII опять соединен был со всеми шестью своими женами, из которых трех он отправил на эшафот. Нумерованные Георги, Вильгельмы и Шарлотты завистливо поглядывали на маленькую немку Викторию, нынешнюю королеву Великобритании.
Маркс с женой и Энгельс прошли вдоль этого своеобразного воскового парада истории, обмениваясь ироническими репликами и взглядами.
– Англичане весьма гордятся произведениями госпожи Тюссо. Но мне это кажется пародией на подлинное искусство, – сказала Женни.
– Помесь балагана с бульварной прессой, – заметил Карл.
– Это, пожалуй, подлинное отражение испорченных вкусов и представлений процветающей империи королевы Виктории, – добавил Энгельс.
В январе 1850 года Маркс начал работать над новой книгой о классовой борьбе во Франции последних двух лет. Это должна была быть, по его замыслу, летопись революции с 1848 по 1849 год.
В тиши читальни Британского музея Карл обдумывал и готовил каждый раздел этой книги.
«Нет, – думал он, – в этих поражениях погибла не революция. Погибли пережитки дореволюционных традиций, результаты общественных отношений, не заострившихся еще до степени резких классовых противоположностей, погибали лица, иллюзии, представления, проекты, от которых революционная партия не была свободна до февральской революции, от которых ее могла освободить не февральская победа,а только целый ряд поражений».
Эту мысль Карл решил изложить как вступление к новому труду. Записав ее на бумаге, он добавил:
«Одним словом, революция шла вперед и прокладывала себе дорогу не своими непосредственными трагикомическими завоеваниями, а, напротив, тем, что она порождала сплоченную и крепкую контрреволюцию, порождала врага, в борьбе с которым партия переворота только и вырастала в подлинно революционную партию».
В этом глубоком диалектическом выводе сказался революционный вождь, мыслитель, гигант, вызвавший на бой все злые силы мира и видевший даже в поражении верный путь к победе.
Маркс, доказывая необходимость завоевания рабочим классом политической власти, впервые употребляет классическую формулу «диктатура пролетариата» и раскрывает ее политический и экономический смысл. Говоря об отличии революционного социализма и коммунизма от мелкобуржуазных утопических теорий, обанкротившихся во время революции, Маркс писал, что научный социализм есть объявление непрерывной революции, а классовая диктатура пролетариата – необходимая переходная ступень к уничтожению классовых различий вообще.
В это же время Маркс вместе с Энгельсом выпустил несколько номеров нового журнала. К сотрудничеству в нем они привлекли своих верных сторонников – Вейдемейера, Вильгельма Вольфа и других.
На ничем не примечательной обложке «Новой Рейнской газеты. Политико-экономического обозрения» наряду с Лондоном, где жили Маркс и Энгельс, значились в качестве места издания Гамбург и Нью-Йорк. Немало немцев – участников недавней революции – эмигрировало в Америку. Издатели надеялись, что за океаном журнал найдет большой спрос. Рассчитывая на новый подъем революционного движения, Маркс и Энгельс предполагали вскоре перейти к выпуску еженедельной и даже ежедневной газеты. Как всегда, Карл находил безмерное удовлетворение в многообразной работе, которой отдавался со всей присущей ему могучей страстью. Действие, как и мышление, несло для него всегда в себе то, что зовется на земле счастьем.
Как-то Энгельс ворвался к Марксу необычайно возбужденный.
– Не угодно ли? – торопливо глотая слова, начал он, сияв цилиндр и протягивая Марксу газету. – Австрийская «Abendpost» напечатала-таки всю гнусную речь господина Кинкеля в суде. Отрекшись от революции, этот подлец фактически выдал палачам пролетариев, обвиняемых по одному с ним делу.
Готфрид Кинкель, посредственный немецкий поэт, мелкобуржуазный демократ, после суда над участниками революционных боев под Раштаттом бежал из тюрьмы и поселился в Англии, где его подняли на щит как героя и мученика недруги коммунистов из немецкой эмиграции, рьяно травившие Маркса и Энгельса.
– Что ж, надо разоблачить Кинкеля, невзирая на то что все германские сентиментальные лжецы и демократические фразеры отчаянно завопят. Впрочем, он-то в душе будет нам только благодарен. Своим нападением мы лишь улучшим отношение к нему прусских мракобесов-реакционеров. Они убедятся еще раз в том, что он был искренен на суде, уверуют в его благонамеренность и пригодность служить в любом королевско-юнкерском департаменте, – саркастически говорил Маркс.
– Этот слабодушный актер прикидывается мягкосердечным младенцем в то время, когда двадцать шесть его товарищей тем же судом приговорены к смерти и расстреляны. Я знал этих людей. Смело и гордо пошли они на казнь. Вся защитительная речь Кинкеля – прямой донос на взятых в плен повстанцев. На нем кровь Янсена и Бернигау, которых казнили, – горячился Фридрих.
Карл прочитал речь Кинкеля и с отвращением отбросил газету.
– Кинкель выдал военному суду свою собственную партию! – воскликнул он. – Сообщил о ее намерениях отдать Франции левый берег Рейна. Ему ли не знать, что в момент решительных схваток между революцией и контрреволюцией пролетарский боец обязательно поддержит революцию, кто бы ее ни представлял – французы, китайцы или какая-либо иная нация.
В тот же день Маркс и Энгельс написали статью для «Обозрения», назвав ее «Готфрид Кинкель».
После мрачной зимы, изнуряющей туманами и дождями, в марте в Лондоне наступила весна, хрупкая, окрашенная в нежные полутона. Стало светлее и суше. Даже узкая Дин-стрит в Сохо под блеклыми сиренево-розовыми лучами солнца казалась менее убогой и безрадостной. Ленхен с детьми отправлялась в скверик, огороженный железной решеткой, с низенькими, еще безлистыми деревцами и яркой, как водоросли, травой. Маленькие Женни и Лаура, в шубках, из-под которых спускались оборки теплых панталончиков, бегали по серым дорожкам, перебрасываясь мячом. Возле Ленхен играл Эдгар, которого в семье все звали ласково Муш. Иногда мальчик поднимал свое удивительно осмысленное личико с задумчивыми недетскими глазами.
– Муш, лови! – крикнула шалунья Лаура и бросила мяч.
Мальчик неуверенно поднялся на ножки и протянул вверх руки. Потеряв равновесие, упал, ударившись о скамью. Скривив от боли рот, он боролся с собой, чтобы не заплакать, и пытался улыбнуться. На большом выпуклом, как у отца, красивом лбу появился синяк. Ленхен достала из кармана широкой юбки медный пенс и, приложив к ушибленному месту, другой рукой принялась шлепать скамеечку.
– Зачем ты ударила Муша, гадкая такая, – приговаривала девушка, хитро сощурив глаза и поглядывая вбок на Муша.
Успокоившись, он с удовольствием смотрел на этот акт отмщения, затем сказал снисходительно:
– Не надо. Ей ведь тоже больно.
Обе сестренки весело засмеялись, и снова началась игра.
В это время Женни Маркс, побледневшая от бессонной ночи, с пятимесячным Генрихом на руках, медленно ходила из угла в угол неуютной, нищенски обставленной комнаты. Было сыро и холодно. Горящий камин давал мало тепла. Малыш был снова болен. Он отказывался от материнской груди, извивался, стараясь высвободить худенькие, крепко спеленатые ножки. Обессилев от крика, ребенок жалобно стонал. Капельки пота выступили на посиневшем личике, и такое страдание отражалось в его глазах, что у Женни подгибались ноги и останавливалось сердце. Не было в мире жертвы, которую она не принесла бы сейчас, чтобы облегчить муки этого беспомощного существа. Сознание бессилия страшнее всего.
Дверь отворилась. Встревоженный, вошел на цыпочках Карл.
– Как наш маленький заговорщик? – спросил он шепотом с таким растерянным выражением, что Женни не решилась сказать правду.
– Ему лучше. Не тревожься, – успокаивала она мужа и крепче прижимала горячее детское тельце к груди.
Карл вздохнул с облегчением.
– Чем я могу тебе помочь? – спросил он, ободренный.
– Иди, пиши спокойно. Все хорошо. Закрой только, пожалуйста, окно.
Под квартирой, где жил Маркс с семьей, находилась прачечная, и тяжелые нары от лоханей, в которых намокало в мыле белье, проникали сквозь стены, поднимались наверх и отравляли и без того тяжелый воздух.
– Я жду вечером Фреда, Виллиха, Бауэра, – сказал Карл и вернулся во вторую, такую же сумрачную и душную комнатенку, чтобы продолжать работу за столом, заваленным книгами.
Вечером Генриху стало лучше. Обессиленная Женни по настоянию мужа прилегла подле заснувших детей. Ленхен возилась но хозяйству. Из комнаты Карла доносились оживленные мужские голоса.
Обычно заседания Центрального комитета Союза коммунистов происходили либо в помещении Просветительного общества немецких рабочих в Лондоне или в кабачках, мало доступных вниманию агентов тайной полиции, но в этот раз Маркс был не совсем здоров, и решено было собраться у него на квартире.
– Итак, согласно общему решению, эмиссаром Центрального комитета в Германии будет Генрих Бауэр. Что скажет по поводу этого достопочтенный джентльмен? – подражая лишенному оттенков скрипучему голосу парламентского спикера, закончил по-английски Энгельс, повернувшись к давнишнему своему соратнику.
– Поехать-то можно, но хватит ли моего разумения? – ответил смущенно Бауэр по-немецки. – Во всяком случае, я такой человек: взялся за гуж, не говори, что не дюж. Кем нужно быть для нашего дела, тем и буду. С тех пор как не стало Иосифа Молля, мне нигде не сидится, а особенно в этом киселе – Лондоне. Очень рад поехать на родину.
– Отлично. Вопрос решен, – подпел черту Виллих, – Теперь послушаем обращение Центрального комитета к Союзу коммунистов. Кто из двух авторов, Маркс или Энгельс, его зачитает?
– Тише, Август, с твоим голосом, подобным иерихонской трубе, командовать только на плацу. Разбудить детей, – попросил Карл.
– Прости, дружище. Сам не рад своей глотке, – извинился Виллих.
Энгельс подкрутил фитиль мигающей лампы, уселся поближе к столу и начал:
– «Братья!»
Стало тихо. Из соседней комнаты донесся шепот Ленхен, перекладывавшей Фоксика.
– «В течение обоих революционных лет, 1848–1849, Союз коммунистов вдвойне выдержал испытания: во-первых, тем, что его члены повсюду энергично участвовали в движении, что они и в печати, и на баррикадах, и на полях сражений стояли в первых рядах единственного решительно революционного класса, пролетариата. Союз, далее, выдержал испытание и в том смысле, что его воззрения на движение, как они были изложены в циркулярных письмах конгрессов и Центрального комитета в 1847 году и в «Коммунистическом манифесте», оказались единственно правильными и что высказанные в этих документах ожидания вполне оправдались, а понимание современного общественного положения – пропагандировавшееся раньше Союзом только тайно – теперь у всех на устах и публично проповедуется на площадях».
Карл, стараясь не шуметь, поднялся, вышел из комнаты и вернулся со стаканом сладкого чая, который заботливо подвинул Энгельсу.
– «Мы говорили вам, братья, уже в 1848 году, – продолжал читать Энгельс своим ровным, приятным голосом, – что немецкие либеральные буржуа скоро придут к власти и тотчас же обратят свою только что приобретенную власть против рабочих. Вы видели, как это сбылось. В самом деле, именно буржуа после мартовского движения 1848 года немедленно захватили государственную власть и тотчас использовали эту власть для того, чтобы заставить рабочих, своих союзников по борьбе, вернуться в их прежнее, угнетенное положение».
Энгельс отпил чаю и снова наклонился к столу. Он читал медленно, четко, изредка поднимая глаза на слушателей. Виллих то вставал, то садился. Он заметно нервничал. Бауэр, положив на большие колени натруженные рабочие руки с короткими пальцами, казался очень довольным.
– Все было предсказано так, точно в воду глядели, – не выдержал он.
– «И роль, которую немецкие либеральные буржуа в 1848 году сыграли но отношению к народу, в предстоящей революции эту столь предательскую роль возьмут на себя демократические мелкие буржуа…»
– Святая правда, – снова не выдержал Генрих Бауэр.
– «Мелкобуржуазно-демократическая партия в Германии очень сильна. Она охватывает не только значительное большинство бюргерского населения городов, мелкого торгово-промышленного люда и ремесленных мастеров: за ней идут крестьяне и сельский пролетариат, пока он еще не нашел опоры в самостоятельном пролетариате городов…
Далекие от мысли произвести переворот во всем обществе, в интересах революционных пролетариев, демократические мелкие буржуа стремятся к такому изменению общественных порядков, которое сделало бы для них по возможности более сносным и удобным существующее общество».
Виллих подошел сзади к Энгельсу.
– Но где же главные задачи Союза? – нетерпеливо и резко спросил он.
Фридрих недоуменно поднял голову.
– Терпение, старина, – ответил он сухо.
Прочитав большой абзац о вреде объединения с мелкобуржуазными демократами, он повысил голос, окинул всех, и особенно Виллиха, строгим взглядом и продолжал:
– «…наши задачи заключаются в том, чтобы сделать революцию непрерывной до тех пор, пока все более или менее имущие классы не будут устранены от господства, пока пролетариат не завоюет государственной власти…»
Энгельс читал все громче, подчеркивая слова и делая внушительные паузы:
– «Вместо того, чтобы еще раз опуститься до роли хора, одобрительно рукоплещущего буржуазным демократам, рабочие и прежде всего Союз должны добиваться того, чтобы наряду с официальными демократами создать самостоятельную тайную и открытую организацию рабочей партии и превратить каждую свою общину в центр и ядро рабочих союзов, в которых позиция и интересы пролетариата могли бы обсуждаться независимо от буржуазных влияний».
– Вот это по мне, – возбужденно заявил Виллих. Его удлиненное лицо с маленькими хитрыми глазками, окаймленное большой бородой, покраснело от возбуждения.
В соседней комнате было совершенно тихо. Спали Женни и дети. Карл облегченно откинулся на спинку кресла и закурил. Чтение документа подходило к концу:
– «Если немецкие рабочие и не смогут достигнуть господства и осуществления своих классовых интересов, не пройдя полностью более длительного пути революционного развития, то на этот раз у них есть, по крайней мере, уверенность, что первый акт этой приближающейся революционной драмы совпадет с прямой победой их собственного класса во Франции и тем самым будет сильно ускорен.
Но для своей конечной победы они сами больше всего сделают тем, что уяснят себе свои классовые интересы, займут как можно скорее свою самостоятельную партийную позицию».
Когда Виллих и Бауэр ушли, Фридрих, оставшись наедине с Карлом, сказал:
– Приехал Бартелеми. Бежал до суда из тюрьмы Бель-Иль-ан-Мер. Он находился в камере рядом с Бланки.
– Бартелеми? Что же, этот мрачный парень снова бредит террором? Боюсь, если он не образумится, то бессмысленно сложит голову на плахе.
– Да, пожалуй. Бартелеми уже отсидел десять лет за никому не нужное убийство полицейского. Жаль, что у бланкистов он усвоил только их ошибки. Однако, как показали июньские дни, он превосходный, испытанный баррикадный боец.
– Скорее заговорщик по профессии. В организованном им «Клубе баррикад 24 февраля» этот парень показал полное невежество в какой бы то ни было теории и опасную путаницу в понимании революционного движения. Он легко может стать орудием любой провокации. Тем не менее он, видимо, честен в своих заблуждениях и отчаянно смел. Надо попытаться вернуть ему голову.
Пока Маркс и Энгельс говорили о Бартелеми, сам он находился неподалеку от лондонского порта на улочке Вест-Индских доков, в кабачке Джонатана Брауна.
Неизвестно откуда пришел в английскую столицу кабатчик. Он переменил немало разных профессий, прежде чем осуществил свою мечту – основал большой кабак в лондонских доках.
Лицо Джо Брауна перекроили неисчислимые драки, запойное пьянство, наркотики, морские ветры и кораблекрушения. Каждая из десятков стран, мимо которых проходят английские корабли, пометила его. Он привез в лондонские доки низкий раболепный поклон содержателей опиекурилен Гонконга, прищуренный, настороженный взгляд японцев, изощренную ругань английских чиновников в Бомбее. На лице кабатчика, огромном и рыхлом, как разваренная свекла, торчал отталкивающий нос со сломанной переносицей, свисающий продолговатым комком мяса и кожи к развороченному отвратительному рту.
В пивной Джонатана Брауна было всегда людно. Безработный грузчик огромными руками, привыкшими поддерживать многопудовые тюки колониальных товаров, осторожно подносил ко рту маленькую кружку нива, купленную на последний пенс. Его жена, с лицом узким и желтым, как подгнивший банан, жадно следила за его движениями в надежде, что и ей останется немного. Матросы, только что покинувшие пароходы, пришедшие из Норвегии и Китая, грубо прижимали к себе золотушных накрашенных девиц и угощали их виски. Табачный дым заволакивал пивную, скрывал деревянный потолок и стены.
Прорезая голоса, топот ног и смех, в кабак ворвался протяжный детский плач. Неровным шагом, стараясь но расплескать питье, мать шла на зов ребенка, оставленного в рваной соломенной коляске под окном дома. Вперемежку с пьяными ласками поила она продрогшее дитя черным острым элем.
Рядом с пивной у Джо Брауна имелось еще две комнаты. Одной он особенно гордился. В огромном стеклянном шкафу находились заспиртованные останки пестрых ядовитых змей, скорпионов, пауков, тарантулов, которые могли бы украсить не один балаган на базарах английской провинции. Напоминая о беспредельных просторах сухих американских прерий, смотанные лассо лежали возле почерневшего человеческого черепа и чучел редкостных тропических птиц.
Девушки Вест-Индских доков, рожденные в семьях докеров и грузчиков, с детства познали только лишения и с малолетства попадали в руки разных Джонатанов Браунов, становились их агентами по завлечению и спаиванию клиентов.
С утра сотни проституток ждали прилива Темзы – в часы солнечного заката обычно прибывали в доки корабли. Трепетно, будто заждавшиеся жены моряков, прислушивались они к сиренам с моря, волнуясь, читали на черных заборах дока бюллетени об ожидаемых судах, выслеживали в дождь и ветер матросов у порта.
Обреченным созданиям в дешевеньких платьях ярких расцветок, скрывающим под пудрой больные, несвежие лица, обязан был Джо Браун своими сокровищами. На столах, полках, в витринах находились разноликие будды, неуклюжие языческие божки, многоцветные вазы, слоновые клыки, укутанные в кружево резьбы статуэтки белой, желтой, черной расы. Каждая вещь имела свою историю, одинаково завершенную. За бутылку виски или пива под залог в несколько шиллингов попали к Джо Брауну эти, иногда художественные, иногда грубо поддельные, предметы.
Хитро улыбающегося деревянного будду спас из разрушенного канонадой тысячелетнего деревенского храма и отдал Джо Брауну за две кружки пива моряк.
Голую размалеванную танцовщицу – типичный рекламный товар парижских кафешантанов – хозяин пивной выиграл в карты у угрюмого пароходного повара, приехавшего в Лондон из Марселя. Из оттопыренного кармана кабатчика всегда вылезала колода грязных карт. Джо был азартный картежник.
Но как попала к Джо грациозная поющая венецианская люстра, каменный многовековой идол с Огненной Земли, старинная ваза, увитая фарфоровыми хризантемами, с острова Формоза? Об этом хозяин пивной предпочитал не говорить.
За «музеем» Джонатана Брауна находилась полутемная комната-чулан. Там-то и собрал Бартелеми своих единомышленников – несколько французских и немецких эмигрантов. Он рассказывал им о своем смелом побеге и дальнейших планах.
У Бартелеми были звучный проникновенный голос и манеры светского человека, умеющего держать себя с достоинством в любом обществе. Односторонняя логика, упорство фанатика не могли не действовать на слушателей. Этот человек был совсем лишен гибкого мышления, но какая-то одержимость одной целью гипнотически заражала слабых. Спорить с ним было почти невозможно. Лицо синеватого оттенка, густые брови и мрачные темные глаза с желтыми белками, вспыхивавшие нездоровым блеском, – все это производило тяжелое впечатление.
– Мы должны сделать все, чтобы революция не была снова украдена из наших рук. Враг среди нас, в нашей семье. Тем легче его обезглавить. Его надо искать повсюду – за прилавком, за конторкой. Он прикидывается другом. Будем бить друзей насмерть, если они подозрительны. Самый страшный враг – это тот, кто маскируется другом и бродит среди нас. Не верьте никому, никогда. Я клянусь вот этими, уже не раз наносившими смертельные удары по врагам, руками уничтожить диктатора буржуазии, предателя из предателей, одного из тех, кто объявлял себя другом нашим, – Ледрю-Роллена.
Кабатчик Джонатан Браун стоял у двери с видом опытного заговорщика. Слушатели сидели, завороженные мелодическим ровным голосом, страстностью и магнетической безумной силой этого странного человека.
– Всегда ли ты был таким неукротимым? – спросил молодой светлоглазый добродушный механик, работавший с Бартелеми до июня на одном заводе.
– Я был кротким щенком, как ты, пока, после участия в мятеже при Луи-Филиппе, жандарм, ударив меня, закованного, но лицу, не пробудил во мне – рабе – человека. Я убил его спустя три дня.
– Он пробудил в тебе тигра, – сказал кто-то.
– С врагами надо действовать их методами, – нашелся Бартелеми.
– Что ты намерен делать теперь?
– Попытаться освободить Бланки и других братьев из тюрьмы Бель-Иль и затем убивать тиранов и предателей. Первый в списке моей души – Ледрю-Роллен. Мы должны организовать тайное общество, найти верных людей. Без заговора нет революции. А теперь, братья, воздадим должное нашему усталому телу.
Кабатчик принес вино, и все собравшиеся не без удовольствия распили его.
– Смерть предателям и тиранам! – провозгласил Бартелеми.
В полночь все поднялись.
– Ты, Эммануэль, переночуешь здесь. Моя жена и дочь уже готовят тебе постель, – сказал Джонатан Браун, скривив лицо, что означало у него улыбку. Жена кабатчика – пухлая сводня – и хорошенькая дочь Нэнси, которой Бартелеми понравился с первого взгляда, старательно разложили на нескольких ящиках тюфяк и подушки.
Эммануэль почувствовал неудержимое желание приобщить Нэнси к новому заговору. Он начал с того, что крепко поцеловал ее в щеку. Нэнси вспылила, но Эммануэль умел быть нежным и быстро получил прощение.
– Быть может, завтра я буду болтаться в петле виселицы, – говорил он. – Моя жизнь – вспышка пороха. Пусть же хоть мгновение да будет мое.
– Как можешь ты жить в непрерывной опасности? – спрашивала дочь кабатчика.
Из пивной все еще доносились топот танцующих, пиликание скрипки и пьяные голоса.
– Опасности и составляют самую прелесть жизни заговорщика. На каждом шагу полиция ставит нам западню, мы не выходим из тюрем или каторги. Там, а не здесь проходит наша жизнь, там нага родной дом. Может быть, завтра я буду снова на баррикаде и где-то уже лежит пуля, которая прекратит биение моего сердца. Я хочу насладиться настоящим, – нашептывал Бартелеми, но лицо его оставалось бесстрастным.
– Слова твои жгут, но сердце остается холодным, – сказала Нэнси, вдруг поняв душу этого человека.
Он внимательно, даже подозрительно, заглянул в ее глаза, чистые и добрые.
– Ты точно кувшинка, выросшая на этом кабацком болоте, – сказал он раздумчиво, – умная кувшинка. Ты права, сердце мое холодно. Я очень устал, но и это тоже только миг. Привычка играть жизнью, точно бильярдным шаром, притупила во мне страсти, хотя этого никто не видит. Я равнодушен даже к свободе, иначе как мог бы снова рисковать тем, что попаду в тюрьму. Я безразличен к жизни, иначе не мог бы убивать во имя революции и быть готовым к казни. Если бы я мог уничтожить всех наших врагов, всех тиранов, я, быть может, опять стал бы веселым и простым парнем.
– У тебя больная душа, – жалостливо сказала Нэнси и погладила его пышные волосы.
Вскоре после приезда в Англию Бартелеми встретился с Марксом и Энгельсом:
– Я знаю вперед все, что вы оба мне скажете, – начал Бартелеми раздраженно. – Но мы никогда, как это ни жаль, не поймем, видимо, друг друга. Напрасный труд уговаривать меня. Мы с вами люди одной идеи, но разных методов ее осуществления.
Саркастические линии в уголках губ Маркса, четко обозначившиеся за последние годы, стали резче. Он слегка улыбнулся.
– Вам, Бартелеми, всегда были нужны революционные приключения, экспромты. Вы хотите жить и бороться вне времени и пространства, без необходимых исторических и экономических условий. Вы неизбежно обанкротитесь. Нельзя пренебрегать всем тем, что определяет исход борьбы и победу.
– Победу, – сказал Бартелеми, – определяют порох, вовремя взорвавшаяся бомба, пуля, пробившая насмерть преступную голову.
Карл грузно подался вперед и облокотился на стол руками, пристально глядя в черные глаза говорившего.
– Феодализм и нынешний буржуазный строй – это тысячеглавые гидры, – произнес он сурово. – Уничтожьте одну голову, взамен тотчас же вырастут тысячи новых. Нужно быть умалишенным или одержимым, чтобы отрицать законы, движущие обществом. Вы чудовищно заблуждаетесь и тем вредите революции. Как средневековые алхимики, вы отрицаете теорию и обрекаете себя на бессмысленную гибель. Ваши заговоры, адские машины, пистолеты – это роковое недомыслие.
– Если идти за вами, то никогда не дойдешь до победной революции, – огрызнулся Бартелеми.
– Других дорог нет. Не мы их выдумали. Вы не остановите течения событий, – вмешался в разговор Энгельс. Его, как и Маркса, начало раздражать тупое упорство собеседника. – Вы много старше нас, Эммануэль, и петушиный задор вам не к лицу. Обуздайте свой опасный темперамент и примитесь за организацию революционных рабочих.
– Занимайтесь этим вы, мое дело повернуть течение истории так, как это нужно нам.
– Напрасные старания, история не рычаг, которым вы, механики, управляете в совершенстве. Она отбросит и раздавит вас без пощады, – сказал Маркс. Чувство досады и острого раздражения против казавшегося ему неумным пожилого человека улеглось, сменившись чем-то похожим на сострадание.
– Вы все еще живете у Джонатана Брауна в его кабаке? – спросил Фридрих.
– Зря вы не доверяете этому почтенному человеку.
– Боюсь, что и в этом выборе вас ждут только одни разочарования, – усмехнулся Фридрих.
– Ерунда! – вспылил Бартелеми. – Вместе с Джо мы прощупываем настроения рабочих, отыскиваем нужных людей, вербуем их для работы. Кабак – отличное место для секретных свиданий. Нас никто не выследит.
– В этих мерзких притопах члены ваших групп приобретают, очевидно, навыки не столько революционеров, сколько забулдыг, прожигателей жизни. Как же это увязать? – спросил Маркс и обменялся с Энгельсом красноречивым взглядом.
– Зато мы одурачиваем шпионов прусского и здешнего правительства, которыми кишмя кишит Лондон, – упорно настаивал на своем Бартелеми.
До позднего вечера то затихал, то разгорался спор Маркса и Энгельса с нетерпимым проповедником терроризма. Было совсем уже темно, когда все трое вышли на улицу и тотчас же за ними увязалось несколько шпиков. Завидев плотного широкоплечего Маркса, по-военному прямого Энгельса, долговязого Бартелеми, они устремились за ними, словно рыбы-прилипалы, шныряющие подле могучих обитателей океана.
Бартелеми, как я и думал, фразер, – сказал Карл жестко, когда остался наедине с Фридрихом. Слово «фразер» было одним из самых уничтожающих в его лексиконе. С людьми, которых Маркс считал краснобаями, он не хотел иметь никакого дела.
В омнибусе, кафе, читальне Карл уже много раз замечал пухленького господина с плоским бледным лицом, покрытым веснушками. Запомнилась не только его физиономия в крапинку, но и редингот, обтягивающий большой живот, и маленькая рыжая шляпа пирожком.
У Энгельса был также свой «хвост», как Виллих называл полицейских шпиков. И Маркс и Энгельс относились к полицейскому наблюдению с ироническим спокойствием. Иногда, пока Маркс и Энгельс работали вдвоем, оба сыщика жаловались друг другу на неудобство своей профессии.
– Не знаю, – говорил кругленький веснушчатый шпик, – зачем только тратит правительство деньги на этого немца.
– У полиции бывают свои причуды или очень секретные соображения.
– Я под видом агента одной фирмы был в квартире Маркса, – продолжал веснушчатый. – Это совсем бедные люди. У них одна комната и чулан, который служит также спальней. Детвора не выглядит здоровой. Говоря честно, мой дом во много раз лучше.
– Ты хотел бы следить за каким-нибудь лордом или банкиром?
– Не в этом дело, но мой объект торчит иногда целый день в читальне. Можно разориться на том количестве бумаги, которое он исписывает.







