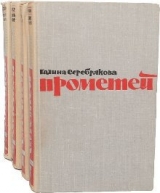
Текст книги "Похищение огня. Книга 2"
Автор книги: Галина Серебрякова
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 29 страниц)
Одна человеческая душа может выстрадать столько же, сколько все человечество, и устоять.
«Дом, разумеется, совершенно опустел, – писал Маркс Энгельсу, – и осиротел со смертью дорогого мальчика, который оживлял его, был его душой. Невозможно выразить, как нам не хватает этого ребенка. Я перенес уже много несчастий, но только теперь я знаю, что такое настоящее горе. Чувствую себя совершенно разбитым, К счастью, со дня похорон у меня такая безумная головная боль, что я не мог ни думать, ни слушать, ни видеть.
При всех ужасных муках, пережитых за эти дни, меня всегда поддерживала мысль о тебе и твоей дружбе и надежда, что нам вдвоем предстоит сделать еще на свете кое-что разумное».
Поздней осенью, после смерти сына, Карл гостил в Манчестере у Энгельса, где он всегда мог отдохнуть в благоприятных условиях налаженного зажиточного быта в доме своего друга. Как всегда, утром он посещал Чэтамскую библиотеку и любовался ее старинной необычайной архитектурой, рассматривал книгохранилища, размещенные в бывших кельях и в строгой часовне святой Мери. Стеллажи, имевшие в XVII веке, по рассказам, всего три полки, поднялись до самого потолка.
Два столетия оставалось неизменным убранство читальни, просторной комнаты под низкими сводами, с панелями из превосходного темного дуба. Карл просматривал газеты на большом столе с овальным верхом из цельной доски – торца могучего дерева, вокруг которого стояли тяжелые, мрачные стулья – современники Кромвеля.
Выбрав книги, он проходил в четырехугольный выступ в виде фонаря со стрельчатыми окнами и четырехскатным столом – конторкой. В этом, освещенном наподобие средневековых храмов разноцветными оконными стеклами, помещении он работал всегда, когда посещал библиотеку.
Главный библиотекарь Томас Джонс, высокий сухощавый старик с покрасневшими утомленными глазами и неслышной легкой походкой, охотно помогал Карлу в подборе нужных ему книг. Джонс особенно гордился своими знаниями каталогов библиотеки и литературы по истории Реформации.
Как-то в одном из окраинных рабочих трактиров «Пегая лошадь» Карл познакомился с мастером-сталелитейщиком Вильямом Беккетом, бывшим лондонским докером. Это был толстый, хорошо одетый человек, раскрашенный природой тремя сладкими красками: розовой, голубой и кремовой. Когда Маркс увидел его в первый раз, Беккет, собрав в комок расползающийся носик, рассказывал умиленным голосом рабочим, медленно распивающим черное пиво, о счастливом исходе родов королевы Виктории. Когда эта тема была им исчерпана, мастер принялся медоточиво расписывать все преимущества тред-юнионов и высмеивать чартистов.
– Сговор с предпринимателями, которые ведь такие же, как мы, рабочие люди, а многие из них не так давно были бедняками, – вот это правильное дело. Право же, довольно раздоров между разными классами. Я уверен, что рабочие союзы будут способствовать развитию промышленности, а не ставить палки в колеса, как это делали чартисты. Они устарели. – Беккет достал из широкого кармана томик Священного писания в черном кожаном переплете – источник его плоских, не лишенных, однако, хитрости, мыслей. – Библия учит нас, как жить в мире и благоденствии, – изрек он торжественно.
Маркс заинтересовался этой только что народившейся разновидностью преуспевающего рабочего и даже решил посетить его дом. Спустя несколько дней, в воскресенье, вместе с Энгельсом он побывал у зажиточного механика.
На смену груженым тяжелым ящикам, среди которых прошла в доках молодость Вильяма Беккета, к нему пришло к сорока годам поистине «деревянное» благополучие. Подкупленный капиталистами, мастер, деятельный профсоюзный руководитель, поселился с семьей в собственном двухэтажном коттедже с тяжелыми резными дубовыми панелями на стенах комнат. Большая унылая кровать красного дерева занимала спальню, краем упираясь в огромный комод.
Угощая гостей чаем, Беккет сообщил, что надеется скоро быть избранным в парламент и тогда значительно увеличится его достаток.
Маркс и Энгельс знали, что английские капиталисты, получая огромные сверхприбыли, хорошо оплачивали труд верхушки рабочего класса. Беккет оказался в числе немногих избранных.
– Надо иметь голову на плечах, – говорил он смиренно, покуда его дородная жена, дочь фермера, разливала чай. – Надо понимать современные национальные задачи. Чартизм отсох, как старая ветка на подгнившем дереве. Тред-юнионы – вот путь рабочих в землю обетованную. Заверяю вас в этом, джентльмены, а я не дурак. Мы с миссис Беккет надеемся еще побывать в Букингемском дворце, – он шлепнул жену по широкой спине. – Что скажешь, леди Беккет? Почему бы и нет? Мы назвали нашу дочь в честь ее величества Викторией. Может быть, пашей девочке суждено быть дочерью пэра. А? Времена ведь меняются. Надо иметь голову на плечах. Мой отец был убит в Бирмингеме во времена борьбы за хартию, дед, луддит, погиб, сражаясь с машинами. А я, вот видите, живу неплохо и делаю, поверьте, много добра для общества. Главное, – и я уверен в этом, – надо уметь жить в мире с промышленниками. Почему бы и нет? Они нужные для нации люди, умнее и опытнее нас и к тому же христиане.
Множество мыслей вызвала у Маркса и Энгельса встреча с преуспевающим и обласканным буржуазией мастером Беккетом.
Итак, буржуазнейшая нация, какой была Англия, страна колониальной и промышленной монополии, по-видимому, стремится наряду с буржуазией, буржуазной аристократией создать также и прослойку буржуазного пролетариата. Это было очень важным открытием для обоих друзей.
По воскресным дням Карл ездил в Манчестере верхом, но хорошим наездником он не был, хотя и убеждал друзей, что в студенческие годы брал уроки верховой езды и овладел этим искусством.
Фридрих, беспокоясь за друга, предоставил ему смирную лошадь, которую назвал Росинантом.
Но лучшим временем были вечера, когда, придя из конторы домой, Фридрих делился с другом новостями, заботами и творческими планами. После сытного позднего обеда, обильно запиваемого рейнским вином, после выкуренной толстой гаванской сигары они часто обсуждали политические события на разных материках. Индия и Америка, Малайские острова и славянские земли были так же знакомы им, как промозглый остров, ставший их вынужденной родиной.
В Манчестере в это время находился вернувшийся недавно из долгого путешествия по Америке, Вест-Индии и Европе неугомонный странник Георг Веерт. Он снова рвался обратно за океан. После поражения революции он часто боролся с приступами меланхолии и нуждался в новых впечатлениях.
– Вы закисаете здесь, друзья мои, этот климат годен только для рыб и жаб. Жить здесь – безумие и слабость. Немногие годы, отпускаемые нам жизнью, терять в таком проклятом богами месте! Да и люди здесь, скажу я вам, такая же слякоть, как и все остальное. А знаете ли вы, что именно сейчас в лесах близ древней столицы Колумбии Санта Фе де Богота тигры поют арии из «Волчьего ущелья». Я вижу, как они повернули морды к луне, которая шагает по верхушкам кедров и вековечных пальм. Лима – город-мечта. Какие там женщины! Они так малы, что их можно спрятать среди лепестков огромных тамошних роз. Мне нравятся перуанцы. Этот народ не даст вам скучать и доставит множество развлечений. В первый день я пережил в Лиме землетрясение, на второй – пожар, а на третий – революцию.
– За исключением землетрясения, все это можно было видеть и в Париже, – вставил Энгельс.
Веерт продолжал рассказывать о своих многочисленных приключениях в тропических странах. У него был особый подражательный и мимический дар, и лицо его непрерывно меняло выражение.
Задорный хохот Георга был так же приятен и чистосердечен, как и у Карла и Фридриха, которые до слезинок в глазах смеялись, слушая его рассказы.
– Представьте себе перуанский остров Чинча. Главное его богатство – птичий помет, скопившийся за много тысячелетий. Он составляет главную статью дохода всего государства. Вот вам достойный предмет для размышления философам. Дерьмо превращается в золото, и потомки гордых пиков спасаются от нищеты благодаря гуано. Лх, друзья мои, когда с вершины Кордильеров, залитой солнцем, смотришь на воды, низвергающиеся с глетчеров, чтобы на западе влиться в Тихий океан, а на востоке – в Атлантический, поражаешься необъятной мощи, великой фабрики природы. Я мог бы до утра говорить о Калифорнии. Хотите, я повезу вас мимо Антильских островов. Мы отдохнем и освежимся кокосовым молоком на Кубе и через Мексиканский залив доберемся затем в Веракрус. Через заросли кактусов мы спустимся в серебряные рудники Рахаса и в Сан-Хуан де Лагос. Там буйствуют пьяные мексиканские барышники, игроки и воры. Я предлагаю также посмотреть на бой быков.
Веерт вскочил со стула, сорвал красную плюшевую салфетку с курительного столика, изогнулся и, размахивая ею, принялся изображать сцены корриды.
– Виво эль тореадор! – аплодировали Маркс и Энгельс. Оба они приняли участие в импровизированной живой картине, изображая то зрителей, то пикадоров и матадоров.
Вдоволь посмеявшись, все трое снова уселись за стол и принялись допивать остывший черный кофе. Но Веерт уже снова изображал в лицах, как индеец снимает скальпы и привязывает их к поясу. До полуночи не прерывалась оживленная беседа троих друзей.
Вскоре Энгельс остался один в Манчестере. Георг уехал в Вест-Индию, а Карл вернулся в Лондон.
Настала зима. Черные и желтые туманы по-прежнему окутывали Лондон своей ядовитой пеленой. Карл хворал. Помимо болезни печени, его мучили нарывы. Один из них появился над верхней губой и вызывал острую физическую боль. Лицо распухло.
– Я похож на бедного Лазаря и на кривого черта в одно и то же время, – пошутил Карл, увидев себя в зеркале.
– Неправда, ты очень хорош, ты просто больной алжирский Мавр, – сердились на него старшие дочери.
Врачи считали болезнь Карла очень серьезной. Карбункул на лице, сопровождавшийся лихорадкой, был опасен.
– Мой дорогой повелитель, – со свойственным ей юмором сказала Женни, – отныне вы находитесь под домашним арестом впредь до полного выздоровления. – И она спрятала пальто и шляпу Карла, чтобы он не мог совершить в ее отсутствие побег в библиотеку Британского музея.
Карл сдался:
– Я подчиняюсь, но только в том случае, если за мной останется право работать дома.
Однако множество повседневных мелочей и забот, как всегда на Дин-стрит, мешали ему сосредоточиться. Он тосковал и рвался в тихую, покойную общественную читальню в Монтег-хауз, где привык проводить время за работой с утра до позднего вечера.
Домашний рабочий стол Карла был завален книгами и рукописями. Карл много читал о России, так как Энгельс просил присылать ему материалы об этой стране для статей о панславизме.
Крымская война еще больше усилила интерес Карла к северной могущественной державе и ее прошлому. По своему обыкновению, не довольствуясь поверхностным ознакомлением, он принялся глубже пробивать толщу избранного им для изучения предмета. Таков был Карл всегда и во всем. Труд был его стихией, радостью, отдохновением, и чем больше требовалось усилий, тем удовлетвореннее он себя чувствовал.
После многих французских и немецких книг о славянских странах и особо о России Маркс, углубляясь в малоисследованную чащу истории, добрался до истоков русской культуры. Его поразило «Слово о полку Игореве», приведенное в книге Эйхгоффа на русском и на французском языках.
Безошибочный глаз и ухо поэта, каким всегда оставался Карл, мгновенно уловили великолепие стиха древнего сказителя:
Я покину бор сосновый,
Вдоль Дуная полечу
И в Каял-реке бобровый
Я рукав свой омочу.
Я домчусь к родному стану,
Где кипел кровавый бой.
Князю я омою рану
На груди его младой.
«Чудесная поэма, вся песня носит христианско-героический характер, хотя языческие элементы еще очень заметны», – думал он, снова и снова перечитывая плач Ярославны и призыв князьям к единению перед нашествием монголов.
Карл наслаждался поэзией, воскресившей Древнюю Русь, ее героику, удаль, скорбь и победы. Он вслух читал Женни наиболее пленившие его строфы и тотчас же сообщил Энгельсу об открытом им сокровище. Одновременно он жадно читал книгу Гетце «Князь Владимир и его дружина», а также «Голоса русского народа».
Здоровье Карла несколько улучшилось, но он все еще не выходил из дома. В безнадежно сырой и трудный из-за черного тумана, темный, будто над Лондоном спустился вечный мрак, день раздалось несколько громких ударов во входную дверь дома 28 на Дин-стрит. Лаура, на ходу заплетая золотистую косу, быстро сбежала по лестнице вниз, чтобы открыть дверь. Подумав, что, верно, булочник или бакалейщик принесли свои товары, Карл продолжал работать, не обращая ни на что внимания. Однако Лаура вернулась не с кульками и пакетами. В убогую квартирку она ввела двоих пожилых людей. В одном Карл тотчас же узнал Эдгара Бауэра. Другой, в длинном, по щиколотки, вышедшем из моды в Англии рединготе и лоснящемся цилиндре, сначала показался ему незнакомым. Маркс с недоумением смотрел на неторопливо разматывавшего связанный из пунцовой шерсти шейный платок гостя, который принялся прилаживать раскрытый, мокрый, черный зонт над вешалкой и при этом говорил брюзгливым тоном:
– Проклятый остров. За всю свою жизнь я не видывал такой погоды. Только в Дантовом аду ею могли истязать грешников.
– Ба! Ты ли это, старый ворчун Бруно? – воскликнул радостно Карл и торжественно представил Бауэра своей семье.
– Вот – сам глава Святого Семейства, друг моей юности столько же, сколько и лютый враг моих воззрений на философию и пути человечества. Прошу, однако, любить и жаловать его. Позволь, Бруно, представить тебе мою семью. Это моя дочь Женни, она же Ди, она же Кви-Кви – император Китая.
– Женнихен – вылитый твой портрет, Карл, – сказал Бруно, любуясь черноглазой румяной девочкой, затем он перевел взгляд на ее сестренку, встретившую его на пороге входной двери.
Карл, подталкивая Лауру, порозовевшую от смущения, представил и ее.
– А это наш милый Готтентот и пестрый Какаду, любительница всего экзотического, путешественник по Африке и конквистадор в мечтах.
– Красавица в полном смысле слова, – сказал старый профессор.
– Фея из гофманской сказки, – галантно добавил его брат, Эдгар Бауэр.
– Ты, однако, разбогател, Карльхен. У тебя две прелестные дочки и царственно прекрасная жена.
– У меня не две, а три дочурки. Тусси еще совсем мала и сейчас спит. А ты, Бруно, женат ли, обзавелся ли семьей?
– Нет, увы, я старый холостяк. Наука – вот моя верная возлюбленная и подруга. А помнишь, как мы прозвали тебя в счастливые годы наших теоретических битв? «Магазин идей»! Да, Карл, справедливость требует признать, многое мы почерпнули у тебя.
– Мавр и для нас магазин сказок. Вы не можете себе представить, сколько он их знает, и не только одних сказок, – вторглась в беседу бойкая Лаура.
– Да, ты был неиссякаем и, видимо, немало пополнил запасы в своем складе, – Бруно показал на голову и, помолчав, достал большой портсигар. – Как много лет, однако, мы не виделись. Кури, великолепный немецкий табак. Он напомнит тебе нашу родину.
– Никогда не курил я таких сигар, как те, которыми угощала меня тетушка Бауэр, – сказал Карл. – Дни в вашем обвитом жимолостью домике так же живы в моей памяти, как воспоминания о Трире, где прошла моя юность.
– Помнишь, как весело справляли мы день твоего рождения у нас, в Шарлоттенбурге? – спросил Эдгар Бауэр, раздув ноздри и выпуская табачный дым.
– Увы, праздник был омрачен смертью профессора Ганса. А где теперь краснобай Рутенберг, книжный червь Кеппен и крутоголовый Шмидт Штирнер? – спросил Карл, с наслаждением затягиваясь сигарой.
– Кеппен пишет очередную книгу о буддизме. Он невозмутим, аскетичен, презирает все неиндийское, а Рутенберг тучен, самоуверен и все та же нафаршированная цитатами колбаса. К тому же сей почтенный буржуа издает газету, в которой удивляет трактирщиков и отставных канцелярских писарей своей копеечной ученостью. А наш философ Шмидт, обладатель лба, похожего на купол святого Петра в Риме, при смерти. Жаль, он подавал блестящие надежды. Никто не умел так любить, так возносить свое «я», как он.
– Это «я» заслонило Штирнеру весь горизонт. Бедняга провел жизнь в бесцельном созерцании и обожании своего «я», точно йог в разглядывании собственного пупа, – досадливо морщась, произнес Маркс. – И вот на краю могилы это «я» может подвести унылый итог прошедшей попусту жизни.
Сквозь столб сигарного дыма, поднимавшегося к потолку, Карл внимательно разглядывал Бруно Бауэра. Ему было около пятидесяти лет, но он выглядел значительно старше. Резко очерченное лицо – три острые линии, образующие лоб, нос и подбородок, сухая пористая кожа, серые сморщенные веки и выцветшие глаза не отражали больше никакого внутреннего горения. Он казался навсегда потухшей пыльной сопкой. Особенно неприятен был огромный плоский лоб, лишенный выражения. Волосы на голове Бруно вылезли и оголили череп до самой макушки. В его лице не осталось больше сходства с фанатиком Лойолой, как это было в молодости.
– Да, после Берлина, этого величественного и светлого города, Лондон – мерзкая тюрьма, – говорил между тем Бруно, шепелявя и едва раскрывая губы. Ему мешали говорить вставные зубы зеленовато-желтого цвета.
– Правда, в Германии мы наблюдаем гибель городов и пышный расцвет деревень, но все же там истинная цивилизация. А здесь я живу в каком-то логовище. Люди на этом острове под стать всему окружающему уродству. Жалкие создания эти хваленые британцы. Это гомункулусы – автоматы. Язык английский, да ведь это пародия на человеческую речь. Если бы не заимствованные галлицизмы, англичане не имели бы вообще человеческого языка и пользовались бы для общения друг с другом нечленораздельными звуками и междометиями. По сравнению с нами, германцами, бритты – дикари.
Маркс широко, лукаво улыбнулся.
– Дорогой профессор, – сказал он, весело блестя глазами, – в утешение вам должен сказать, что голландцы и датчане говорят то же самое о немецком языке и утверждают, что только исландцы являются единственными истинными германцами. Их язык будто бы не засорен иностранщиной.
Ко Бруно возмущенно замахал руками.
– Ерунда, Карльхен. Поверь, я вовсе не узкий педант и вполне беспристрастен. Изучив множество языков за последние годы, могу смело отдать пальму первенства польскому. Великолепный по богатству и звучанию язык. Послушай, например, как красиво: «Нех жие пенькна польска мова».
Ленхен и Женни внесли подносы с чашками кофе и бутербродами с ветчиной и сыром. Карл познакомил Бауэров с Еленой Демут, назвав ее «нашей Ним».
– Сказочный дом, – заметил добродушно Бруно, – все имеют необыкновенные мелодичные прозвища, обойдена, кажется, только госпожа Маркс.
– Нашу мамочку зовут Мэмэ, – пояснила все та же шустроглазая Лаура.
– Счастливец, Карл, ты окружен любящими тебя созданиями. Я же одинок, со мной только мысль, – с нескрываемой завистью признался Бруно.
– Мысль – раба жизни! – вдруг торжественно изрекла Лаура.
– А жизнь – шут времени! – продолжила Женнихен.
– Чудесно! – вскричал Бауэр. – Эти юные прелестные фрейлейн цитируют «Макбета» не хуже старого Шлегеля.
– Они унаследовали от отца и матери любовь к Шекспиру и знают превосходно его драмы, – произнесла с чуть заметной гордостью Женни Маркс.
После скромной трапезы, когда, по английскому обычаю, мужчины остались одни, Бруно Бауэр стал особенно разговорчив. Он объяснил, что в экономике предпочитает учение физиократов и верит в особо благодатные свойства земельной собственности. В военном искусстве его идеалом стал Бюлов.
– Это гений, истинный, божественный Марс в современной военной науке.
Карл не мог поверить своим ушам.
«Как застоялась его мысль, как он отстал от времени, запутался», – думал он, и чувство жалости смягчило раздражение. Бруно Бауэр походил на руины некогда интересного сооружения. Он изжил то немногое, что было в нем оригинального, и, хотя казался по-прежнему самоуверенным, на лице старика помимо его воли появлялась иногда жалкая улыбка.
Карлу казалось, что этого педантичного, ссохшегося умом и сердцем человека продержали в глухом сейфе долгие годы. Он как бы и не заметил грозной революции и всех последующих событий и не сделал поэтому никаких выводов. Да мог ли он их сделать вообще?
– Рабочие – это чернь, которую отлично можно держать в повиновении с помощью хитрости и прямого насилия, – развалившись в кресле, говорил Бауэр. – Изредка следует, впрочем, кидать им кость со стола в виде грошовых прибавок к заработной плате, и они будут лизать хозяйскую руку. Меня все ваши иллюзии, называемые классовой борьбой, вовсе не интересуют. Я ведь чистый теоретик, мыслитель, а массой, этим полузверьем, пусть управляют те, у кого сильны не мозги, а мускулы. Я же достиг своей цели и нанес смертельный удар по научному богословию. В Германии оно перестало существовать. Вот колоссальная победа, да, ради нее стоило родиться… Моя сфера – чистая наука, проблемы вечные, а не суета сегодняшнего дня.
Карл не стал спорить. Это было бесполезно. Различие в мышлении обоих было таким значительным, что никакое слово Маркса не могло коснуться сознания Бруно Бауэра.
«Стоит ли переубеждать этот застывший камень, который некогда, прежде чем затвердеть, был живым существом. Но я рад нашей встрече. Нет ничего на свете, что не заслуживало бы внимания и размышления, раз оно существует. И этот старик тоже по-своему занимателен». Таковы были думы Карла, когда позднее он остался один за своим рабочим столом.
В те же дни радостные вести с родины привез Марксу уполномоченный от дюссельдорфских рабочих Леви. Он передал Карлу сведения о состоянии рабочего движения в Рейнской провинции.
«Однако во главе угла, – сообщал Маркс Энгельсу о своих беседах с Леви, – стоит теперь пропаганда среди фабричных рабочих в Золингене, Изерлоне и окрестностях, в Эльберфелъдеи герцогстве Вестфальском. В железоделательных округах ребята эти хотят начать восстание, и удерживает их только надежда на революцию во Франции, а также то, что «лондонцы считают это пока несвоевременным»… Люди эти, видимо, твердо уверены, что мы и наши друзья немедленно же поспешим к ним.Они, естественно, испытывают потребность в политических и военных руководителях. Это, конечно, ни в коем случае нельзя ставить в укор этим людям. Но я боюсь, что, при их весьма упрощенных планах, их четырежды успеют уничтожить, прежде даже чем мы сможем покинуть Англию. Как бы то ни было, нужно точно разъяснить им с военной точки зрения, что можно и чего нельзя делать. Я заявил, разумеется, что в случае, если обстоятельства позволят,мы явимся к рейнским рабочим… что я серьезно посоветуюсь со своими друзьями по вопросу о том, какие шаги могут быть непосредственно предприняты рабочим населением в Рейнской провинции; и что через некоторое время им следует снова прислать кого-нибудь в Лондон, но ничегоне делать без предварительной договоренности».
Личные горести в семье Маркса продолжались. Тяжело больная баронесса призвала летом 1856 года в Трир свою дочь. Женни поехала с девочками на родину и застала мать при смерти. После одиннадцатидневных страданий Каролины фон Вестфален не стало.
Когда умер Муш, Женни казалось, что ей нечем больше страдать. Душа ее изныла и как бы потеряла чувствительность. Однако смерть матери причинила ей снова мучительную боль. Женни удивлялась тому, как много может вытерпеть человек. В молодости болезни и горести проходят, как бы коснувшись только кожи и не оставив глубокого следа, в зрелые годы они потрясают, но не ломают волю, не ослабляют навсегда, в старости же несчастья разрушают и сокращают самую жизнь.
«Как глубоко прав Карл, когда говорит о потерях, которые нельзя забыть никогда, – думала Женни. – Какой-то мудрец утверждал, что подлинно выдающиеся люди легко переносят утраты. Их будто бы спасают и отвлекают от личных бед тесная связь с природой и человечеством, а также бесчисленные объекты познания. Мудрец был неправ. Никто не может забыть любимого ребенка или нежную мать».
Забыть! Страшное слово, в котором таится покой, измена и грусть. Нельзя жить, не забывая, не примирившись с потерей, но невозможно также утешиться навсегда. Маленькие Фоксик, Франциска, Муш и родители никогда не уйдут окончательно из сердца и памяти Женни. И, вспоминая о них всех или о каждом порознь, она с трудом будет скрывать горечь и боль.
Стоя в слезах над могилой матери, Женни Маркс вспоминала свое детство и юность. Нет больше в живых ни Людвига и Каролины фон Вестфален, ни советника юстиции Генриха Маркса. Умер директор гимназии, где учился Карл, старик Внттенбах, гордившийся исторической славой родного Трира и своим знакомством с великим Гёте. Исчезла с улицы вывеска книготорговца Монтиньи – якобинца, в лавке которого столько часов провел некогда юный Маркс.
Возвращаясь с кладбища, Женни долго смотрела на зеленеющие виноградиики, спускающиеся к городу с окрестных холмов, на светлые, медленно текущие воды Мозеля, на пожелтевшие от знойного солнца луга.
На улицах Трира она встречала много знакомых. Юноши и девушки стали уже зрелыми людьми, женщины, которых она знала в цвете лет, заметно состарились. Черные шляпки с матерчатыми цветами поверх седых буклей, подвязанные под отвислым подбородком, особенно подчеркивали их преклонный возраст. Все в городе выражали Женни сочувствие по поводу смерти баронессы Вестфален. Старики при этом заметно мрачнели.
– Подходит и наше время, – говорили они робко.
Траурные платья с плерезами и черные вуали нисколько не портили внешности старших дочерей Женни. Они казались еще миловиднее. Двенадцатилетняя Женни была похожа на своего отца. Те же темные, густые, блестящие волосы и яркие, умные, ласковые глаза. Смуглое лицо, маленькие, полные губы придавали ей сходство с креолкой.
Десятилетняя Лаура красотой пошла в мать. Пышные, волнистые, светло-каштановые локоны обрамляли ее точеное личико. Большие зеленовато-карие глаза ее всегда светились улыбкой.
Но любимицей всей семьи, баловнем стала малютка Тусси. Ребенок родился как раз тогда, когда умер Эдгар, и вся любовь к брату, вся нежность к нему были теперь перенесены на маленькую сестренку, которую старшие девочки нянчили с почти материнской заботливостью.
Карл тосковал по жене. Письма его к ней становились все более пылкими:
«Моя любимая!
Снова пишу тебе, потому что нахожусь в одиночестве и потому, что мне тяжело мысленно постоянно беседовать с тобой, в то время как ты ничего не знаешь об этом, не слышишь и не можешь мне ответить. Как ни плох твой портрет, он прекрасно служит мне, и теперь я понимаю, почему даже «мрачные мадонны», самые уродливые изображения богоматери, могли находить себе ревностных почитателей, и даже более многочисленных почитателей, чем хорошие изображения. Во всяком случае, ни одно из этих мрачных изображений мадонн так много не целовали, ни на одно не смотрели с таким благоговейным умилением, ни одному так не поклонялись, как этой твоей фотографии, которая хотя и не мрачная, но хмурая и вовсе не отображает твоего милого, очаровательного, «dolce»{сладостного (итал.).}, словно созданного для поцелуев лица. Но я совершенствую то, что плохо запечатлели солнечные лучи, и нахожу, что глаза мои, как ни испорчены они светом ночной лампы и табачным дымом, все же способны рисовать образы не только во сне, но и наяву. Ты вся передо мной как живая, я ношу тебя на руках, покрываю тебя поцелуями с головы до ног, падаю перед тобой на колени и вздыхаю: «Я вас люблю, madame!» И действительно, я люблю тебя сильнее, чем любил когда-то венецианский мавр…
…Временная разлука полезна, ибо постоянное общение порождает видимость однообразия, при котором стираются различия между вещами. Даже башни кажутся вблизи не такими уж высокими, между тем как мелочи повседневной жизни, когда с ними близко сталкиваешься, непомерно вырастают. Так и со страстями. Обыденные привычки, которые в результате близости целиком захватывают человека и принимают форму страсти, перестают существовать, лишь только исчезает из поля зрения их непосредственный объект. Глубокие страсти, которые в результате близости своего объекта принимают форму обыденных привычек, вырастают и вновь обретают присущую им силу под волшебным воздействием разлуки. Так и моя любовь. Стоит только пространству разделить нас, и я тут же убеждаюсь, что время послужило моей любви лишь для того, для чего солнце и дождь служат растению – для роста. Моя любовь к тебе, стоит тебе оказаться вдали от меня, предстает такой, какова она на самом деле – в виде великана; в ней сосредоточиваются вся моя духовная энергия и вся сила моих чувств. Я вновь ощущаю себя человеком в полном смысле слова, ибо испытываю огромную страсть.
…Ты улыбнешься, моя милая, и спросишь, почему это я вдруг впал в риторику? Но если бы я мог прижать твое нежное, чистое сердце к своему, я молчал бы и не проронил бы ни слова».
Женни много раз перечитала письмо Карла. Ей было уже сорок два года, нелегкая жизнь, смерть детей и матери наложили след на прекрасное ее лицо, но ничто не могло охладить Карла. Он любил жену так же горячо и верно, как двадцать два года назад, когда впервые признался ей в этом.
«Лишенный возможности целовать тебя устами, я вынужден прибегать к словам, чтобы с их помощью передать тебе свои поцелуи. В самом деле, я мог бы даже сочинять стихи и перерифмовывать «Libri Tristium» Овидия в немецкие «Книги скорби». Овидий был удален только от императора Августа. Я же удален от тебя,а этого Овидию не дано было попять.
Бесспорно, на свете много женщин, и некоторые из них прекрасны. Но где мне найти еще лицо, каждая черта, даже каждая морщинка которого пробуждали бы во мне самые сильные и прекрасные воспоминания моей жизни? Даже мои бесконечные страдания, мою невозместимую утрату читаю я на твоем милом лице, и я преодолеваю это страдание, когда осыпаю поцелуями твое дорогое лицо. «Погребенный в ее объятиях, воскрешенный ее поцелуями», – именно, в твоих объятиях и твоими поцелуями. И не нужны мне ни брахманы, пи Пифагор с их учением о перевоплощении душ, ни христианство с его учением о воскресении».
Покуда Женни была в Трире, Карл вместе с Пипером побывал в портовом городе Гуль, видел в пути много английских и шотландских городов, расположенных по сторонам Великого северного пути – Грейт-норс.
Замки шотландских лордов мелькали за оградами, на пригорках, среди могучих дубов. Редко разбросанные встречные пограничные шотландские деревни были неприветливо серы, как шерсть овечьих стад на горах, как перевал, почти всегда тонущий в тумане. Вливаясь в города, Великий северный путь обрастал ровными коттеджами, просыпающимися на рассвете и засыпающими в сумерки. С заходом солнца быстро пустели улицы провинциальных местечек, и после девяти часов вечера дома без света казались покинутыми. Тогда в полутьме отчетливо воскресало средневековье. Резче становились контуры пуританских неукрашенных храмов на площадях и в дряхлых закоулках. В Линтингтоне, укрытый ратушей и многосотлетними домами, опирающимися на костыли из балок и столбов, внушительной крепостью стоял над рвом выпотрошенный пожаром, жалкий при дневном свете замок Марии Стюарт, шотландской бесцветной королевы, прославленной плахой.







