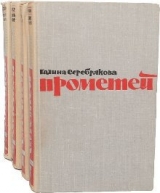
Текст книги "Похищение огня. Книга 2"
Автор книги: Галина Серебрякова
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 29 страниц)
Глава третья
Русские дела
Граф Орлов, брезгливо оглядывая тюремную камеру, поднес к большому, самоуверенно вздернутому носу надушенную перчатку и сказал, отчеканивая каждое слово:
– Его императорское величество желает, чтобы вы исповедались перед ним во всех своих прегрешениях. – Затем, понизив голос, шеф жандармов добавил: – «Пусть сей блудный сын, – сказал государь, – пишет ко мне так, как ежели бы он говорил со своим духовным отцом».
Бакунин ответил, не раздумывая:
– Передайте государю, что слова его потрясли меня до глубины души, что они взволновали мое сердце.
Орлов, не взглянув больше на узника, покинул камеру. За ним гуськом вышли комендант Петропавловской крепости и два жандармских ротмистра. Дверь захлопнулась, тяжело лег засов, и проскрипел ключ.
Ошеломленный неожиданным посещением, Бакунин прижался густо обросшей щекой к каменной стене, но мгновенно отпрянул. Ледяным могильным холодом повеяло на него. Гробовая тишина царила вокруг. Сжав голову исхудавшими прозрачно-желтыми руками, он уткнулся в колючую, набитую соломой, подушку.
Более двух лет Бакунин находился в одиночном заключении. Где-то за стенами крепостных тюрем неудержимо неслась многоликая, многоголосая жизнь. Но он был заживо похоронен. Гряда камня и цепкие прутья решеток отделяли его от таких же обреченных. Время перестало существовать и неслось с невероятной быстротой, лишенное каких бы то ни было примет и событий. Только память, только мозг – эти необъятные сокровищницы и тайники – помогали ему не сойти с ума, но они же рождали непреодолимый страх.
В последнее время Бакунин искал путей спасения. Жажда жизни усиливалась одновременно с мыслью о приближении небытия.
Дважды приговоренный в чужих странах к казни, он был выдан России, чтобы быть повешенным на плацу Петропавловской крепости.
Чувство унизительной, мерзкой боязни неумолимо, удавом, обвило его слабую душу. Как спастись? Как остаться жить?
В маленькое, забранное решеткой оконце, точно нарочно, чтобы мучить, врывался теплый, освеженный рекой и напоенный летними травами ветер.
«Орлов прав, советуя писать царю. Кто еще может отвести от меня руку палача? – думал Бакунин. – Только сам палач Николай Первый. А что, если разжалобить его?»
Бакунин вспомнил, как два года назад, запершись в гостинице немецкого городка, он намеревался обратиться к государю, но затем изорвал написанное. Что особенного, если он, русский дворянин, припадет теперь к стопам своего повелителя, сдастся и будет помилован царем? Но сомнения снова точили его. Возможно ли ему, руководителю защиты Дрездена, участнику Пражского восстания, называвшему себя социалистом, ползать на брюхе перед престолом?
Стыд на мгновение ледяной струей окатил сердце, но страх победил. Мысль о том, чтобы любой ценой получить помилование, уже не вызывала более содрогания.
Бакунин понимал, что Николай не удовлетворится малым, потребует полного покаяния и заставит узника обнажить свою душу. Исповедь навсегда покроет его, революционера, позором. Но что, если она останется тайной? Какой смысл царю оглашать ее? Искреннее раскаяние, быть может, спасет ему жизнь и даст свободу. Бакунину к тому же польстило, что царь сам захотел его признаний.
«Пасть во мнении немецких и прочих революционеров вовсе не означает еще стать действительно подлецом, – думал он. – Что толку в том, что меня вздернут на виселицу или сгноят в каземате? Какая будет в том польза для процветания славянских народов? Им я посвятил себя и ради них несу крест на Голгофу. Делами невиданными сотру я в будущем горькую необходимость стать сейчас на колени и постыдно вымаливать жизнь. А может, и вообще-то впредь отойти мне от донкихотской борьбы, поселиться с добрыми родителями? Революция разбита и скована, как я. Впереди только мрак, такой же убийственный, как в этой камере. Нет, история не бросит в меня камнем, тем более что я не назову ни одного русского имени и не выдам никого».
Но гнетущее недовольство собой все нарастало. Бакунин взял со стола Библию, единственную книгу, которая находилась в каменном мешке, и, загадав, раскрыл наугад страницу. «Живой пес лучше мертвого льва». Узник вздрогнул и снова погрузился в размышления.
«Исповедаться перед тираном – значит зачеркнуть все былое, из бунтаря превратиться в жалчайшего раба, вбить кол во все, чему верил и поклонялся. Что бы сказал Станкевич, который был моей совестью?»
– Нет, ты не трус и не отступник, – произнес он вслух, не замечая, что говорит о себе во втором лице.
Бакунин вдруг почувствовал облегчение. Даже ослабляющий животный страх покинул его. Смерть перестала пугать, и внезапно чувство силы и спокойствия наполнило все существо узника. Простые, не новые мысли о неизбежности конца для всего живущего успокаивали, как речные волны. Сотни тысяч человеческих поколений прошли по земле, исчезли, будто неисчислимые листья дерев и лепестки цветов. Бакунин вспомнил строки из письма к нему Белинского в счастливые годы молодости. «Чудная вещь жизнь человеческая, любезный Мишель, – писал Белинский. – Никогда так не стремилась к ней душа моя и никогда так не ужасалась ее. В одно и то же время я вижу в ней и очаровательную девушку и отвратительный скелет. И хочется жить и страшно жить, и хочется умереть и страшно умереть. Могила то манит меня к себе прелестью своего беспробудного покоя, то леденит ужасом своей могильной сырости, своих гробовых червей, ужасным запахом тления».
За окном камеры, бойко чирикая, завозились воробьи. И тотчас же тоска тысячами игл впилась в сердце и мозг заключенного.
Два года он был один. Тишина ослабила его слух, полумгла – зрение. Руки и ноги все еще болели от оков, в которых его держали в прусских и австрийских тюрьмах.
– Умереть, чувствуя себя до краев полным мыслей, слов, желаний, – это было бы безумием, – шептал он, слушая пение птиц, – Во имя чего? Ради призрачных понятий о долге и мужестве? Нет! Жить, быть свободным! Ведь еще ничего не сделано. Белинского уже нет в живых, но свет от него, как от погасшей звезды, еще многие сотни лет будет изливаться на человечество. Впрочем, зачем мне слава? Хочу лишь солнца, воздуха, сельского покоя, ласки близких, свободы двигаться, права идти куда глаза глядят. О, пусть только откроются двери тюрьмы, – и я пойду в леса, поля, пока не подкосятся ноги от сладкой усталости. Свобода – вот высшее счастье бытия. Погибнуть только ради того, чтобы какой-то замухрышка историк обронил обо мне два-три добрых слова? Не хочу! Я рожден для другого.
На секунду в памяти Бакунина всплыли образы пяти казненных декабристов, которых он чтил с юности. Стремительно он отогнал прочь эти видения о внезапно вспыхнувшей злобой.
«Нет, я не мечтатель, как Рылеев, не стоик, как Муравьев-Апостол. К тому же, где моя Сенатская площадь? Ее не было».
В тот же вечер Бакунин принялся за исповедь. Увлеченно набрасывал он лист за листом, позабыв о еде и сне. Не находя должных слов, он то перечеркивал написанное, то рвал страницы и наконец придумал начало, которое показалось ему достаточно убедительным.
«Ваше Императорское Величество!
Всемилостивейший Государь!
Когда меня везли из Австрии в Россию, зная строгость русских законов, зная Вашу непреоборимую ненависть ко всему, что только похоже на непослушание, не говоря уже о явном бунте против воли Вашего Императорского Величества, – зная также всю тяжесть моих преступлений, которых не имел ни надежды, ни даже намерения утаить или умалить перед судом, – я сказал себе, что мне остается только одно: терпеть до конца и просить у бога силы для того, чтобы выпить достойно и без подлой слабости горькую чашу, мною же самим уготованную. – Я знал, что лишенный дворянства, тому назад несколько лет, приговором Правительствующего Сената и Указом Вашего Императорского Величества, я мог быть законно подвержен телесному наказанию и, ожидая худшего, надеялся только на одну смерть, как на скорую избавительницу от всех мук и от всех испытаний».
Бакунин положил перо. Лицо его горело, но сомнения исчезли. Так убийца не чувствует иногда никаких угрызении совести после совершенного преступления и сам удивлен своему безразличию и спокойствию.
Выпив воды, он принялся писать о том, как тронут был снисходительным обращением стражи при въезде на русскую границу и затем в продолжение всей дороги от Царства Польского до Петропавловской крепости. Бакунин коленопреклоненно благодарил царя за милостивое отношение к нему в течение двухмесячного пребывания в крепостном заключении в России. Почти два года до того провел он прикованный к стене в тюрьмах Пруссии и Австрии.
«Граф Орлов объявил мне от имени Вашего Императорского Величества, что Вы желаете, Государь, чтобы я Вам написал полную исповедь всех своих прегрешений. Государь! Я не заслужил такой милости и краснею, вспомнив все, что я дерзал говорить и писать о неумолимой строгости Вашего Императорского Величества… Государь! Я кругом виноват перед Вашим Императорским Величеством и перед законами отечества. Вы знаете мои преступления, и то, что Вам известно, достаточно для осуждения меня по законам на тягчайшую казнь, существующую в России. Я был в явном бунте против Вас, Государь, и против Вашего правительства: дерзал противустать Вам, как враг, писал, говорил, возмущал умы против Вас, где и сколько мог. Чего же более? Велите судить и казнить меня, Государь; и суд Ваш и казнь Ваша будут законны и справедливы! – Что ж более мог бы я написать своему Государю?
…Да, Государь, буду исповедываться Вам, как духовному отцу, от которого человек ожидает не здесь, но для другого мира прощения; и прошу Бога, чтобы он мне внушил слова простые, искренние, сердечные, без ухищрения и лести, достойные одним словом найти доступ к сердцу Вашего Императорского Величества…»
Чем больше он писал, тем сильнее исполнялся чувством преданности и даже преклонения перед самодержцем всероссийским. И уже почти бесхитростно, преисполненный нежностью, Бакунин писал:
«Государь, я преступник перед Вамп и перед законом, я знаю великость своих преступлений, но знаю также, что никогда душа моя не была способна ни к злодейству, ни к подлости. Мой политический фанатизм, живший больше в воображении, чем в сердце, имел также свои крепко-определенные границы, и никогда ни Брут, ни Равальяк, ни Алибо не были моими героями. К тому же, Государь, в душе моей собственно против Вас никогда не было даже и тени ненависти. Когда я был юнкером в Артиллерийском Училище, я так же, как и все товарищи, страстно любил Вас. Бывало, когда Вы приедете в лагерь, одно слово: «Государь едет» приводило всех в невыразимый восторг и все стремились к Вам навстречу. В Вашем присутствии мы не знали боязни; напротив, возле Вас и под Вашим покровительством искали убежища от начальства; опо не смело идти за нами в Александрию. Я помню, это было во время холеры: Вы были грустны, Государь; мы молча окружили Вас, смотрели на Вас с трепетным благоговением, и каждый чувствовал в душе своей Вашу великую грусть, хоть и не мог познать ее причины, – и как счастлив был тот, которому Вы скажете, бывало, слово! – Потом, много лет спустя, за границей, когда я сделался уже отчаянным демократом, я стал считать себя обязанным ненавидеть Императора Николая; но ненависть моя была в воображении, в мыслях, но не в сердце…»
Исповедуясь перед Николаем I, Бакунин искренне и рьяно осуждал свою былую революционную деятельность. Грехом, преступлением, безумием называл он прекраснейшие годы исканий и борьбы. Он благодарил бога за то, что тот помешал ему вызвать революцию в России и тем самым, как он писал, сделаться извергом и палачом соотечественников.
Сбросив тюремный халат, в одних грубых штанах и туфлях на босу ногу, он в жаркие, душные летние дни и ночи, взлохмаченный, потный, возбужденный, писал свое покаяние, все более увлекаясь и преисполняясь радостью оттого, что «гибельные предприятия, некогда затеянные против Государя и родины, остались неосуществленными».
Он писал уже не только о себе. Имена его друга поэта Гервега, бесстрашного патриарха польской революции Лeлевеля и многих других появились на страницах пылкой исповеди.
«…клянусь Вам, что ни с одним русским, ни тогда, ни потом, я не находился в политических отношениях и не имел ни с одним даже и тени политической связи ни лицом к лицу, ни через третьяго человека, ни перепискою. Русские приезжие и я жили в совершенно различных сферах: они богато, весело, задавая друг другу пиры, завтраки и обеды, кутили, пили, ходили по театрам и балам – образ жизни, к которому у меня не было ни чрезвычайной склонности, а еще менее средств. Я же жил в бедности, в болезненной борьбе с обстоятельствами и со своими внутренними, никогда не удовлетворенными потребностями жизни и действия, и не разделял с ними ни их увеселений, ни своих трудов и занятий. Я не говорю, чтобы я не пробовал никогда, – а именно начиная с 1846-го года – обратить некоторых к своим мыслям и к тому, что я называл и считал тогда добрым делом; но ни одна попытка моя не имела успеха; они слушали меня с усмешкой, называли меня чудаком, так что после нескольких тщетных усилий я совсем отказался от их обращения. Вся вина некоторых состояла в том, что, видя мою нищету, они мне иногда, и то весьма изредка, помогали…»
Много дней и ночей писал Бакунин свои признания. Был вечер. Тюремный надзиратель подлил масла в фонарь и поставил его на плохо обструганный потемневший стол, заваленный кипою исписанной и чистой бумаги. Бакунин встал и принялся ходить по узкой и зловонной камере. Странная усмешка то появлялась, то исчезала с его лица, которое в прежние годы всегда вызывало двойственное впечатление: одни считали это лицо красивым, другие – отталкивающим. Он думал о родном Премухине, отцовском имении, где провел детство и надеялся скоро найти душевное отдохновение. Но более всего о сестре Татьяне. Необычно, греховно любил он ее, предпочитая всем остальным женщинам.
«Не знаю, как назвать мое чувство к Танюше, – думал он, мечтая о возможности скорой встречи, – но оно из тех, что испытывали, верно, греческие боги, сочетавшиеся браком даже с сестрами и матерями. Ревность ко всем, кто ей нравился, изглодала всю мою душу, чуть не рассорила навек с Виссарионом Белинским. Эта страсть опустошила мое сердце, и я не мог больше никого любить. Привязанность Лизы только бесила меня».
Потом Бакунин вернулся к «Исповеди». Он писал о последних месяцах пребывания за границей, когда возмечтал один объединить славян под главенством России.
«Разве уже тогда я не любил своего царя?» – вспомнил он и пожалел о том, что не решился в то время довериться ему.
«Я вздумал вдруг писать к Вам, Государь! – продолжал исповедоваться Бакунин. – И начал было письмо; оно также содержало род исповеди, более самолюбивой, фразистой, чем та, которую теперь пишу – я тогда был на свободе и не научен еще опытом, – но, впрочем, довольно искренней и сердечной: я каялся в своих грехах; молил о прощении; потом, сделав несколько натянутый и напыщенный обзор тогдашнего положения славянских народов, молил Вас, Государь, во имя всех утесненных славян, прийти им на помощь, взять их под свое могучее покровительство, быть их спасителем, их отцом, и, объявив себя царем всех славян, водрузить, наконец, славянское знамя в Восточной Европе на страх немцам и всем прочим притеснителям и врагам славянского племени! Письмо было многословное и длинное, фантастическое, необдуманное, но написанное с жаром и от души; оно заключало в себе много смешного, нелепого, но также и много истинного, одним словом – было верным изображением моего душевного беспорядка и тех бесчисленных противоречий, которые волновали тогда мой ум.
Я разорвал письмо это и сжег его, не докончив. Я опомнился и подумал, что Вам, Государь, покажется необыкновенно как смешно и дерзко, что я, подданный Вашего Императорского Величества, еще же не простой подданный, а государственный преступник, осмелился писать Вам, и писать, не ограничиваясь мольбою о прощении, но дерзая подавать Вам советы, уговаривая Вас на изменение Вашей политики!.. Я сказал себе, что письмо мое, оставшись без всякой пользы, только скомпрометирует меня в глазах демократов, которые не равно могли бы узнать о моей неудачной, странной, совсем не демократической попытке…»
Мысли обгоняли перо. Внезапно перед узником встало лицо Маркса. Жгучая ненависть к нему, вызвав удушье, заставила Бакунина прекратить работу. Он лег на койку, вперив жесткий, пустой взгляд в грязный потолок. Всегда Маркс, этот загадочный своей несокрушимостью исполин с всевидящим горящим взором и саркастической улыбкой, вставал на его пути. Вот и сейчас в тюремной камере проклятая память вызвала его образ как убийственный упрек.
– Все равно все погибло. Июньские дни в Париже стали роком для революции. Она невоскресима, – шептал Бакунин. – Сколько бы Маркс и все коммунисты ни старались, ни боролись, они обанкротились…
Злобная, мстительная радость охватила Бакунина. «Я переживу этих людей и их коммунистический бред…» Но Маркс снова и снова вставал в разгоряченном мозгу узника. Бакунин вдруг понял, что только одного отныне боится, – чтобы этот могучий немец когда-нибудь не узнал о его «Исповеди». Схватив дрожащими пальцами ручку и обмакнув перо в густые темные чернила, он написал русскому царю:
«Д-р Маркс, один из предводителей немецких коммунистов в Брюсселе, возненавидевший меня более других за то, что я не захотел быть принужденным посетителем их обществ и собраний, был в это время редактором «Новой Рейнской газеты», выходившей в Кёльне. Он первый напечатал корреспонденцию из Парижа, в которой меня упрекали, что будто бы я своими доносами погубил поляков, а так как «Новая Рейнская газета» была любимым чтением немецких демократов, то все вдруг и везде, и уже громко заговорили о моем мнимом предательстве».
Еще несколько дней и ночей неотрывно письменно исповедовался Бакунин. Был нестерпимо жаркий августовский день, когда он дописал последние строки:
«Я благословляю провидение, освободившее меня из рук немцев для того, чтобы предать меня в отеческие руки Вашего Императорского Величества.
Потеряв право называть себя верноподданным Вашего Императорского Величества, подписываюсь от искреннего сердца
Кающийся грешник Михаил Бакунин».
В августе «Исповедь» была передана Николаю I. С карандашом в руках, делая пометки на полях, внимательно читал ее царь. 27 сентября он вызвал генерал-лейтенанта Дубельта, к которому особенно благоволил, и, передавая «Исповедь», сказал ему, глядя в упор выпуклыми белесыми, как у щуки, глазами:
– Передайте великому князю Александру, пусть почитает. Что до Бакунина, повинную голову меч не сечет. Уповаю на господа, что с годами сей путаник и смутьян в надежной крепостной тюрьме образумится, искупит свои прегрешения великим терпением. Свидание с отцом и сестрой я ему разрешаю, конечно в присутствии Набокова.
Дубельт прочел собственноручную надпись Николая на первом листе «Исповеди». Она относилась к наследнику престола: «Стоит тебе прочесть, весьма любопытно и поучительно».
Спустя несколько дней Дубельт, один из влиятельнейших людей в государстве, человек с сухощавым, бездушным, хитрым лицом, на докладе у царя снова упомянул об «Исповеди».
– Ныне кающийся грешник Бакунин правильно судит о коммунизме, как изволили о том вы, ваше величество, отметить на полях покаянной его рукописи, – заговорил управляющий Третьим отделением, почтительно наклоняясь к столу, за которым сидел Николай.
Царь посмотрел выпуклыми рыбьими глазами на новенький голубой мундир с золотыми нашивками, аксельбантами и шнурами рьяного гонителя революционеров и сказал с подчеркнутым безразличием:
– Кому, как но Бакунину, знать в совершенстве сей предмет? Пусть, однако, господь просветит его смутную Душу.
– Ваше величество, – оживился Дубельт, – этот преступник пишет о Западной Европе, что дряхлость и разврат, происходящие от безверия, приведут ее к гибели. Все шарлатанят и обманывают там друг друга. Привилегированные классы держатся у власти эгоизмом и привычкою. Сие есть слабая препона против возможной бури. И что хуже всего, посреди всеобщего гниения одна только непросвещенная, грубая чернь сохраняет силу. Она особенно опасна, потому что является оплотом чудовищнейшей из идей – коммунизма. Беспрестанный крик и страх перед коммунистической ересью, по мнению преступника Бакунина, будто бы помогли ее распространению более, чем пропаганда тайных и явных коммунистических обществ.
– В Богемии, отчасти в Моравии, да и в Шлезии ядовитый корень коммунизма пустил ростки. Надо вытаптывать его без пощады и сжигать дотла.
– Вы, государь, весьма милостивы к Бакунину. Он ревностно сеял смуту в сих землях.
Царь потемнел лицом.
– Бакунин безволен и одинок. За ним никого нет. У подножия эшафота не первый раз вижу поверженных в прах. Не все, однако, молили о продлении жизни своей, – Николай презрительно и зло усмехнулся.
Но настроение царя резко ухудшилось. Он вспомнил о петрашевцах, мужественно стоявших перед виселицей и не просивших пощады. Они испугали его, как отзвук страшного революционного шквала 1848 года. Николай мгновенно терял самообладание, когда вспоминал отвагу этих людей, томившихся теперь на каторге. Как все жестокосердные, мстительные люди, он был труслив.
Несмотря на исповедь и прошение родственников, Бакунин оставался в заточении в Алексеевской равелине.
Когда он купил себе унизительными признаниями жизнь, страх казни наконец исчез. Бакунин почувствовал себя почти счастливым от животной радости бытия. «Я дышу, ем, пью, и так будет еще долго!» – думал он.
Но свидания с родственниками, разрешенные царем, вернули ему ясное понимание происшедшего. Каждый раз после редких желанных встреч с близкими Бакунин чувствовал с еще большей горечью и мукой, что произошло нечто непоправимое.
Страшный миг расставания, когда два конвоира уводили его назад в сумрачную камеру, был подобен чтению приговора. Сознание погребенности заживо в каменном мешке требовало душевных сил, которых он в себе не находил. Однако нужно было смириться, являть полную покорность. Вначале он был в этом искренен, но постепенно вернулось утерянное чувство человеческого достоинства. Он сам не знал отныне, где пролегала черта между правдивостью и притворством, – столь двойственна была его слабая душа.
Шли дни, недели, месяцы, годы… Михаил Бакунин, обрюзгший, бледный, то раздираемый противоречиями, то впадавший в длительную апатию, все еще сидел в секретной камере Алексеевского равелина.
Только в марте 1854 года по указанию царя начальник Третьего отделения собственной его величества канцелярии генерал-адъютант граф Орлов отдал распоряжение о переводе арестанта в Шлиссельбургскую крепость.
Одиннадцатого марта комендант Санкт-Петербургской крепости докладывал в рапорте:
«Весьма секретно.
Во исполнение Высочайшего Его Императорского Величества повеления содержавшийся в доме Алексеевского равелина преступник Михаил Бакунин сего числа в 9 часов вечера передан подполковнику корпуса жандармов Тизенгаузену для доставления в Шлиссельбургскую крепость и из списка об арестантах исключен…»
Лиза вернулась в Россию. В Петербурге она провела несколько безрадостных дней, так ничего и не узнав о судьбе Бакунина. Глядя на Петропавловскую крепость, где, думалось ей, томится или погиб уже Мишель, она вспомнила вдруг стихи Огарева:
А там далеко за Невой
Еще страшней, чернее здание
С зубчатой мрачною стеной
И рядом башен. Вопль, рыдания
И жертв напрасных стон глухой,
Проклятий полный и страдания.
Из Петербурга Лиза отправилась в Москву и поселилась у своей тетки княгини Евпраксии Александровны, женщины весьма начитанной, властной и скупой. В детстве Евпраксия Александровна долго жила в Англии и прослыла в Москве англоманкой и «синим чулком». Особенно старалась она убедить всех, что бедна, и добилась этого. Замолкли слухи, будто Евпраксия Александровна унаследовала от отца большие деньги, которые хранила в заграничных банках.
После нескольких лет разлуки Лиза с любопытством всматривалась в большое теткино лицо с крупными, неженскими чертами, с бородавками на обвислых щеках. Евпраксия Александровна много лет носила одно и то же клетчатое платье, похожее покроем на мужской редингот, и курила почти без перерыва толстые заграничные пахитоски. Говорила она нарочито низким голосом и преимущественно по-английски, а не по-французски, как было принято в высшем обществе. К Лизе она благоволила за то, что та, подобно ей, не была замужем и, главное, не просила денег.
Тетка Лизы была привержена к английской кухне. Повар, крепостной Лука, славился приготовлением пудингов, острых подливок и кровавых бифштексов.
– Вернулась наконец к родным пенатам, – начала Евпраксия Александровна. – Предупреждаю тебя, моя дорогая, что ты в России. Следует из этого сделать все необходимые выводы и, во-первых, попридержать язык и вести себя тише. Здесь, увы, не благословенная земля королевы Викторин. Каждый пятый, будь то даже дворянин, с которым ты встретишься, обязательно шпион и служит не богу, а дьяволу, то бишь Дубельту. Не доверяйся никому. Живем мы в опасное время. Не вхожу в то, нужно ли это и правильно ли, так как политикой не интересуюсь, но прошу тебя душевно: запомни мои советы и руководствуйся имя. Вольнолюбивыми и всяческими вольтерьянскими идеями можешь делиться только с одной своей подружкой – подушкой. Ну и со мной, если уж от молчания голова разболится. Остроги наши битком набиты всяким народом, и декабристы до сих пор не прощены. Государь – человек нрава необыкновенного и шутить не любит. Готовится ныне и туркам нос утереть, – Затянувшись пахитоской и переходя снова на русский язык, она продолжала: – Царь наш, истинный помазанник божий, спас Русь от мятежа и революции, чего не сумели ни Бурбоны, ни Габсбурги. Жандармы его, подлинно как легавые псы, мгновенно чуют крамолу.
Позавтракав, Евпраксия Александровна прогнала из столовой всех слуг, многозначительно сощурила смышленые, быстро перебегавшие с предмета на предмет глазки, улыбнулась широким, по-жабьи смыкавшимся выпуклым ртом и сказала Лизе:
– Не скрою от тебя, мой друг, что графиня, вернувшись из Брюсселя, заезжала ко мне жаловаться на тебя. Говорила, что ты в Париже с простонародьем баррикады возводила и в каких-то революционных притонах «Марсельезу» пела. Но я ее пыл быстро охладила. Сами, мол, не лыком шиты, тоже, чай, столбовые дворяне, и не по мужьям, а по крови, и как себя вести знаем, просим не учить. Но графинин язык до Третьего отделения доведет, так что береженого бог бережет, а особенно на родной сторонке. Надеюсь, дневники ты свои сожгла. Не те времена, чтобы бумаге доверяться. Да и возраст у тебя не тот, оставь это развлечение провинциальным барышням, мечтающим о гусарах.
Лиза скрыла улыбку и пообещала тетке не вести более дневника.
Успокоенная Евпраксия Александровна продолжала:
– Теперь о твоих делах поговорим. Денег от меня не жди. Все свои имения я заложила и перезаложила. Крестьянам оброк поуменьшила. Толку от этой благотворительности ни для них, ни для себя, по правде говоря, но вышло. Словом, бедна я, совсем бедна. Тебе же от отца-покойника осталась в наследство только одна душонка, да и та безземельная, – девка Машка. Пребестолковое создание. Живите покуда обе в моей избе, авось места хватит (избой Евпраксия Александровна называла свой двухэтажный, окрашенный режущей глаза охрой, огромный особняк в одном из кривых узких переулков возле Спиридоновки).
Лиза молча выслушала тетку, чем очень той угодила, и прошла к себе.
Девке Машке было лет под пятьдесят. Природа не слишком поизрасходовалась, производя ее на свет. Лицо крепостной, на котором едва был обозначен нос, пара бесцветных глаз и длинный рот почти без губ, было, однако, очень добродушным.
Глядя на свою крепостную, Лиза вспомнила, что Маша долгое время была сожительницей отца, родила от него ребенка и одна в течение долгой болезни ухаживала за стариком с удивительным терпением и старательностью.
– Что же, Машутка, – сказала Лиза мягко, – я, конечно, сейчас же дам тебе вольную. Какая же из меня рабовладелица? Такой бесчеловечности я не допущу.
Маша, горько зарыдав, бросилась в ноги Лизе, умоляя не гнать ее прочь.
– За что это вы решили от меня отделаться, барышня? Не хочу я на старости лет побираться и умереть под чужим забором. Ем я мало, да и одежкою запаслась при покойном барине. Свое отработаю, вот то крест святой, отработаю. Смилосердствуйтесь!
Лиза смотрела со все возрастающим состраданием на женщину, смертельно испугавшуюся свободы, и едва успокоила ее, пообещав повременить с вольною.
За обедом она рассказала тетке об испуге и причитаниях Маши.
– Она права, – сказала Евпраксия Александровна уверенно. – Куда ей податься, горемычной нищенке? В деревне и без нее бедняков много, в городе – по старости только что в воду или петлю. Мне вот недавно один наш дипломат презентовал забавную американскую книгу, тоже о рабах, только не белокожих, как наши, а черных. Они, впрочем, хоть и негры, а вызывают, представь, сострадание. В Америке рабы, оказывается, очень религиозны и не воруют. Это весьма выгодно их господам. Да не верится что-то. Чувствительная, сентиментальная книга.
– Не знаете ли, тетенька, кто ее автор? – поинтересовалась Лиза.
– Сама впервые слышу это имя. Какая-то мещаночка, дочь пастора, по фамилии, кажется, Бичер-Тоу. Вот эта книжонка, дарю тебе. Я не любительница повестей о рабах, они меня расстраивают. Твоя графиня говорит: это то же, что читать о животных, некоторые из них, мол, умны и преданны человеку, но, однако же, далеки от нашей породы. Я так не думаю. Но не люблю чувства жалости, оно вызывает у меня головную боль и тошноту.
Лиза прочла на скромной обложке: «Хижина дяди Тома. Сочинение госпожи Гарриет Бичер-Стоу».
Возвратившись в свою комнату, Лиза сперва равнодушно заглянула в книгу, но вдруг жизнь ее как бы переместилась. Внезапно она очутилась на ином материке, в мало известной ей доселе стране, на севере, затем на юге Америки. Том, Хлоя, Ева и другие герои потрясающей книги о рабстве окружили ее. Лиза то бежала по льдинам, спотыкаясь, рядом с преследуемой по пятам негритянкой, то рыдала с тетей Хлоей или умирала, как Ева, на руках человечнейшего из негров.
Никогда ни один рассказ не поглощал ее так и не причинял ей столько страданий. Она читала об Америке и видела в то же время крепостную Россию.
Тщетно Евпраксия Александровна вызывала ее и себе. Лиза как во сне слышала голос слуги. Точно так же не замечала Она, как разрезывает костяным ножиком и перелистывает страницы. И только когда прочла все, к ней снова вернулось ощущение времени и места. Лиза долго не вытирала мокрых от слез глаз. Маша на цыпочках входила и выходила из комнаты и молилась о том, чтобы Лиза начала снова спать, есть, разговаривать и двигаться. Наконец чары окончательно рассеялись.







