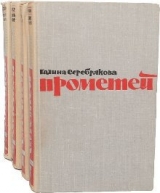
Текст книги "Похищение огня. Книга 2"
Автор книги: Галина Серебрякова
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 29 страниц)
«Никто… не знает, что такое эти русские, – пишет он в статье «Россия», – эти варвары, эти казаки. Что такое народ, мощную юность которого Европа могла оценить по борьбе… Цезарь лучше знал галлов, чем Европа русских. Нет недостатка в книгах о России, но большая их часть – политические памфлеты: они писались не для лучшего ознакомления с этой страной… Цель их была пугать Европу и поучать ее картиной русского деспотизма…»
Предвидя великую миссию своей родины, Герцен писал: «Много народов сошло с исторической сцены, не пожив полной жизнью, но у них не было таких колоссальных претензий на будущее, как у России. Вы знаете, к истории нельзя применить поговорку «опоздавшим – одни лишь кости», наоборот, им остаются лучшие плоды, если они способны питаться ими».
Лиза но читала пи одной книги или статьи Герцена, кроме его повестей. Она знала и сочувствовала его трагически сложившейся личной судьбе последних нескольких лет, исполненной разочарований, скорби, ревности и потерь.
Поздней осенью 1851 года погибли во время кораблекрушения мать Герцена, добрейшая Луиза Ивановна, и маленький сын Коля. Прошло всего полгода после этого страшного удара, и смерть снова ворвалась в его дом. Скончалась вместе с новорожденным ребенком молодая, обаятельная и умная жена Герцена – Наталья Александровна, которую, после недолгой, но сложной драмы, вызванной ее увлечением поэтом Гервегом, обрел он снова, чтобы пережить со всей остротой счастье любви и муку окончательной утраты.
Лиза с добрым чувством прикоснулась к широкой, крепкой руке Герцена. Ей хотелось вложить в рукопожатие всю силу своего уважения, сочувствия, дружеского расположения. Герцен, чьи нервы за последние годы были в постоянном болезненном напряжении, ощутил искренность и прямоту незнакомки. Нахмуренное, припухшее лицо его смягчилось, глаза подобрели, улыбнулись.
Сначала разговор не налаживался. Лиза несколько робела. Перед нею был человек необычного склада, как она сама определила его. К тому же Герцен был нетерпелив и, как бы предугадывая мысли другого, вторгался в разговор и сам направлял его по своей воле. Однако выдержка и благожелательность, исходившие от Лизы, победили, и он вдруг откинулся на спинку большого кожаного кресла и как-то успокоился. Началась плавная и неторопливая беседа, поглотившая обоих.
Герцен с презрением говорил о современном Париже, который ранее был ему очень мил и дорог. Город этот, колыбель великих революционных традиций, отныне воплотил буржуазное лицемерие, жестокость и тупоумие.
Второе декабря – день переворота Луи Бонапарта – был страшен для Герцена, как удар молотка, вбивающего гвоздь в крышку гроба обманутой Франции. Революция 1848 года, которой он радовался, словно пришествию великой правды и счастья на землю, казалась Герцену отныне погребенной.
Лондон, куда, потеряв жену, снова вернулся Герцен, произвел на него большое впечатление. Столица отражала и могущество Англии, и ее бесчисленные противоречия. Богатство, излишества немногих, нищета большинства, социальное неравенство и технический прогресс, предрассудки, узость воззрений, ханжество уживались мирно с свободой собраний, правом убежища чужеземных изгнанников и сравнительным отсутствием полицейских стеснений. Город был подавляюще велик, будто отдельная страна; в нем безостановочно, оглушающе, размеренно, как паровая машина или локомотив, двигалась, перемалывалась неукротимая жизнь.
Герцен искал полного одиночества и нашел его в многолюдном человеческом потоке, где так легко можно было затеряться со своими думами, тоской и жаждой действия.
Почти что в сельском уединении Чомлей-лоджа, этого густо обвитого жимолостью тихого дома, возле буколически прекрасного Ричмондс-парка, Герцен принялся за обессмертившую его работу и создал вольную русскую печать.
– Это кротовый труд, но как знать, быть может, удастся подрыть и опрокинуть могучие вековые своды, – сказал Герцен, провожая Лизу к калитке сада. Он еще раз пообещал ей сделать все возможное, чтобы как-нибудь помочь Бакунину.
В своем дневнике Лиза писала:
«Самая мучительная борьба, которую приходится нередко выдерживать человеку, это борьба с самим собой. Годы проходят, и я кажусь себе ни на что не годной неудачницей. Высшее образование наглухо закрыто для женщин, служба гувернантки меня изнурила и унизила. Несчастливая любовь к Бакунину была тем страшна, что подорвала во мне веру в себя как в женщину.
Жизнь на родине казалась мне лживой и жестокой, как в большом водоеме, где в зеленоватой воде веселые большие рыбы с леденящим душу коварством нагоняют и пожирают более слабых. Чтобы преодолеть отчаяние, я искала поддержку у природы: гладила незащищенные, детски чистые кусты цветов летом, нежный снег – зимой и подолгу благоговейно погружалась в гамму красок восходов и закатов солнца.
Я говорила себе тогда: прекрасное в природе примиряет нас, смягчает, как гениальная музыка, и заставляет любить жизнь, этот яркий, непостижимый сон. Но и смерть тоже сон, только без сновидений, тяжелый, лишенный цвета и звука.
Богатство изменило всю мою жизнь, однако неудовлетворенность не только осталась в душе, но и неизмеримо возрастает. Мне не угрожает больше каждодневная притупляющая борьба за существование, и тем напряженнее и свободнее работает неспокойная мысль».
Встреча с Герценом глубоко поразила Лизу. Переняв от Бакунина некоторое пренебрежение к общепризнанным авторитетам и нежелание подчиняться кому бы то ни было, даже если это было во благо, она со свойственной ей настороженностью приглядывалась к этому тучному человеку с острым и вместе печальным взглядом темных глаз.
Ей показалось, что уж очень гладка и красива его уверенная речь, изысканна и нарочита манера поведения, но какое-то почти ощутимое излучение таланта, яркость и быстрота мысли, полемический темперамент и, главное, отвага и горячность, с которой он говорил, пленили ее.
«Борьба – моя поэзия», – сказал он между прочим.
Эти чудесные слова долго вспоминались Лизе. Ей даже начало казаться, что в них есть особое звучание, как у песни. И она решила, что такие люди, как Герцен и те, кого ранее она знавала в Брюсселе, подобно величию и прелести неба, природы и музыки, созданы для того, чтобы опровергнуть дикость и жестокость современной ей жизни, чтобы показать, каким должно стать и будет когда-то человечество.
«Такие именно люди построят царство божье на земле, когда не будет больше зла и горя, – записала Лиза в своем дневнике. – Если бы их не было, над миром зазвучали бы слова Данте в надписи при входе в ад: «Оставь надежду, всяк сюда входящий».
В мае 1853 года Вольная русская типография, устроенная Герценом, была открыта. Управляющим типографией стал польский эмигрант Людвиг Чернецкий, друг и сотрудник Герцена. Наборщики были также поляки, и среди них оказался Сигизмунд Красоцкий, нашедший убежище в Лондоне.
В газете польской демократической эмиграции в том же мае появилась заметка: «Герцен понял долг русского народа; честь ему! Мы же делаем свое дело. Пришло время показать, что с правительством Николая – никогда, создать братский союз с русским народом против его дьявольского правительства – всегда!»
Лиза часто бывала в доме Герцена. Трое его детей, особенно четырнадцатилетний сын Александр, встречали ее очень радушно. Только их воспитательница Мальвида Мейзенбуг, обожавшая Герцена и ревновавшая его ко всем без исключения посетителям, относилась к ней холодно и настороженно. Эта весьма образованная немка, сочувствовавшая освободительным идеям своего времени, происходила, как и Лиза, из древнего аристократического, но обедневшего рода и вынуждена была ради заработка давать уроки, заниматься переводами, служить гувернанткой. Близость к демократическому движению и жизнь в семье Герцена дали ей возможность встречать и хорошо узнать многих выдающихся людей разных национальностей, и она очень гордилась этим.
В июле в Вольной русской типографии в Лондоне вышла прокламация «Юрьев день!», написанная Герценом. Лиза нашла в листовке все, о чем непрестанно думала с той ночи, когда читала «Хижину дяди Тома».
Герцен писал, что необходимость освобождения крестьян назрела. Будучи дворянином и революционером, он верил, что именно среднее дворянство отзовется на его призыв. Он не распознал тогда на Руси новую силу – разночинцев-революционеров – и писал, обращаясь к аристократии:
«В нашей среде развились потребность независимости, стремления к свободе и вся умственная деятельность последнего века. Между вами находится то самоотверженное меньшинство, которым искупается Россия в глазах других народов и в собственных своих. Из ваших рядов вышли Муравьев и Пестель, Рылеев и Бестужев. Из ваших рядов вышел Пушкин и Лермонтов. Наконец, и мы, оставившие родину для того, чтобы хоть вчуже раздавалась свободная русская речь, вышли из ваших рядов».
Но далее, как бы предвидя, что его надежды на дворянство не оправдаются, Герцен смело предупреждал:
«Мы еще верим в вас… вот почему мы не обращаемся прямо к несчастным братьям нашим для того, чтобы сосчитать им их силы, которых они не знают, указать им средства, о которых они не догадываются, растолковать им пашу слабость, которую они не подозревают, для того, чтобы сказать им: «Ну, братья, к топорам теперь. Не век вам быть в крепости, не век ходить на барщину да служить во дворе; постойте за святую волю, довольно натешились над вами господа, довольно осквернили дочерей ваших; довольно обломали палок о ребра стариков… Ну-тка, детушки, соломы, соломы к господскому дому, пусть баричи погреются в последний раз».
Как-то утром Лиза была потрясена, прочитав в «Таймсе» о двойном убийстве, которое совершил французский изгнанник, рабочий Бартелеми. Этого человека она встречала у Герцена и запомнила его привлекательное, слегка отмеченное оспой смуглое лицо, с резкими чертами и упрямым, мрачным взглядом лихорадочно блестевших глаз.
Прошло всего два года, как Бартелеми убил на поединке одного из близких друзей Ледрю-Роллена – эмигранта, лихого гуляку и неуемного дуэлянта Курне. Тогда ему удалось отделаться лишь двухмесячным тюремным заключением.
В этот раз Бартелеми после шумной ссоры убил фабриканта содовой воды, с которым вел какие-то дела. Он зашел к нему домой вместе со своей возлюбленной, направляясь на вокзал, чтобы уехать в Голландию, а затем в Париж, где собирался произвести покушение на Наполеона III, как о том говорил своим друзьям. Однако вместо императора он разрядил свой пистолет в головы сначала купца, затем полицейского, который первым попытался его задержать. Обоих уложил насмерть.
Ежегодно немало людей гибнет на острове под колесами карет, омнибусов, поездов, каждый день огромные черные катафалки увозят на кладбище сотни гробов, щедро осыпанных венками из английских, голландских, бельгийских цветов. Живущие не проявляют к этой регулярной «чистке» никакого интереса. Мелким шрифтом «Таймс» перечисляет адреса и имена умерших естественной смертью, тех, чей доход был не ниже десяти тысяч фунтов стерлингов в год; под зазывающими заголовками в кратких словах поминаются погибшие от катастрофы или неосторожности. Последним некрологи ничего не стоят, и их материальный уровень не всегда определяется упоминанием на одной из двадцати четырех страниц почтенной газеты промышленников и биржевиков. Читатели пробегают статистику несчастных случаев между прочим. Зато в дни судебных процессов, обещающих человеческую жертву дряхлому богу англосаксонской юстиции, Лондон подобен Древнему Риму.
На центральные улицы десятки, сотни газет вынесли свои обещающие рекламы: «Бартелеми сознался…», «Жуткая мистерия Бартелеми…», «Как Бартелеми убил…». Точки и обрубленные на полуслове фразы должны подстегнуть любопытство. Газетам в дни сенсационных процессов обеспечен повышенный сбыт. Еще продолжается следствие, еще не совещались члены суда, но статьи, заголовки в газетах, выдумки и враки репортеров предрешают судьбу обвиняемого. Не его последнее слово, не красноречие адвоката, а вой уличных газет формирует убеждение присяжных, которые должны сохранять беспристрастие.
Напрасно отдельные судебные деятели протестуют против английского суда Линча, против улюлюкания бульварной прессы, – она не желает и не ищет лучшего материала для первой страницы.
Сквозь решетки печатных букв английский обыватель, как некогда древние сквозь ограду клеток, пытается увидеть и учуять запах хищников, которые вскоре огласят ревом арену и разорвут осужденного. Спортивный азарт побеждает добытую воспитанием сдержанность. Одни предвидят традиционно уважаемый эшафот, другие – шумное оправдание.
Только предрассудки мешают устраивать на углах, у подъездов домов тотализаторы. «Осудят или нет?» – этот вопрос порожден совсем не состраданием или жаждой справедливости, а единственно желанием угадать, предвосхитить исход.
Даже парламентские выборы превращаются в Англии в разорительную игру с обязательным тотализатором. Чье будет большинство, какая партия победит? Заключаются пари, букмекеры собирают ставки. Как в дни национальных великобританских празднеств – скачек, люди окружают редакции газет и бюро по подсчету голосов. Клерки и лавочники добросовестно подражают спортивному безумию дворянской знати и игорному азарту биржевиков Сток-Эксчейнджа.
Во время выборов в парламент каждая зажиточная семья, улица в квартале рантье, знакомые и незнакомые охвачены этой эпидемически распространяющейся болезнью – спекулятивным безумием.
– Ставлю на большинство у тори в триста мандатов.
– Ставлю… Ставлю… Ставлю…
В последние дни суда над Бартелеми напряжение питателей газет достигло предела. Переживания их не уступали по силе чувствам, охватывающим зрителей петушиных боев. Прошлое, да и вся жизнь подсудимого были крайне увлекательно представлены читателям английских газет. Бартелеми был недурен собой, ему не было еще пятидесяти лет. Он некогда убил полицейского, затем на дуэли – бывшего мичмана Курне, сражался на баррикадах, бежал из тюрьмы Бель-Иль.
Двенадцать присяжных загадочно молчали на своих огороженных деревянной решеткой скамьях. Все они были мелкими купцами и дельцами. Никто не смог бы предвосхитить их решение. Гражданский долг извлек в порядке очереди этих двенадцать мужчин из их однообразной ежедневности, поручил им решение этого «вопроса».
Бартелеми не отрицал вины, но отказался объяснить причины. Судья, слушая прения сторон, меланхолически сдувал пылинки с мантии, и только общественный обвинитель, блистательный оратор, окончивший аристократический Оксфорд, без устали обрушивал на подсудимого булыжники беспощадного, всеразоблачающего обвинения. Репортеры предвкушали приближение казни и предшествующую ей прибыльную суету. Смертный приговор для них – наилучшая концовка процесса. Впереди вертятся бесчисленные интервью, сенсационные разоблачения, чувствительные бытовые картины. Священник доведет осужденного до истерики, премьер-министр откажет в помиловании, смертник напишет исповедь и в бессознательном состоянии будет гуманно повешен. «Гуманность» в данном случае означает высокое качество висельной веревки.
Бартелеми сумел заинтересовать собою всю Англию, Миллионы глаз приковало к себе каменное, скромного вида здание уголовного суда.
Лиза решила пойти в суд в день, когда должны были вынести приговор. В огромном грязноватом здании она сначала по ошибке попала в зал, где разбирались гражданские дела.
Трое судей второй инстанции были завернуты для пущего почета и страха в широкие черные тоги. Судьи, с их бабьими бритыми лицами и седыми космами криво надетых париков, показались Лизе живым олицетворением сотнями лет не проветривавшихся английских законов, годных более для эпохи ручного веретена, таранов, чернокнижья, сжигания колдунов и ведьм.
Подобострастно взирали на судей писцы, закинув вверх мышино-серые тупоносые лица. Судейские канцеляристы – особая порода людей, как и наемные гвардейцы королевы Виктории или английские полицейские. Если основным, иногда единственным условием для двух последних профессий служили рост и физическая сила, то суд являлся убежищем согбенных рахитиков, потомков судейских чиновников, имеющих ряд наследственных телесных и умственных примет, профессиональных болезней.
Судейские стены – ловкая подделка под церковную готику – были совершенно непроницаемы. Уличный шум отскакивал от них, не оставляя следа, как рыцарские мечи от феодальных крепостей.
Бормотание адвокатов и судей под этими средневековыми сводами омолаживало мир на несколько столетий.
Почтенный буржуа-истец, положивший под скамью черный цилиндр, невольно превращался в глазах Лизы в богатого суконщика в коротких штанах и ярком кафтане, поссорившегося со своим подмастерьем, который тоже здесь, не в сером холстяном переднике поверх кожаного костюма, а в сереньком сюртучке и табачного цвета брюках. Их сменила синеносая пожилая девушка, доказывавшая, что тетка, оставив домик и состояние своей кошке, имела в виду ее, говоря о надежной попечительнице.
– Я обожаю кошек, – шептала мяукающим голоском обойденная племянница.
– Не думают ли достопочтенные джентльмены, что покойная отдала имущество кошке, чтобы не оставить его племяннице, которая, как достопочтенные джентльмены слыхали ранее, ей часто досаждала непослушанием? – спрашивал коллег один из трех судей второй судебной инстанции.
Девушка трагически замахала руками и с трудом согласилась уступить слово своему защитнику. Его скучное словоизлияние падало в зал каплями английского мелкого дождя.
Эпоха сжигания кошек под видом ведьм и оборотней в Англии прошла. Об этом, кроме частого завещания им имущества, говорит и кошачье кладбище, где надписи на могильных плитах, портреты и памятники на все лады пытаются выразить израсходованную на кошек нежность. Лиза вышла из зала.
Чопорно встряхивая мелкими седыми локонами, беспрестанно прохаживались в холодных «кулуарах» – каменных залах – адвокаты, представители высшего сословия. Их низшие по чину коллеги лишены права выступать в судах, но в действительности предрешали часто исход дела. Они вели следствие, выискивали улики обвинения или защиты, умело нащупывали слабые места противника. Эти подлинные вдохновители, «закройщики» процессов, безгласны в момент решающей схватки. Вместо них скрещивают словесные шпаги адвокаты и прокурор. Разделение обязанностей между адвокатами и их помощниками – одно из бесчисленных ухищрений, обреченная на неудачу попытка предотвратить подкуп, уничтожить опасное пристрастие – введено в незапамятные времена каким-то наивным англосаксонским Солоном.
В хламе английского судебного права продолжал гнездиться закон о телесных наказаниях для несовершеннолетних. Отец, подавший в суд жалобу на непокорного сына, добился того, что семнадцатилетний юноша был бит плетьми. Непочтительный сын был высечен по всем правилам, предусмотренным понимавшим толк в подобном деле средневековьем.
Лиза прошла в огромный зал, где судили Бартелеми.
Лицо обвиняемого было совершенно спокойно, и только еще нестерпимее горели глаза на иссиня-смуглом обросшем лице.
– Вы будете повешены за шею и провисите так, покуда не умрете. Да смилуется господь над вашей душой! – заключил чтение приговора судья, жестом облегчения сорвал с себя пыльный седой парик и медленно опустился в кресло.
Придерживая рукой конвульсивно бьющееся сердце, Лиза вышла на воздух. Она задыхалась.
«Какой конец у этого странного и, видимо, душевнобольного человека! Какая трагическая, кровавая бессмыслица! – думала Лиза. – Хотел быть Брутом, а умрет как убийца, как опасный для общества зверь, бессмысленно отнявший жизнь у двух человек».
Ей стало жутко. Она закуталась в меховой салоп, подозвала проезжающий мимо кеб и поехала домой, но и там все еще не могла найти душевный покой. В тягостном недоумении и раздумье у камина, то и дело гаснувшего, провела Лиза бессонную ночь.
У ворот тюрьмы с рассвета, как всегда в часы казней, стояли тысячи людей: женщины в меховых ротондах и рваных драповых жакетах, мужчины, приехавшие прямо из ресторана, во фраках, и рабочие, направляющиеся на заводы. За оградой бесшумно вешали человека, и бесшумно стояла, впившись глазами в кирпич стены, толпа.
Бартелеми умирал мужественно. Он попросил локон девушки, которую любил, и сжал его в руке, когда палач подошел к нему.
В момент казни, в восемь часов тридцать минут, мужчины сняли кепи, цилиндры, шапки и шляпы. Вскоре заскрипел замок, и на пороге калитки появился полицейский. Виден был только надвинутый козырек его каски и острый подбородок. Он прикрепил на темной деревянной двери белый лист бумаги, который в нескольких весьма вежливых словах сообщал, что приговор над Бартелеми приведен в исполнение «самым человечным образом».
В восемь часов сорок пять минут улица перед тюрьмой опустела. Удовлетворенные зеваки спешили к дневным делам. Те, кто не стоял с ночи у тюремной стены, черпали в свою чашу кровь из газет, перечитывая смачные подробности, доставленные присутствовавшими при казни репортерами. Судья и прокурор лишний раз посетили свои церкви.
«Человек сотворен богом и ему принадлежит». Эта мудрость с колыбели и до гроба должна руководить британцем, кем бы он ни был: католиком, сектантом или приверженцем государственной англиканской церкви, потому что этим изречением руководствуется английский суд.
Вместе с Бартелеми был повешен еще один человек.
В Англии самоубийца считается посягателем на чужую собственность, поскольку его жизнь принадлежит не ему. Горе несчастным, спасенным из воды, куда они попали при необъяснимых обстоятельствах, вынутым из добровольной петли, подобранным с простреленной грудью пли ядом в желудке. Их оживят, чтобы судить с неописуемой жестокостью и часто умертвить опять. Они считаются убийцами, убийцами самих себя и отвечают перед законом, как совершившие непростительное преступление.
Сострадание к отчаявшимся, потерявшим желание, силы жить здесь чуждо. В лучшем случае это оценят как проявление безумия.
Страшнее, чем всплеск воды, долго вздрагивающей от прикосновения человеческого тела, пошедшего ко дну, равнодушный смех и юмор прохожих на набережной.
– Ждал бы теплой погоды, охота умирать в этакий холод.
– Авось откачают и согреют на виселице…
– Сумасшедшим дорога в воду.
Суд думал так же.
– Да смилуется господь над вашей душой, – сказал судья, когда был вынесен смертный приговор.
В день казни Бартелеми Лиза пришла к Герцену. Она была подавлена, мрачна, немногословна. Смертная казнь, как и война, накаляет самый воздух, создает давящую, удушающую атмосферу.
– Какой плачевный и жалкий конец! – прошептала Лиза. – Повешен как убийца мелкого купца и случайно подвернувшегося полицейского.
– Да, Бартелеми был подлинно маньяком терроризма. Он мечтал убить Наполеона Третьего и целью своей жизни ставил свирепое уничтожение не деспотизма, а деспотов. Его сгубило безрассудство и узость фанатика. А жаль. Он мог бы принести большую пользу революции, храбро дрался на баррикадах и умел говорить мастерски. Его речи были свободны от трех проклятий современного французского языка: революционного жаргона, адвокатско-судебных выражений и развязности сидельцев.
Помолчав, Александр Иванович сказал, горестно скривив большие губы и отойдя к окну, за которым навис темно-серый туман:
– Когда Бартелеми был схвачен, нашелся адвокат, который согласился защищать его бесплатно, несмотря на то что это было заранее проигранное дело. После суда он посетил Бартелеми, и тот предложил ему в знак благодарности свое пальто. И что бы вы думали? Адвокат, оказывается, сам хотел просить его об этом.
– Зачем? – удивилась Лиза. – Помнится, Бартелеми был одет более чем скромно.
– Так вот, послушайте, – продолжал рассказывать Герцен. – «Я, конечно, не собираюсь его носить, – сказал осужденному сей предприимчивый защитник. – Но оно уже запродано мною, и весьма выгодно». – «Кому?» – удивился Бартелеми. «Мадам Тюссо для ее особой галереи», – нисколько не смутись, ответил горист. Бартелеми содрогнулся. Когда его вели на казнь, он попросил шерифа ни в коем случае не отдавать пальто адвокату.
Мысль о бесславном, постыдном конце Бартелеми еще долго преследовала Лизу. Чувство одиночества ее все обострялось, хотя она стремилась не думать об этом и заполнить до краев свои дни заботами о нуждах эмигрантов, выполнением мелких поручений Герцена и просто повседневной суетой.
Как-то в Вольной русской типографии Лиза познакомилась с польским эмигрантом Ворцелем. Худой, изможденный, с тонким аристократическим лицом, он напомнил ей братьев Гракхов, стойко переносивших все испытания. Она мысленно видела его в тоге у портика Форума, поднимающего народ зажигательной бунтарской речью.
Граф Станислав Ворцель родился богатым и знатным. Природа щедро наградила его здоровьем, привлекательной внешностью, способностями. С детства польскому магнату было дано все, о чем может мечтать человек. Гувернеры и отборные учителя с первых лет жизни обучили его французскому, английскому и немецкому языкам. Ou был энциклопедически образован и глубоко изучил математику. Красавица Саломея, из шляхетского рода Кашовских, стала его женой, и в довершение семейного счастья у них родились сын и дочь. Казалось, что жизнь Ворцеля протекает под счастливой звездой. И, однако, к тридцати годам с ним случилось то же, что рассказывает легенда о принце из рода Саккиев, ставшем затем Буддой. Он вдруг прозрел, увидел страдания народа, порабощение родной Польши, которая отныне стала навсегда ого мистическим божеством. Ему опостылела роскошь, праздность людей его касты. Польское восстание 1830 года решило будущее молодого графа. Ворцель дрался в повстанческом войске за свободу Польши. После поражения он отступил с частями славного полководца Ромарино в Галицию. С тех пор навсегда лишился Станислав Ворцель родины и вынужден был искать пристанища в чужих странах. Жена и дети забыли его и никогда с той норы не произносили ого имени.
Для Ворцеля началась кочевая, неустроенная жизнь. Он решительно принес в жертву все, чего так настойчиво обычно добиваются люди: общественное положение, богатство, любовь.
В тридцатых годах в Париже судьба послала ему друга на всю жизнь, такого же фанатика, как и он, – Мадзини.
Оба они были религиозны, непреклонно целеустремленны, способны к полному самоотречению. Порыв и вдохновение ценили они выше какой бы то ни было теории и научного обобщения. Оба верили не только в судьбу отдельного человека, но и в предопределение для всего народа, для путей революции. Себя они считали миссионерами свободы или рыцарями крестовых революционных походов. В синих глазах Ворцеля, так же как в черных Мадзини, никогда не потухал жгучий огонь фанатического энтузиазма. Сблизившись с вождем «Молодой Италии», Ворцель хотел соединить польское дело борьбы за освобождение с общеевропейским республиканским и демократическим движением. Порвав с польскими аристократами Чарторыйским и Потоцким, Ворцель сблизился с Лелевелем.
В 1848 году Станислав возглавлял депутацию к Ламартину и требовал от правительства Франции действенной помощи порабощенной русским царизмом родине.
– На всякой перекличке народов в годину боя, – сказал он тогда министру иностранных дел республики, – на всякий призыв к борьбе за свободу Польша отвечает: я здесь! Она готова по первому зову идти на помощь всем угнетенным народам и видит в их освобождении освобождение Польши.
После июньского поражения изгнанный из Франции Станислав Ворцель нашел пристанище в Лондоне. Он нищенствовал, тяжело болел астмой, но, погибая физически, был непреклонен и крепок духовно. Седой, изнуренный, худой и прямой, как посох, он, всю жизнь боровшийся с царизмом за освобождение Польши, задыхаясь от счастья, говорил Герцену в день выхода первого русского революционного воззвания из-под типографского станка в Лондоне:
– Мы пойдем вместе, у нас одна цель, одни и те же враги!
И русская Вольная типография соединилась тогда с польской.







