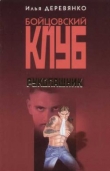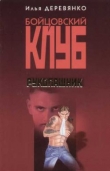Текст книги "999. Число зверя"
Автор книги: Фрэнсис Пол Вилсон (Уилсон)
Соавторы: Майкл Маршалл,Джин Родман Вулф,Эрик ван Ластбадер,Томас Майкл Диш,Эдвард Брайант,Эл Саррантонио,Томас Френсис Монтелеоне,Эд Горман,Стивен Спрюлл (Спрулл),Эдвард Ли
Жанры:
Ужасы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 22 страниц)
Я раскрыл бумажник. От вида двух вывалившихся пятерок мне стало даже стыдно на минутку.
– А, блин! – выразил свое мнение Таззман, подхватывая бумажки с такой опытностью, что я даже не заметил их исчезновения. – Хоть часы у тебя есть?
– Время для меня ничего не значит, – сказал я, показывая пустые запястья. – Кстати о времени: мне кажется, что ты уже кучу времени ничего не ел.
Этот Таззман закусил губу и полыхнул на меня взглядом, оценивая ситуацию. Был он напряжен, как медведь, учуявший человека, и это должно было меня насторожить. Но, как я уже сказал, эти телефонные разговоры меня здорово вывели из себя и я был готов схлестнуться с первым, кто попадется на дороге. Глупость, да? У древних греков было для этого более подходящее слово: хубрис.
– Майк, сделай ему бургер, ладно? – Поскольку Таззман уже ничего не понимал, я решил надавить: – Как тебя зовут?
– А?
У него был дурацкий вид. Вряд ли можно поставить это ему в вину. Ограбление пошло совсем не так, как он предвидел.
– Есть же у тебя имя? – Я вышел из кабинки. – Меня зовут Билл, а его, как я тебе уже сказал, Майк. Как тебя друзья называют?
– Смеяться надо мной решил? Я твою белую задницу оторву, можешь не сомневаться!
– Я не смеюсь.
Он прищурился на меня с подозрением.
– Нет у меня друзей. – Он поджал губы, перевел глаза с меня на Майка и обратно. – Таззман меня зовут, за волосы. – Он коснулся волос рукой, они не поддались ни на дюйм. – Пацаны говорят, у меня от них вид как у таззманского дьявола – что-то вроде. – Так у него выходило слово «тасманский». Он ткнул пистолетом в сторону Майка. – Он мне в самом деле бургер сделает?
– А как же, – сказал я, давая знак Майку.
Пока Майк разворачивал котлету и плюхал ее на сковородку, я шагнул к Таззману. Ноздри его зашевелились, ощутив запах жареной говядины, и я сделал еще один шаг. Это ему не понравилось.
– Эй, ты, мазерфакер! – сказал он, начиная поворачивать свой чертов пистолет в мою сторону.
– Билл, ради Бога! – завопил Майк.
А я плеснул свою мисс М. в лицо Таззману. Не знаю, известно вам или нет, но когда она попадает в глаза, то превращается в фурию.
– Мазерфакер! – повторил Таззман с полным отсутствием оригинальности.
Он нажал курок в тот момент, когда я левой рукой подбил ствол пистолета. Грохот, казалось, пробил у меня в голове дырку, просверлив мозг. Я ударил Таззмана каблуком по подъему, и он завопил как баньши. Но я недооценил этого фитиля, как и вообще неправильно оценил всю ситуацию.
Он нажал на курок еще раз. Град пуль прошил смертельную строчку по зеркалам. Майк попытался пригнуться, но попался на дороге, и его вбило в три яруса бутылок за спиной, и кровь с выпивкой смешались в мерзостное месиво.
– А, черт! – выдохнул я.
Автоматический пистолет повернулся в мою сторону, и я ударом ноги перевернул стол и спрятался за ним, потом заорал, когда ускоренные пули разодрали твердый дубовый стол как картон.
Шатаясь спьяну, я бросился в темноту за баром, но Таззман набрал обороты и не отставал. Пистолет перестал плеваться как раз настолько, чтобы он успел вставить новую обойму. Сколько же их у него? – подумал я на бегу.
Я пролетел мимо дверей в туалет, зная, что там бежать некуда и спрятаться негде. Пули стучали по старой штукатурке, когда я ударил в заднюю дверь. Не открывается! Я выдернул засов, распахнул дверь под градом щепок и щебня от ударов пуль, просвистевших мимо моей головы.
И бросился в вонючий переулок, куда Майк выбрасывал мусор и мясо для гамбургеров, когда оно превращалось в лабораторную питательную среду.
И тишина…
Тишина?
Где же этот безбожный грохот автоматического пистолета Таззмана? – спросите вы. Но он кончился, потому что я уже стоял ни в каком не в вонючем переулке. Оглядываясь вокруг, я увидел… скажем так: если бы рядом со мной стоял крошечный песик, я бы наверняка выдавил из себя: «Тотошка, мы больше не в Канзасе».
Наконец я повернулся в ту сторону, откуда пришел, но не увидел ни грязной стены, ни задней двери «Геликона»; только воздух, пространство и свет – яркий, радостный свет. Я стоял в комнате с высоким потолком, глядя в высокое окно у странно знакомой конструкции с закругленным куполом, в котором что-то было ближневосточное. Вниз от него расходился веером большой город, уходя в сине-золотые сумерки. Но ведь всего секунду назад было утро, а здесь точно не Манхэттен. Обилие труб и крыш мансард немедленно навело на мысль о Европе.
Вокруг меня на выбеленных стенах висели картины. Большие холсты импрессионистов, с богатым цветом, живые первобытным движением. Они кружились вокруг меня, как водовороты в потоке.
– Вам они нравятся?
Голос был мелодичен и густ, как девонширские сливки.
Я повернулся и увидел женщину с удлиненным лицом, и целеустремленность в этом лице делала красивыми черты, которые были в лучшем случае правильны. У нее был строгий вид, отдаленно напомнивший мне проклятую училку в адиронакской школе, куда я удрал в четырнадцать лет (даже там было лучше, чем в невыносимом доме) и откуда тоже в свою очередь удрал. Волосы цвета соли с перцем спадали по бокам прямыми прядями на легкие плечи, и в руке у нее был пучок кистей, и я решил, что она художница. Она была одета в оранжевую рубашку и брюки цвета ржавчины, поверх которых был надет длинный красный передник, жесткий от засохшей краски. И все равно была видна вышитая на нем спереди белая пентаграмма. Любопытная декорация, можете вы сказать, и будете правы. Но куда более любопытными были ее глаза. Клянусь, они были цвета неполированной бронзы и без зрачков.
– Леди, я не знаю, кто вы, но буду вам очень обязан, если вы скажете мне, куда я, к чертям, попал. И еще – нет ли у вас чего-нибудь выпить, желательно с высоким содержанием алкоголя.
– Я говорила о картинах. Хотя они и не закончены, мне было бы интересно, находите ли вы их действенными.
Она говорила с таким нажимом, как говорят только полностью захваченные своей страстью. Слышала ли она вообще, что я сказал? Не важно; ее страсть заставила меня приглядеться к картинам повнимательнее. Насколько я мог судить, они все были посвящены одной и той же теме: серия пейзажей, связанных общей композицией и стилем, зарисованные в разное время дня и года. Я был уверен, что не знаю, на что смотрю, и все же сама эта уверенность наполнила меня невыразимой грустью, будто меня пронзили в сердце.
– Конечно, конечно. Они очень красивы. – Но я все еще был отвлечен и мне отчаянно нужно было глотнуть чего-нибудь покрепче. – Послушайте, мне кажется, вы не поняли. Минуту назад я был в Нью-йоркском баре и удирал от психа с пистолетом, и вдруг оказался здесь. Я еще раз вас спрашиваю: где это?
– Обозрите картины, – выразилась она несколько ходульно, как свойственно европейцам. Ее рука поднялась и упала, как морская волна. – Они вам ответят.
– Леди, ради всего…
– Прошу вас, – остановила она меня. – Меня зовут Вав. А вас – Вильям?
– Вы сказали – «Вив» – уменьшительное от Вивиан? – Я не был уверен, что правильно расслышал.
– Нет, Вав. – Она произнесла это отчетливо. – Очень старое имя – можно даже сказать, древнее. Слово из иврита, означающее «гвоздь». – Она улыбнулась, и лицо ее раскрылось, как спелая дыня, проливающая ароматный и восхитительный сок. – Я тот гвоздь, что соединяет балки над головой. Я та, что дает приют усталым путникам.
Глядя на это лицо, я должен был засмеяться – другого выбора мне не оставалось. Мне подумалось, что она даже приговоренному преступнику даст возможность почувствовать радость в последние минуты жизни.
– Что ж, кажется, я такой и есть, – признал я. И быстро глянул в окно. – Это же не… стойте! Это же не может быть Сакре-Кер! Черт, он же в Париже!
– Нет, это он, – сказала она.
– Но этого не может быть! – Я закрыл глаза, потряс головой и снова открыл. Сакре-Кер остался на месте. Не растворился в клубе дыма. – Я теряю рассудок.
– Скорее обретаете. – Она тихо засмеялась. – Успокойтесь, не надо тревожиться. – Она отвела меня от окна. – Взгляните еще раз на картины, хорошо? Я писала их специально для вас.
– То есть вы знали, что я здесь буду?
Почему мне от этого стало так хорошо?
– Это кажется невероятным, не правда ли? – Она стала смеяться, пока я тоже не засмеялся с нею, и мы смеялись над шуткой, исток которой выходил за круг моих познаний. Она взяла меня за руку, будто мы были старыми друзьями. – Но пойдемте, скажите мне, кажется ли вам здесь что-нибудь знакомым.
И она медленно повлекла меня по периметру комнаты с высоким потолком.
Я сосредоточенно сдвинул брови.
– Странно, я именно это и подумал, но… – Я встряхнул головой. – Может быть, когда вы их закончите.
– Очевидно, вам нужно больше времени, – перебила она. Это она делала часто, будто ее как-то поджимало время.
– Учитывая все обстоятельства, мне кажется, я предпочел бы вернуться домой, – сказал я.
– Мне послышалось упоминание о психе с автоматическим пистолетом? – Она стянула с себя передник. – Зачем вам вообще туда возвращаться?
Я минуту подумал, вспомнив мертвого беднягу Майка и Таззмана, Рея, пристающего ко мне насчет Лили, этого сукина сына моего братца, не говоря уже о писательском затыке, пугающем, как мертвая зона на вершине Эвереста. Потом я подумал о необычной женщине рядом со мной, о Париже в бархатную моросящую ночь и ощутил легкость, которой не ощущал уже не знаю сколько.
– Честно говоря, не могу придумать причины.
Она сжала мою руку.
– Отлично, тогда вы пойдете со мной на открытие новой выставки.
Я облизал губы.
– Прежде всего мне нужно выпить.
Она отошла к антикварному буфету, налила что-то в низкий бокал резного хрусталя и принесла мне. Я поднес бокал к губам. Ноздри затрепетали от запаха мескаля, и я запрокинул голову, осушив бокал одним глотком.
– Это ведь всегда раньше помогало, – сказала она, когда я поставил бокал.
Обычно я бы разозлился до чертиков от таких комментариев, но Вав смогла сказать это так, что не слышалось осуждения. Как будто она просто показала мне эту грань моей жизни. А что я об этом думаю – полностью мое дело.
– Это, разумеется, имеет свое место, – ответил я, когда мы переходили в гостиную. Мельком я заметил густо-сливочного цвета стены, длинную софу стиля Деко, пару ламп Арт Нуво, и все это, казалось, сунули сюда, не думая. Был здесь антикварный восточный ковер, на котором свернулся черный кот с единственным белым пятном на лбу. Он проснулся, когда мы проходили, светящиеся лимонные глаза проводили нас с Вав, когда она вывела меня через входную дверь.
Спустившись по хорошо истертой лестнице, мы оказались в высоком затхлом вестибюле, типичном для жилых домов Парижа. В нем пахло камнем, смягченным сыростью столетий. Свет зажегся, когда мы вошли, мигнул и погас при нашем уходе.
Вечерний ветер нес туман, как стадо птиц, и туман трепетал паутиной, пролетая мимо железных уличных фонарей. Мы пошли на восток, в ночь.
– Галерея всего в нескольких кварталах, – сказала Вав.
– Послушайте, я вижу, что я в Париже, но как, ради всех чертей, я здесь очутился?
Мы подошли к тротуару и перешли довольно крутую улицу.
– Какое объяснение вас устроит? – спросила она. – Научное, метафизическое или паранормальное?
– А какое из них истинно?
– О, мне кажется, все они одинаково истинны… или ложны. Все зависит от вашей точки зрения.
Я досадливо качнул головой.
– Но дело в том, видите ли, у меня нет точки зрения. Чтобы она была, мне надо понять, что происходит, а я не понимаю.
Она кивнула, обдумывая каждое мое слово.
– Может быть, это только потому, что вы не готовы еще услышать, что я говорю. Точно так же, как не готовы увидеть картины.
Мы повернули налево, потом еще налево, ко входу на станцию метро Анвер в стиле Арт Нуво, и я с интересом поймал себя на том, что мои мысли вернулись назад во времени. С удивительной ясностью я увидел лицо матери. Она была красивой женщиной, сильной во многих отношениях, слабой и пугливой в других. Например, в отношениях с другими людьми она могла быть твердой как скала и очень напористой. Однажды я был свидетелем, как она сбила на сотню долларов цену на часы «Ролекс», объясняя владельцу магазина, что у нее девять сыновей (а не два, как было на самом деле), каждому из которых когда-нибудь понадобится ко дню окончания школы подарок – вроде этих часов, которые она выбрала для меня. Помню, как мне пришлось потупить глаза, чтобы не захихикать в жадную морду лавочника. На улице же, когда часы застегнулись у меня на руке, мы с матерью стали хохотать, пока не выступили слезы. Этот смех еще до сих пор во мне отдается, хотя матери давно уже нет.
С другой стороны, мать одолевали страхи и суеверия, особенно когда дело касалось детей. Ее отец, которого она обожала, умер, когда ей было всего четырнадцать. Однажды она мне рассказала, что, когда я родился, ее пожирали страхи перед всем, что может со мной случиться: болезни, катастрофы, дурная компания – все это она обсасывала со всех сторон. Она не хотела, чтобы я преждевременно ее покинул, как сделал ее отец. Он снился ей, снилось, как он вечером дремлет в кресле, в рубашке и халате, в ночных шлепанцах, и карманные золотые часы лежат у него на ладони, будто чтобы проснуться вовремя для работы. Она тихо пробиралась через гостиную и залезала ему на колени, сворачиваясь, как собака, закрывая глаза, и тогда он ей снился.
Моя мать не успокоилась, как можно было ожидать, после рождения меня и моего брата Германа. Как она мне потом сказала, потому что она знала свою судьбу: ей суждено было родить Лили. И Лили подтвердила худшие страхи моей матери, унылый взгляд на мир. Конечно, она обвиняла себя в уродствах Лили. Конечно, у нее был нервный срыв. И конечно, от этого стало только хуже для нас и для нее. С определенной степенью уверенности можно было сказать: накликала. Она ужасалась жизни и потому породила жизнь, которая ужаснула ее. Удивительно ли, что Лили ужасала и нас? Мы с Германом учились на примере, как все животные.
Я не виню свою мать. Она так же не могла изменить свое поведение, как малиновка не может не летать. Это то, что делают малиновки – летают. И если быть честным до конца, Лили была мерзким ужасом. И тоже ничего не могла поделать. Но правда есть правда, как бы ни была она горька. Просто не было смысла проходить вблизи от нее, тем более пытаться установить контакт. Одно время я пытался ее жалеть, но мать я жалеть мог, а вот ее – нет. Она присутствовала в мире лишь частично. Тогда я попытался делать вид, что ее нет вообще, но это тоже не помогало. Ничего не помогало, когда речь шла о Лили – ни диагнозы, ни лечение, ни рационализация ни в какой форме – ничего. Наконец даже ее судороги и слюни в стиле «Экзорциста» стали рутинными, частью обстановки, которую уже не замечаешь. Она была печальным фактом жизни, как жалкое папино мягкое кресло, такое вонючее и обветшалое, что мы все его хотели выбросить.
Взрыв звука вырвал меня из старых воспоминаний. Впереди меня большая толпа вваливалась в сводчатые железные двери. Я был почему-то уверен, что это вход в галерею, где выставка.
И я хотел идти дальше, но вместо этого остановился как вкопанный. Мой взгляд наткнулся на скорчившуюся фигуру на резном карнизе ближайшего дома. Она нависала над тротуаром, темная и непонятная, и почему-то от ее вида у меня застыла кровь в жилах. Просто горгулья, как сообразил я после первого ошеломления, но не похожая ни на одну из тех, что мне случалось видеть. Я прищурился в моросящий мрак. Кажется, эта тварь была получеловеком, полурептилией. Жутковатая округлая голова, слишком широкое лицо. Непомерно огромные глаза, устрашающих размеров пасть и жуткий змееподобный хобот.
– Что привлекло ваше внимание? – спросила Вав.
– Горгулья наверху.
– А! – Она кивнула. – Вы, может быть, знаете, что первоначально горгульи ставили на дома, чтобы напомнить человеку о темной стороне его природы.
– Ну, знаете ли, эта вот представляет темную сторону кого-то, с кем я не хотел бы встречаться. Она просто отвратительна.
И все же я не мог не смотреть на нее. Может быть, потому что у меня личный страх перед рептилиями, возникший, когда мне было семь лет. Я заблудился в прибрежных мексиканских болотах и имел действительно страшную встречу с крокодилом, который намеревался употребить меня на завтрак. Меня озноб пробирал при одном только воспоминании.
– Большая толпа, правда? – спросила Вав, даже не повернув головы.
– И с каждой минутой все больше, имею удовольствие вам сообщить. – Честно говоря, мне было приятно отвлечься чем угодно от нависшего над нами ужаса. – Вы, несомненно, очень популярны.
– Ах, нет, это вы путаете послание с посыльным, – сказала она. – Ко мне это не имеет отношения. Они все идут смотреть картины.
– Но картины – это и есть вы.
– Когда придем, вы сами увидите.
Она провела меня в сырой переулок вдоль каменного здания. Тут же город исчез в темноте.
– Разве мы идем не в галерею? – спросил я.
– Нам надо спешить, – ответила Вав. – Судя по тому, что вы мне сказали, у нас очень мало времени.
– Но я же ничего вам не говорил… – Мой голос пресекся. Что-то было такое в этом переулке, странно и жутковато знакомое, но я стряхнул это ощущение как бессмыслицу. Кроме того, мысли были слишком заняты обычной паранойей нью-йоркского жителя, опасающегося быть ограбленным в темном переулке. Чем дальше мы шли, тем сильнее было у меня неприятное ползучее ощущение вдоль позвоночника. Оно достигло такой силы, что я был в буквальном смысле вынужден оглянуться через плечо. И у меня вырвалось очень мерзкое слово, когда мои худшие страхи оказались явью: за нами тащилась какая-то уродливая фигура.
– В чем дело? – Вав остановилась от моего возгласа, а теперь повернулась.
– Кто-то идет за нами, – сказал я. – Видите?
– Боюсь, что я ничего не вижу, – ответила она. – Я думала, вы догадались. Я слепая.
– Ох ты, черт!
– Ничего. Это часть моего дара, – ответила она, неправильно меня поняв.
«Из огня да в полымя», – подумал я, хватая ее за руку и увлекая за собой по переулку.
– Быстрее, – сказала она. – Торопитесь, Вильям.
Фигура догоняла нас пугающе быстро. И вдруг я узнал, что значит, когда кровь холодеет в жилах, потому что я оказался лицом к лицу – если можно это так назвать – с мерзкой горгульей. Настолько мерзкой, что едва можно было смотреть. Теперь я понял, что в ней привлекло мое внимание: я увидел, как она шевелится. Проблема в том, что я тогда не мог в это поверить. Теперь не оставалось выбора. Она была живая и гналась за нами.
– Это горгулья, – сумел я выдавить из себя. – Вав, если ты себе представляешь, что вообще происходит, самое время мне сказать. – Тут до меня дошло, что Таззман меня застрелил, и это на самом деле… Ад?
– Вав, скажи мне, что я не мертв.
– Это хуже, чем то, во что мне пришлось поверить, – сказала она скорее себе, чем мне. Какую тайну видели ее слепые бронзовые глаза? – Поверьте мне, Вильям, вы не мертвы.
Не успела Вав это сказать, как горгулья бросилась на нас с такой скоростью, что я только успел уклониться с ее пути. Жуткая когтистая рука пронеслась у меня перед глазами и ударила Вав с такой силой, что ее вырвало из моих рук и она подпрыгнула как мяч, ударившись о мостовую. Потом, к моему удивлению, горгулья метнулась назад, будто учуяв что-то, что я не видел и не слышал. Я как дурак повернулся к ней спиной и нагнулся к Вав.
– Вильям, вы здесь?
– Вы же знаете, что да. – Повсюду была кровь, горячая и густая. – Я вызову «скорую».
– Поздно. Вы должны пойти на выставку, – шепнула она. – Это жизненно важно.
– Вав, ради Бога, скажите мне, почему?
Но се уже не было, и я чувствовал, что тварь готовится броситься на меня, поэтому я оставил ее и побежал. Но было уже поздно. Меня зацепила лапа, и я полетел лицом вниз на булыжники. Попытался подняться, но меня, кажется, парализовало. Сил хватило только перевернуться. Горгулья нависла надо мной, страшная морда исказилась призрачной ухмылкой.
Я закрылся рукой, и тут же меня охватил страшный приступ головокружения. Будто сами булыжники мостовой подо мной растаяли, и я полетел в темную бесформенную яму. Кажется, я закричал. Потом, наверное, я потерял сознание, потому что следующее, что я увидел, когда открыл глаза, была прохладная лесная поляна. В дубовых ветвях чирикали и пели птицы; контрапунктом отзывалось им ленивое жужжание насекомых. Пахло клевером и острыми ароматами вербейника и мяты. Поглядев в небо, я понял, что сейчас то время дня, когда, сменяя уходящее солнце, кобальт вечернего неба расползается, как непостижимые слова по странице.
Заржала лошадь, и я, повернув голову, увидел величественного гнедого охотничьего скакуна, который щипал траву. Он был снаряжен по английской охотничьей традиции.
Тут я услышал дробный стук копыт, оглянулся и увидел вороную лошадь с белой звездой во лбу, а еще я увидел лицо женщины. Совершенно поразительное, с изумрудными глазами и темно-белокурыми волосами, спадавшими на плечи, густыми, как лес. Лучезарная – такое слово приходило на ум. Лучезарная, как мало кто бывает или даже может надеяться быть. Она уверенно держалась в седле, одета она была в дорогой, но практичный охотничий костюм темно-синего цвета, кроме шелковой юбки – та была молочно-белой.
– Вы не ушиблись? – спросила она с приятным четким английским акцентом.
– А должен был? – спросил я в ответ. И протер глаза, которые, к моему окончательному ужасу, источали слезы. Я хотел перестать реветь, но не мог. Мне не хватало Вав; я хотел, чтобы она вернулась. До меня дошло, что в ее обществе мне впервые за много лет было легко.
– Издали казалось, будто вы сильно упали, но теперь я понимаю, что лесная подстилка из дубовых листьев приняла удар на себя.
Я понятия не имел, о чем она говорит. Но когда я встал, то обнаружил, что отряхиваю листья и мусор с бриджей и высоких черных охотничьих сапог. И ни следа крови Вав, которая секунду назад залила меня с головы до ног. Я снова заплакал, и так обильно, что мне от смущения пришлось от нее отвернуться.
– Кажется, все в порядке, – ответил я, когда смог взять себя в руки. Потом приложил ладонь ко лбу. – Только голова немножко болит.
– Это не должно быть удивительно. – Она протянула мне гравированную серебряную фляжку, висевшую у нее на бедре. – Возьмите. Судя по вашем виду, вам это может быть полезно.
Я открутил крышку и ощутил знакомый запах мескаля. Испытал знакомую тягу, но что-то щелкнуло у меня внутри, и появился мысленный образ рыбы, всплывающей к крючку с наживкой. Я еще минуту помедлил, потом отдал флягу ей.
– Как-нибудь в другой раз.
Она кивнула.
– Не вижу причин, почему бы мне не подождать и не проехать остаток пути с вами.
Я огляделся:
– Мы участвуем в каком-то стипльчезе?
– Да, конечно. – Она рассмеялась, и это было как тысяча серебряных колокольчиков. – Мы на охоте, Вильям.
Взяв поводья гнедого, я вставил ногу в левое стремя.
– И мы, наверное… где мы?
Я вскочил в седло.
– Лестершир. Восток средней Англии. Чарнвудский лес, если быть точным.
– Сердце охотничьей страны, – сказал я. – И Коттесмор тоже здесь происходит, если мне память не изменяет.
– Ежегодная большая охота на лис. Да, разумеется. Но теперь она уже не порождает тяжб. – Глаза ее заискрились самым зовущим образом. – Теперь поехали! – Она ударила кобылу каблуками по бокам, и та скакнула вперед. – Я не хотела бы пропустить самое интересное, а вы?
Я послал гнедого за ней, и мы тут же сорвались в галоп. Чтобы передать вам, как эта женщина меня захватила, я сознаюсь, что даже тогда, когда я отчаянно пытался вспомнить хоть что-нибудь о том, как ездить верхом, я неотрывно изучал ее черты. Цветущая сливочного цвета кожа наводила на мысль, будто она родилась для охоты – или по крайней мере для туманного английского сельского пейзажа. В ней ошущался какой-то манящий разум и при этом ореол беззаботности, который притягивал меня непостижимым для меня самого образом. Если бы в тот самый момент кто-нибудь предупредил меня о ней – возьмем крайность: сказал бы мне, что она убийца, – я бы только рассмеялся, дат бы гнедому шпоры и оставил бы этого человека глотать пыль. Я был счастлив ее пьянящим обществом. Увидел ее только что, а ощущение было, будто я знаю ее всю жизнь. Какая-то связь, тесная, как пуповина, объединяла нас. Она была как неожиданный подарок под рождественской елкой. Это на самом деле мне? – хотел я спросить, протирая глаза и все равно не веря.
– Эй, вы знаете мое имя, но я не знаю вашего, – сказал я.
– Конечно, вы меня знаете, Вильям. – Она подняла руку, и я поразился, увидев паутину меж ее пальцев. – Я – Гимел, плетущая реальность, купель идей, исток вдохновения. Я, как мой почти тезка кэмел-верблюд, наполнена до краев, я – самодостаточный корабль даже в самом враждебном климате.
В этот момент мы выехали на широкий луг, испещренный одуванчиками и наперстянками. Призраки солидных дубов уходили вперед по обе стороны, и в сгущающемся полумраке я мог разглядеть только широкую тропу. И мы двинулись по ней. Я трезво напомнил себе, что все эти капризы мысли не более чем остатки старых фантазий, быть может, от десятков тысяч лихорадочных гормональных снов, случившихся во времена моего достаточно трудного созревания. «Трудного» – в смысле испорченного, как черные заплесневелые остатки, которые, бывает, найдешь в холодильнике, когда вернешься после полугодового отсутствия.
– Я так понимаю, что мы только одни на этой охоте на лис, – сказал я, поравнявшись с ней. Мы ехали так близко, что я вдыхал ее прекрасный аромат.
– О нет, я бы никогда не стала охотиться на такую красоту, как лиса. – Когда она встряхнула головой, волосы ее колыхнулись самым заманчивым образом. – Мы охотимся на зверя.
– Какого зверя?
– Вы отлично знаете, Вильям, не притворяйтесь. – Она метнула на меня пронзающий взгляд, и я увидел кремневую остроту в этих великолепных изумрудах глаз, и сердце у меня перевернулось. Доктор, кислород! Остановка сердца! – Зверь зверей, – сказала она, не заметив стрелы, пронзившей мое сердце. – Только один есть зверь столь отвратительный, столь заслуживающий охоты.
– Послушайте, должен признать, я несколько смущен. Понимаете, я только что лежал в парижском переулке, залитый кровью подруги…
– Так вы считаете Вав своей подругой? Интересно. Вы же знали ее очень недолго.
– Я хорошо разбираюсь в людях, – ответил я несколько рассерженно. – Если вы ей не друг, лучше скажите это прямо сейчас.
Она рассмеялась:
– Боже мой, как вы быстро встали на ее защиту!
Мы ехали рядом, и она перегнулась и поцеловала меня в щеку, и я услышал пение птиц у себя в голове, тех, которые в мультиках летают вокруг головы Сильвестра, когда Твити как следует двинет его молотком.
– Мы с Вав были как сестры. Даже больше, если можете себе представить. Как два ломтя одного пирога.
– Мне ее не хватает.
– Меня это не удивляет, – сказала она. – Вы направлялись на выставку картин. Очень важно, чтобы вы туда попали. – Она кивнула, будто сама себе. – Жизненно важно, можно сказать.
– Вы хотите сказать, что знаете, как мне вернуться в Париж?
– Это не было бы разумно, как вы думаете? Кроме того, в этом нет необходимости. – Она ехала не слишком быстрой рысью, так что я мог держать ее темп. Спина прямая, плечи развернуты – тот вызывающий вид девчонки-сорванца, против которого я устоять не могу. Я представил себе, как она несется сквозь лес подобно Диане, мифической охотнице, мышцы натягиваются, когда она накладывает на тетиву стрелу и пускает ее в выбранную дичь. – Выставка переехала в Замок. Мы доберемся туда быстро, как только сможем. Но сначала мы должны увидеть неизбежное заключение охоты.
– Если оно неизбежно, чего же нам о нем волноваться? – спросил я. – Отчего не поехать прямо в Замок?
Она нахмурилась.
– С тем же успехом можно спросить, почему нельзя сначала выдохнуть, а потом вдохнуть. Просто нельзя. Законы вселенной, сами понимаете.
– Это те самые законы, которые дали мне в мгновение ока перенестись из Нью-Йорка в Париж и из Парижа в Чарнвудский лес? Или те, по которым выставка из Парижа перенеслась сюда?
– Именно так. – Она не отреагировала на мою иронию. Кажется, даже испытала облегчение. – Мне так приятно, что мы с вами оказались на одной странице.
Я застонал. На странице – какой неведомой книги?
– Не волнуйтесь, – сказала она. – Я доставлю вас туда, где вы должны быть. Поверьте мне, Вильям.
По спине у меня пробежал холодок, потому что эти же слова говорила Вав. И тут я принял решение. Пришпорив коня, я перегнулся к ей. Пока что, как я понял, игра по правилам, какими бы странными они ни были, ничего хорошего не приносила. Все меняется! Я схватил поводья ее лошади и свернул с проторенной тропы.
– Что вы делаете! – воскликнула она.
– К Замку, где бы он ни был, – ответил я. – Пусть остальные возятся со зверем.
– Кто остальные? – Мы теперь ехали бок о бок. – Вильям, на этой охоте только мы с вами!
– Тем лучше, – сказал я. – Некому будет нас хватиться.
– Вы не понимаете…
Я наклонился к ней так близко, что вдохнул запах ее волос.
– Теперь мы к чему-то подходим.
Она облизала губы. В наступившей ночи ее глаза были как неограненнные изумруды. На миг у меня мелькнула шальная мысль, не слепа ли она, как Вав.
– Мы должны загнать зверя, – сказала она. – Иначе он никогда не пустит нас к Замку.
– Почему?
– Вильям… – Было теперь что-то такое в ее лице, какой-то неуловимый след от раны столь свежей и глубокой, что она еще кровоточила. – Вав не посчиталась с присутствием зверя на свой страх и риск. Вспомните, что с ней случилось. Я не хочу повторить ту же ошибку.
У нее был вид такой ранимый… Я коснулся ее шеи.
– Какую ошибку?
Она чуть дрожала.
– Картины и зверь переплетаются. Нельзя увидеть одно и не встретить другого. Она думала, что может отвести вас прямо к картинам, что может обойти зверя. Она ошиблась.
– Вы все говорите о звере, но что именно вы имеете в виду? Насколько я знаю, таких зверей нет в Лестершире или, если на то пошло, во всей Англии. Большие хищники здесь истреблены, как почти во всей Европе.
Глаза ее всмотрелись в мои.
– Вав не объяснила?
– Если бы она это сделала, зачем бы я стал спрашивать вас? – мягко заметил я.
– Это упражнение в бесполезности. Обещаю вам, что вы мне не поверите.
Я поцеловал ее в щеку.
– Вы хотите сказать, что даже не дадите мне такого шанса?
Кажется, она призадумалась. Я чувствовал, что она приходит к решению, которого предпочла бы избежать.
– Лучше будем ехать, пока разговариваем.
Я кивнул и отпустил ее поводья, не отставая, когда она круто свернула через холодную голубую траву к чернильным теням леса.
– Зверь – порождение хаоса, – сказала она наконец. – Он едва ли думает так, как понимаем это слово вы или я, с ним невозможно рассуждать или искать компромисс, но его реакции на раздражители потрясающе быстры. Он – чистое зло.