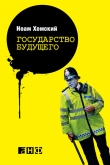Текст книги "Сильное государство"
Автор книги: Фрэнсис Фукуяма
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 12 страниц)
СИЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО
УПРАВЛЕНИЕ И МИРОВОЙ ПОРЯДОК В XXI ВЕКЕ
Francis Fukuyama
STATE BUILDING
Governance and World Order in the Twenty-First Century
Посвящается Марти Липсету
Введение
Построение сильного государства заключается в создании новых правительственных учреждений и укреплении существующих. В этой книге я показываю, что построение сильного государства – одна из наиболее важных проблем мирового сообщества, так как слабость и разрушение государств служит источником многих наиболее серьезных мировых проблем: от бедности до СПИДа, наркотиков и терроризма. Я также показываю, что, в то время как мы много думаем о государственном строительстве, существует огромное количество вещей, которые мы все еще не понимаем, особенно – как переносить сильные структуры в развивающиеся страны. Мы знаем, как транспортировать ресурсы через международные границы, но правильное функционирование общественных учреждений требует определенного менталитета населения и осуществления сразу всего комплекса мер, иначе оно будет встречать сопротивление. Нам потребуется внимательно рассмотреть множество различных соображений и исследований в этой области.
Та мысль, что в фокусе нашего внимания должно быть построение сильного государства, а вовсе не ограничение и уменьшение его функций, может показаться кому-то порочной. Преобладающими тенденциями в мировой политике в минувшие тридцать лет были, наряду с прочим, критика «больших правительств» и попытка сместить активную деятельность с государственного сектора к частным рынкам или гражданскому обществу. Но слабые, некомпетентные или несуществующие правительства являются источником серьезных проблем, особенно в развивающемся мире.
Например, в результате эпидемии СПИДа в Африке инфицировано свыше 25 млн. человек, что в будущем приведет к ошеломительным людским потерям. Со СПИДом можно бороться, как это делается в развитых странах, где есть мощные противовирусные препараты. Особенно подчеркивается необходимость того, чтобы обеспечить общественное финансирование противоспидовой медицины или обязать фармацевтические компании продавать их продукцию в Африке и странах третьего мира по низким ценам, в более дешевых формах. И хотя заметная часть проблем борьбы со СПИДом – вопрос ресурсов, другой ее важный аспект – способность правительства осуществлять программы здравоохранения. Противовирусные мероприятия не только дорогое удовольствие, их еще и сложно проводить. В отличие от лекарств, справляющихся с болезнью за короткий промежуток времени, курсы антивирусной терапии сложны в реализации и продолжительны по времени, а последующее нарушение режима способно значительно ухудшить эпидемиологическую обстановку, позволяя вирусу иммунодефицита мутировать и развивать стойкость к лекарственному препарату. Для эффективности прилагаемых усилий требуется мощная общественная инфраструктура, просвещенность общества и контроль над эпидемиологической обстановкой в некоторых регионах. Даже при наличии достаточных ресурсов имеется недостаток инфраструктурных возможностей для борьбы с болезнью во многих африканских странах на юге Сахары (хотя в некоторых из них, например, в Уганде, дела обстоят значительно лучше, чем в других). Таким образом, в деле борьбы с эпидемиями в проблемных странах нужно развивать возможности инфраструктур для эффективного использования тех ресурсов, к которым они могут иметь доступ.
Недостаток государственных возможностей в бедных странах приводит к тому, что развитым странам во многих случаях приходится действовать напрямую. Завершившаяся Холодная война подорвала экономические и политические силы целого ряда стран на Балканах, Кавказе, Ближнем Востоке, в Центральной и Южной Азии. Разрушение или значительное ослабление государства в 1990-е гг. уже привело к проблемам с гражданскими правами в Сомали, Камбодже, Боснии, Косово и Восточном Тиморе. При этом США и другие страны наивно полагали, что эти проблемы достаточно локальные, пока 11 сентября не показало, что слабость государства приводит к огромным стратегическим проблемам. Терроризм радикальных исламистов в сочетании с возможностями оружия массового поражения добавил к бремени проблем, созданных слабостью управления, в качестве основного аспект безопасности. Соединенные Штаты должны нести полную ответственность за построение национального государства в Афганистане и Ираке, инициировав там военные действия. Способность усиливать или создавать ранее полностью неучитываемые возможности государства и государственных институтов неожиданно стала главным вопросом глобальной повестки дня и, по-видимому, главным условием безопасности в важнейших частях мира. Таким образом, слабость государства – и национальный, и международный источник проблем первого порядка.
Эта книга состоит из трех основных частей. Первая дает аналитическую базу для изучения множества аспектов «государственности» – это и функции, и возможности, и основы легитимности правительств. Благодаря этой базе станет понятно, почему в большинстве развивающихся стран государственный аппарат скорее слабый, чем сильный. Вторая часть рассматривает причины слабости государства, особенно, почему не может быть науки общественного администрирования, несмотря на недавние усилия экономистов ее создать. Этот недостаток резко ограничивает возможность сторонней помощи в усилении государственной мощи страны. В заключительной части обсуждаются международные аспекты государственной слабости: как государственная слабость ведет к нестабильности, как размывает принципы суверенитета в интернациональной системе и как проблемы демократической легитимности на международном уровне выходят на первое место в споре между Соединенными Штатами, Европой и другими развитыми странами.
В основу этой книги положен курс лекций, прочитанных мной в Корнельском университете (Итака, штат Нью-Йорк) с 18 по 21 февраля 2003 г. Я очень благодарен Корнельскому университету, ставшему в последний год обучения моей альма-матер, и его прежнему президенту Хантеру Роулингсу за приглашение вернуться и прочитать этот престижный курс. Я особенно благодарен Виктору Ни с кафедры социологии Корнельского университета за поддержку в организации этого цикла лекций. Виктор также пригласил меня участвовать в работе недавно созданного Центра изучения экономики и общества. Я равно признателен ассоциированному директору Центра Ричарду Сведбергу.
Третья глава отчасти представляет собой компиляцию лекции в честь Джона Бонитона, прочитанной в августе 2000 г. в Мельбурне, Австралия, и лекции в честь сэра Рональда Троттера, прочитанной тогда же в Веллингтоне, Новая Зеландия.
Я благодарен Центру независимых исследований и его директору Грегу Линдси, а также Роджеру Керру и Кэтрин Джадд из новозеландского делового круглого стола, которые помогли мне и моей семье с поездкой в эти части света. Оуэн Харрис, последний редактор «Национальный выгоды», снабдил эту лекцию неоценимыми комментариями.
Многие идеи этой книги заимствованы из курсов сравнительной политики для студентов Школы общественной политики в университете Джорджа Масона, которые на протяжении нескольких лет я вел вместе с Сеймуром Мартином Липсетом. За эти я годы очень многому научился у Мартина Липсета, и эта книга посвящена ему.
Я получил ценные комментарии и советы от ряда друзей и коллег, среди них – Роджер Лидс, Джессика Эйнхорн, Фред Стар, Энцо Грилли, Майкл Мандерблаун, Роберт Клитгаард, Джон Икенбери, Майкл Игнатьефф, Питер Бетке, Роб Чейз, Мартин Шефтер, Джереми Рабкин, Брайн Леви, Кэрри Хэмел, Лиза Вуликангас, Ричард Паскале, Чет Крокер, Грейс Гуделл, Марк Плетнер, Карен Макоурс.
Часть лекций, легших в основу эта книга, читались в Межамериканском банке развития и в Агентстве международного развития Соединенных Штатов (USAID). Мне приятно поблагодарить Энрике Иглесиаса, президента IDB, и Энн Филлипс из бюро Политики и координации программ USAID за то, что это стало возможным. Кроме того, эти материалы были представлены на суд специалистов в Центре Миллера университета Виргинии, и в Гарварде в Центре Карра в школе правительственного управления имени Кеннеди, в Трансатлантическом центре в SAIS (Школе перспективных международных обучений), в школе [гражданских и общественных дел] Максвелла Сиракузского университета и в Германском фонде Маршалла.
Увязать в единое целое весь представленный в данной книге материал стоило моим помощникам-исследователям Маттиасу Маттийсу, Кристине Чики, Мэтту Миллеру и особенно Бьорну Дресселу немалого труда. Мой помощник Синтия Дорогази помогла мне на многих этапах развития этого проекта.
Как всегда, я благодарен своей семье за поддержку во время написания этой книги.
Глава 1.
НЕДОСТАЮЩИЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
Государство – древний институт человеческой цивилизации, возникший около 10 000 лет назад в первых земледельческих общинах в Месопотамии. В Китае государство с высокоразвитой бюрократией существовало на протяжении тысячелетий. В Европе современное государство, имеющее огромную армию, сильные налоговые органы, централизованную бюрократию, которая осуществляет верховные полномочия на огромной территории, наиболее отвечает требованиям времени, хотя насчитывает историю в 4 или 5 столетий со времени образования французской, испанской и шведской монархий. Становление такого государства, способного поддерживать порядок, безопасность, законопорядок и права собственности, обеспечило и возможность возникновения современного экономического мира.
Государство осуществляет широкое разнообразие функций, служащих для решения всяческих проблем. Некоторая принудительность власти позволяет ей, с одной стороны, защищать права собственности, а с другой стороны, дает право реквизировать частную собственность и ущемлять права граждан в интересах обеспечения общественной безопасности. Монополия легитимной власти, которую государство применяет, позволяет избегать внутри страны того, что Томас Гоббс назвал «войной всех против всех», но служит причиной конфликтов и войн на международном уровне. Задача современных политиков заключается в смягчении государственной власти, в направлении ее активности в область соблюдения законности людьми, которым она служит, и в регулировании употребления власти в соответствии с законом.
Современные государства в этом смысле обладают определенной универсальностью. В таких огромных частях мира, как в странах Южной Сахары в Африке, до европейского колониализма они не существовали. После Второй мировой войны деколонизация привела к активному укреплению государств во всем развивающемся мире – процессу, успешно завершившемуся в таких странах, как Индия и Китай, но до сих пор не осуществленному во многих странах Африки, Азии и Ближнего Востока. Большую часть подобных процессов, принесших различные и часто шокирующие результаты, инициировала последняя европейская империя, Советский Союз.
Таким образом, проблема слабости государственного аппарата и необходимость построения сильных государств существует уже многие годы, но террористическая атака 11 сентября сделала ее более очевидной. Бедность не есть непосредственная причина терроризма: организаторы атак на Всемирный торговый центр и Пентагон – выходцы из среднего класса и стали радикалистами не в своих родных странах, а в Западной Европе. Тем не менее эти атаки привлекли внимание к центральной проблеме Запада: современный мир предлагает очень заманчивую упаковку – сочетание материального процветания рыночных экономик с политической и культурной свободой либеральных демократий. Эта упаковка привлекает очень многих, и доказательство тому – огромные односторонние потоки эмигрантов и беженцев как из менее развитых, так и из более развитых стран. Но для многих стран во всем мире современное состояние либерального Запада труднодостижимо. В то время как отдельные страны Восточной Азии за последние 60 лет совершили этот переход успешно, другие развивающиеся страны в этот период или не менялись, или явно регрессировали. Спорным остается вопрос, действительно ли универсальны институты и ценности либерального Запада действительно универсальными, или они, как говорил Сэмюэль Хантингтон (Huntington 1996), всего лишь результат своеобразного культурного развития центральной части Северной Европы. Фактически ни западные правительства, ни учреждения, созданные для стимуляции многостороннего развития, не способны претворить в жизнь большую часть полезных советов или помочь развивающимся странам снижением высоких целей, которые ставят.
Спорная роль государства
Можно утверждать, что в двадцатом столетии политические взгляды на размер и силу государственного аппарата менялись с трудом и не без столкновения мнений. Начало этого столетия знаменовал либеральный мировой порядок под председательством передового либерального государства – Великобритании. Сфера приложения государственной активности не была чересчур широкой ни в Британии, ни в какой-либо другой из иных ведущих европейских держав, а в Соединенных Штатах, если не учитывать военную сферу, она была еще уже. Не существовало налогов на доходы, программ поддержки бедных или регулирования продовольственного обеспечения. Так как это столетие принесло человечеству войну, революцию, депрессию и снова войну, либеральный мировой порядок разрушался и почти на всей планете либеральное управление было вытеснено гораздо более высокоцентрализованным и активным.
Одно из направлений развития привело к тому, что Фридрих и Бжезинский (Friedrich и Brzezinski 1965) обозначили как «тоталитарное» государство, пытавшееся полностью уничтожить гражданское общество и подчинить остающихся разрозненными индивидуумов своим политическим целям. Право-политическая версия этого эксперимента закончилась в 1945 г. поражением фашистской Германии, в то время как лево-политическая рухнула под тяжестью собственных противоречий, после падения Берлинской стены в 1989 г.
Параллельно этому, за первые три четверти двадцатого века размер, функции и сфера влияния государственного аппарата в нетоталитарных странах, включая фактически все демократии, уменьшились. В то время как в начале столетия в большей части стран Западной Европы и Соединенных Штатах государственный сектор потреблял немногим более 10 процентов валового национального продукта, в 80-х годах он использовал уже около 50 процентов (70 процентов в демократической социальной Швеции).
Этот рост, неэффективность и те непредсказуемые последствия, которые он вызывал, привели к мощному противодействию в форме «тэтчеризма» и «рейганизма». Политика 80– 90-х годов характеризовалась возрождением в большей части развитого мира преобладающего влияния либеральных идей, параллельно с попытками удержаться, если не повернуть курс у этому, в границах роста государственного сектора (Posner 1975). Коллапс большей части форм государственной экономики, коммунизма, сразу же резко стимулировал уменьшение роли государства в некоммунистических странах. Фридрих А. Хайек, которого в середине века пригвоздили к позорному столбу за предположение о связи между тоталитаризмом и современным процветающим государством (Hayek 1956), еще при жизни (он умер в 1992 году) успел убедиться, что к его идеям стали относиться гораздо более серьезно, но не в политнческом мире, где пришли к власти консервативные и правоцентристские партии , а в академических кругах, где неоклассическая экономика повысила свой престиж настолько, что стала ведущей социальной наукой.
Уменьшение государственного сектора оставалось преобладающей темой в политике в течение переломных 80-х и начала 90-х, когда множество стран в бывшем коммунистическом мире, Латинской Америке, Азии и Африке в результате того, что Хантингтон (Huntington 1991) назвал третьей волной демократизации, стали отходить от авторитарного правления. Нет сомнения, что всеохватывающие государственные секторы бывшего коммунистического мира остро нуждались в дроблении, но раздувание государственного сектора охватило и много некоммунистических развивающихся стран. Например, правительственная доля в валовом национальном продукте Мексики увеличилась с 21 процента в 1970 г. до 48 процентов в 1982 г., а финансовый дефицит достиг 17 процентов от ВНП, что стало причиной долгового кризиса, который случился в том же году (Krueger 1993, II). Государственные секторы многих африканских стран сахарского региона занимались, например, созданием огромных корпораций с государственной собственностью и сельскохозяйственными торговыми советами, что отрицательно сказалось на производительности (Bates 1981, 1983).
В ответ на эти тенденции международными финансовыми институтами, такими как Международный финансовый фонд и Всемирный банк, а также правительством США, была предложена концепция, которая делала упор на ряде мероприятий, предполагающих уменьшение степени влияния государства на сферу экономики. Итоговый пакет был назван одним из его разработчиков (Williamson 1994) «Вашингтонским консенсусом», или «неолиберализмом», – такой вариант ввели его модификаторы для Латинской Америки. В начале XXI века «Вашингтонский консенсус» подвергли резкой критике не только противники антиглобализма, но и ученые-теоретики, крупнейшие специалисты в области экономики (см. Rodrik 1997, Stiglitz 2003).
Если посмотреть ретроспективно, в «Вашингтонском консенсусе» не было ничего неправильного: государственные секторы развивающихся стран были в большинстве случаев помехой росту, и длительная экономическая либерализация только укрепила бы их. Вернее, проблема заключалась в том, что хотя государства и нуждались в ограничении в определенных сферах, им было необходимо одновременное усиление в других. Экономисты, проводящие политику либеральных реформ, особенно хорошо разобрали это в теории. Но относительные акценты в этот период очень сильно связаны с ослаблением активности государственной власти, которое может быть неверно понято или умышленно неправильно истолковано как попытка ослабить влияние государства во всех областях экономики. Строительству государства в повседневной деятельности, по крайней мере такому же важному, как и ослабление роли государства, не уделялось должного внимания. В результате во многих странах реформы, либерализующие экономику, не оправдали ожиданий. В некоторых странах отсутствие соответствующего набора государственных и общественных институтов даже привело экономику к худшему состоянию, чем она была бы без этих реформ. Проблема – в отсутствии базовой концепции, охватывающей различные аспекты государственности, и в непонимании их связи с экономическим развитием.
Сфера влияния против силы
Я начинаю анализ роли государства в экономическом развитии постановкой такого вопроса: каким государством являются Соединенные Штаты – сильным или слабым? Четкий ответ на этот вопрос дал Липсет (Lipset 1995): американские государственные и общественные институты преднамеренно задуманы для ослабления или уменьшения влияния государственной власти. Соединенные Штаты рождены в результате восстания против государственного влияния, и в итоге теперь противогосударственная политическая культура выражается в ограничении государственной власти в виде конституционного правительства с четкими защитами прав индивидуумов, разделением властей, федерализмом и так далее. Липсет указывает на то, что американская система социального обеспечения создана поздно и остается гораздо более ограниченной (например, нет всеохватывающей системы здравоохранения), чем в других развитых демократиях, что рынки регулируются гораздо меньше и что США были одними из первых при общемировом откате назад в этом социальном обеспечении в 1980—1990-х гг.
С другой стороны, бытует мнение, что американское государство очень жесткое. Макс Вебер (Weber 1946) определяет государство как «человеческое сообщество, которое (успешно) претендует на монополию законного использования физической силы внутри данной территории». Иными словами, сущность государственности заключается в принуждении – исключительной возможности послать кого-либо в форме и с оружием для того, чтобы заставить людей исполнять правительственные законы. В этом отношении американское государство крайне строго: оно имеет на разных уровнях – федеральном, штатов и местном – целый набор силовых структур, обеспечивающих соблюдение всех законов, от правил дорожного движения до рыночных законов и основных положений «Билля о правах». Американцы в силу различных сложных причин не слишком законопослушны по сравнению с гражданами других развитых демократических обществ (Lipset 1990), но не из-за отсутствия расширенной и часто высококарательной уголовной и гражданской системы правосудия, которая развертывает реальные силы принуждения.
Иначе говоря, в Соединенных Штатах существует система ограниченного правительственного управления, которая имеет исторически суженную сферу государственной активности. Внутри этой сферы способность создавать законы и обеспечивать их соблюдение очень сильна. У многих американцев, конечно, существует значительная доля оправданного цинизма у многих американцев в отношении эффективности и уязвимости их собственного правительства (см., например, Howard 1996). Но американская власть закона – предмет зависти остального мира: «тем американцам, которые жалуются на то, как их местный департамент автомобильного транспорта обращается с автомобилистами, надо попробовать получить водительские права или на себе испытать дорожный беспредел в Мехико или Джакарте».
Отсюда ясно, чем отличается сфера государственного влияния, которое подразумевает, что на правительство возлагаются различные функции и цели, и сила государственной власти, или способность государства планировать и проводить политические курсы и обеспечивать следование законам, честно и открыто. Именно на это сегодня ссылаются как на компетенцию общества и государства. Одна из ошибок в нашем понимании государственности состоит в том, что слово «сила» часто используется равно как в отношении того, что здесь обозначено как сфера влияния,так и в отношении силыили мощи.
Рис. 1. Функции государства (Источник: Всемирный банк. Доклад о мировом развитии (World Development Report), 1997)
 Виды противодействия рынку Повышение социальной защищенности Минимальные функции Обеспечение общественной пользы Защита бедных Оборона Программы борьбы с бедностью Закон и порядок Помощь при бедствиях Права собственности Макроэкономиче ское управление Общественное здравоохранение Промежуточные функции Обращение к внешним проявлениям: Регулирование монополий: Борьба с неполнотой информации: Обеспечение социального страхования: Образование Регулирование полезности Страхование Перераспределение пенсий Защита окружающей среды Антимонополизм Финансовое регулирование Семейные пособия Защита пользователей Пособия по безработице Активные функции Координирование частного сектора: Перераспределение: Развитие рынка Перераспределение активов Групповые инициативы
Виды противодействия рынку Повышение социальной защищенности Минимальные функции Обеспечение общественной пользы Защита бедных Оборона Программы борьбы с бедностью Закон и порядок Помощь при бедствиях Права собственности Макроэкономиче ское управление Общественное здравоохранение Промежуточные функции Обращение к внешним проявлениям: Регулирование монополий: Борьба с неполнотой информации: Обеспечение социального страхования: Образование Регулирование полезности Страхование Перераспределение пенсий Защита окружающей среды Антимонополизм Финансовое регулирование Семейные пособия Защита пользователей Пособия по безработице Активные функции Координирование частного сектора: Перераспределение: Развитие рынка Перераспределение активов Групповые инициативы
Различие между этими двумя аспектами государственности позволяет создать матрицу, которая поможет разграничить степени государственности в различных странах во всем мире. Мы можем расположить сферы влияния государственной деятельности в своего рода непрерывном диапазоне, от необходимого и важного до всего лишь желательного и необязательного и, в некоторых случаях, непродуктивного или даже деструктивного. Конечно, можно не соглашаться с приоритетностью государственных функций, особенно когда речь идет о таких проблемах, как перераспределение или социальная политика. Большинство людей согласилось бы, что должно быть несколько степеней приоритетов: государствам необходимо сначала обеспечить общественный порядок и защиту от внешних вторжений, а уж потом систему здравоохранения или бесплатного высшего образования, распространяющуюся на все слои общества. Доклад о мировом развитии Всемирного банка 1997 г. (World Bank 1997) предложил один из возможных перечней государственных функций, разделив их на три категории, от «минимальной» к «умеренной» и к «энергичной» (рис. 1). Очевидно, что этот список не исчерпывающий, но обеспечивает «визуализацию» сферы влияния государства.
Взяв эти функции и расположив их вдоль оси X, как на рис. 2, мы можем разместить вдоль этой оси различные страны в зависимости от возможных результатов, которые их правительства надеются достигнуть. Конечно, существуют страны, пытающиеся выполнить сложные задачи управления, например, управлять полугосударственной формой собственности или размещать инвестиционные кредиты, при этом неспособные обеспечить основные общественные блага – закон, порядок или инфраструктуру общества. Мы разместим страны вдоль упомянутой оси в соответствии с наиболее амбициозными видами функций, которые они хотят выполнить.

Рис. 2. Сфера влияния функций государства.
Также зададим полностью независимую ось Y, которая представляет силу возможностей государственных институтов. Сила в этом смысле включает, как было сказано выше, способность сформулировать и осуществить политические курсы и создавать законы; администрировать эффективно и с минимумом волокиты; контролировать мошенничество, коррупцию и взяточничество; поддерживать высокий уровень прозрачности и ответственности (подотчетности) правительственных учреждений; и, что самое важное, реализовывать законы.
Существуют, очевидно не повсеместно, принятые измерения силы государственных институтов. В различных точках вдоль этой оси могут располагаться различные государственные органы. Например, государство Египта имеет очень эффективный аппарат внутренней безопасности, но все еще не способно выполнять простые задачи, вроде обработки запросов на предоставлении виз или эффективного лицензирования малого бизнеса (Singerman 1995). Другие страны, такие как Мексика и Аргентина, относительно успешны в реформировании центральных государственных институтов, таких как государственный банк, но не добились успеха в проведении эффективной финансовой политики или в обеспечении высококачественного общественного здравоохранения или образования. В результате, функциональная способность государства может сильно изменяться вдоль оси государственных функций (рис. 3).

Рис. 3. Мощь государства (гипотетическая).
С восстановлением акцента на качестве институтов власти в 1990-х гг. был разработан ряд соответствующих индексов, что помогло расположить страны вдоль оси Y. Один из них – индекс восприятия коррупции (Corruption Perception Index), разработанный «Transparency International», который основан на обзоре данных, поступающих главным образом из деловых сообществ, действующих в этих странах. Другой параметр – это разработанный частным образом Индекс риска по странам (International Country Risk Guide Numbers), который разделен на отдельные системы оценки коррупции, законности и порядка и качества бюрократии. Кроме того, Всемирный банк разработал показатели управления (governance indicators), покрывающие 199 стран (Кауфман, Крей и Маструцци 2003; показатели по 6 аспектам управления доступны www.worldbank.org/wbi/governance/govdata2002/ ). Существуют также более широкие системы оценки политических прав, например, индекс политической свободы и гражданских свобод агентства «Freedom House», который объединяет демократию и права личности в одно число – характеристику, или данные Polity IV [Этот набор данных скомпилирован Монти Маршаллом и Кейтом Джаггером и доступен на www.cidcm.umb.edu/inscr/polity. – Примеч. автора.] по характеристикам режима.
Если мы объединим эти два аспекта – сферу влияния и силу власти – в простой график, то получим матрицу, подобную изображенной на рис. 4. Эта матрица четко делится на четыре квадранта, которые имеют очень разные последствия для экономического роста. С точки зрения экономистов, оптимальным является квадрант I: здесь ограниченная сфера влияния государственных функций сочетается с устойчивой эффективностью государственных и общественных институтов. Экономический рост, конечно, прекратится, если государство слишком приблизится к началу координат и не будет выполнять свои минимальные функции, такие как защита прав собственности, однако экономический рост будет снижаться и по мере того, как государства сдвигаются вправо вдоль оси X.

Рис. 4. Государственность и эффективность.
Экономический успех, конечно, не единственная причина предпочесть заданную сферу влияния государственных функций; многие европейцы считают, что эффективность типа американской достигается ценой социальной справедливости, и предпочитают находиться в квадранте II, а не в квадранте I. С другой стороны, худшее с точки зрения экономической эффективности место – квадрант IV, где неэффективность государства приобретает форму амбициозного диапазона активностей, который не может быть хорошо реализован. К сожалению, именно в этой области находится огромное число развивающихся стран.

Рис. 5. Матрица государственности.
Для наглядности я разместил внутри этой матрицы ряд стран (рис. 5). Соединенные Штаты, например, имеют менее крупный государственный сектор, чем Франция или Япония; они не пытаются управлять неограниченными переходами между секторами риска через размещение кредитов, как поступала в индустриальной политике в I960—1970-х гг. Япония, но не делают подобный вид высококачественной бюрократии высшего уровня предметом гордости, как grande école [Высшая школа (фр.)] во Франции. С другой стороны, качество бюрократии США значительно выше, чем в большинстве развивающихся стран. Турция и Бразилия, напротив, проводили большую долю ВНП через свои государственные секторы, управляли национальной индустрией и регулировали и защищали широкую область экономической активности.
Расположить страны точно в различных квадрантах практически невозможно, если нет других критериев, кроме одного: как государственная мощь отдельно взятой страны перераспределяется между административными органами. В Японии система государственного социального обеспечения не столь всеохватна, чем во Франции или Германии, если определить ее величину по отношению к общему распределению доходов или социальным программам. Зато она использует регулирование (например, осуществляет защиту малых семейных предприятий розничной торговли) и некоторые микроэкономические компоненты, такие как уровень заработной платы и стаж работы, для обеспечения эквивалентной сети социальной защиты. Тем не менее, индустриальная политика Японии исторически более склонна к вторжению на чужой рынок, чем в странах Западной Европы, и уровень регулирования производства отечественных товаров здесь высок. Таким образом, не очень ясно, где расположить на диаграмме Японию – слева или справа от типичной европейской социально обеспеченной страны.