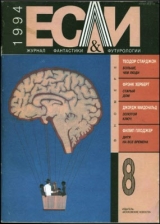
Текст книги "Журнал «Если», 1994 № 08"
Автор книги: Фрэнк Патрик Герберт
Соавторы: Теодор Гамильтон Старджон,Валентин Берестов,Александр Силецкий,Джордж МакДональд,Лев Корнешов,Илья Борич,Маргарита Шурко,Андрей Бугаенко,Филип Плоджер,Ольга Караванова
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 17 страниц)
Теодор Старджон
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ

Фантастический идиот
Идиот жил в черно-сером мире. В его ветхой одежде зияли окна прорех. В них выглядывало то колено, угловатое и острое, как зубило, то частокол ребер. Долговязый, плоский парень. И на мертвом лице – застывшие глаза.
Мужчины откровенно отворачивались от него, а женщины не решались поднять глаза. Лишь дети подолгу разглядывали идиота. Но он не обращал на них внимания. Идиот ни от кого ничего не ждал. Пропитание он добывал сам или вовсе обходился. А случалось, его кормил первый встречный. Идиот не знал, почему так происходит, но стоило прохожему заглянуть в его глаза, как в руке идиота оказывался кусок хлеба или какой-нибудь плод. Тогда он ел, а неожиданный благодетель торопился прочь в смутной тревоге.
Изредка с ним пытались заговорить. Он слышал звуки, но смысла для него они не имели. Он жил сам в себе, далеко-далеко, не ведая связи между словом и его значением. Видел он великолепно, и мгновенно замечал разницу между улыбкой и гневным оскалом, но ни та, ни другая гримасы ничего не значили для него.
Страха в нем было ровно столько, чтобы сохранить целыми шкуру и кости. Да и то всякая занесенная палка, любой брошенный камень заставали его врасплох. Правда, первое же прикосновение пробуждало его. Он спасался бегством. И не успокаивался, пока не стихала боль. Так он избегал бурь, камнепадов, мужчин, собак, автомобилей и городов.
Поэтому он жил в лесу.
Четыре раза его запирали, но он этого не замечал. Он бежал всякий раз, когда наступало время бежать. Средства для спасения предоставляла внешняя оболочка его существа, сердцевина же его или вовсе не тревожилась, или никак не распоряжалась своей скорлупой. Но когда приходило время, тюремщик или охранник замирали перед лицом идиота, в глазах которого словно кружили колеса зрачков. Тогда запоры сами собой открывались, идиот уходил, а тюремщик торопился найти себе какое-нибудь занятие, чтобы скорее забыть то, что произошло.
Идиот казался диким животным, обреченным скитаться среди людей. И старался держаться подальше от них… По лесу он передвигался с изяществом зверя. И убивал он как хищник: не наслаждаясь и без ненависти. Как зверь ел: досыта, но не более. И спал он подобно животным: неглубоким и легким сном. Он был зрелым зверем: игры котят и щенят не занимали его. Не знал он и радости. Настроение его менялось от тревоги к удовлетворению.
Было ему двадцать пять.
Мистер Кью был отличным отцом, лучшим из всех отцов. Так он сам сказал своей дочери Алисии в ее девятнадцатый день рождения. Эти слова он повторял Алисии с той поры, как дочери исполнилось четыре года. Столько ей было, когда появилась крошечная Эвелин, и мать обеих девочек умерла, прокляв мужа…
Только хороший отец, лучший из всех отцов, мог сам принять роды. И только исключительный отец мог вынянчить и выпестовать обеих девиц с беспримерной заботой и нежностью. Ни один ребенок на свете не был огражден от зла столь надежно, сколь Алисия. «Зло я знаю отменно – во всех его проявлениях, – говаривал мистер Кью, – а потому учил тебя только добродетели, чтобы ты была примером, звездой для Эвелин. Тебе ведь уже известно, чего следует избегать девушке».
В свои девятнадцать Алисия твердо усвоила, что есть «добродетель». Ведь уже в шестнадцать отец объяснил ей, как, оставшись наедине с женщиной, мужчина теряет рассудок и на теле его выступает ядовитый пот… Этот пот способен отравить женщину. В книгах отца были отвратительные картинки, подтверждающие эти слова. В тринадцать у нее впервые случились некие неудобства, и она рассказала об этом отцу. Со слезами на глазах он поведал ей: ЭТО произошло потому, что она слишком занята своим телом. Алисия со всем усердием старалась не думать о теле, но это не всегда ей удавалось. Не помогал даже утвердившийся в доме обычай – купаться в полной темноте, не спасала и устрашающая картина, висевшая в спальне, на которой отвратительный мужчина по имени Дьявол протягивал когтистые пальцы к прекрасной женщине, которую звали Ангел.
Жили они в старом большом доме на челе заросшего лесом холма. К дому не вела ни одна дорога, лишь тропка петляла сквозь заросли, так что из окон не был виден весь ее извилистый путь. Тропа подходила к стене, к железным воротам, не открывавшимся целых восемнадцать лет; рядом с ними было стальное окошко. Раз в день отец Алисии отправлялся к стене и двумя ключами открывал два замка в окошке. Потом поднимал металлическую панель, забирал продукты и письма, оставлял деньги и свою почту и вновь запирал окно.
Стену продолжал железный частокол высотой футов в пятнадцать, такой плотный, что между стальными прутьями едва можно было просунуть кулак. Сверху они ощеривались страшными остриями, а понизу уходили в цемент, утыканный битым стеклом. На территории, отгороженной от людских глаз, был оставлен участок девственного леса с ручьем и маленьким прудом, небольшими потаенными лужайками, полными душистых цветов. Частокол прятался за стеной сомкнутых дубов. Этот крошечный пятачок был для Эвелин целым миром, больше она ничего и не знала – все, что она любила, заключалось внутри ограды.
В девятнадцатый день рождения Алисии Эвелин сидела одна у пруда. Над нею высилось небо, а рядом журчала вода. Алисия ушла в библиотеку вместе с отцом. Эвелин в эту комнату никогда не допускали. Только Алисию, и то по особым случаям. Младшую сестру даже не учили читать – только слушать и повиноваться. Ей не суждено было искать – лишь принимать.
Эвелин сидела на берегу, расправив длинные юбки. Заметив, что оголилась лодыжка, она охнула и поспешно прикрыла ее. Прислонившись спиной к ивовому стволу, она глядела на воду.
Была весна, та самая пора, когда уже лопнули все оболочки, когда по иссохшим сосудам хлынули соки, когда раскрылись склеенные смолой почки, когда в стремительном порыве весь мир разом обрел красу. Воздух был сладким и густым, он щекотал губы, и они раздвигались – он настаивал на своем, – и они отвечали улыбкой… и тогда он рвался в легкие, чтобы вторым сердцем забиться у горла. Воздух этот манил, был тих и порывист одновременно.
Пересвист птиц мелким стежком прошивал зелень. Глаза Эвелин пощипывало, и мир расплывался за туманной пеленой изумления. Руки сами собой потянулись к крючкам. Высокий воротник распахнулся, и зачарованный воздух хлынул к телу. Эвелин задыхалась, словно от бега. Нерешительно, робко, она протянула руку, погладила траву, словно пытаясь поделиться невыразимым восторгом, переполнявшим ее. Но трава не отвечала, и Эвелин упала на землю, зарывшись лицом в юную мяту, и зарыдала: столь невыносимо прекрасной была эта весна.
Идиот тем временем бродил по лесу. Он отдирал кору с мертвого дуба, когда подобное произошло и с ним. Руки замерли, голова повернулась. на зов. Власти весны он подчинялся как всякий зверь, может, чуть острее. И вдруг она разом сделалась чем-то большим, чем просто густой, исполненный надежд воздух, чем истекающая жизнью земля.
Идиот осторожно поднялся, словно мог невзначай переломиться. Странные глаза загорелись. Он шел… он, которого до сих пор никто еще не звал, он, который не звал никого и никогда. Идиот начинал думать… Он ощущал, как рвется внутри оболочка, прежде сдерживавшая потребность в мысли. Всю его жизнь она, должно быть, таилась внутри его существа. Сейчас этот властный зов был обращен ко всему человеческому в нем, к той части его, что до этого дня слышала лишь младенческий лепет и дремала, забытая и ненужная.
Он был осторожен и быстр. Шел бесшумно и легко, скользя меж стволов ольхи и березы, огибая стройные колонны сосен. Он ориентировался не по солнцу и не по лесным приметам, он шел, не сворачивая, в одном только ему ведомом направлении, повинуясь внутреннему зову.
Он добрался до места внезапно. Ведь когда идешь по лесу, поляна – всегда неожиданность. Вдоль частокола все деревья были тщательно вырублены футов на пятьдесят, чтобы ни одна ветвь не могла перевеситься через забор. Идиот выскользнул из леса и затрусил по вспаханной земле к тесному ряду железных прутьев. На бегу он вытянул вперед руки, и когда они уперлись в равнодушный металл, ноги его все еще двигались на месте, толкая вперед уставшее тело.
Но зов повлек идиота, заставляя двигаться дальше, вдоль забора.
Весь день шел дождь, шел он и ночью, только к полудню следующего дня ливень прекратился.
Эвелин сидела у окошка, положив локти на подоконник и обхватив щеки руками, губы от этого сами собой растягивались в улыбку. Она тихо пела. Странная то была песня, ведь девушка не ведала музыки и даже не знала, что таковая существует на свете. Но вокруг щебетали птицы, а в печных трубах стонал ветер, и перешептывались в вышине кроны дубов. Из этих голосов и сложилась песнь Эвелин, странная и безыскусная, не знающая ни диатонической гаммы, ни размера:
Но я трогаю счастье
И не смею я тронуть счастье.
Прелесть, о прелесть касанья,
Листья света между мною и небом.
Дождь тронул меня,
Ветер тронул меня,
Листья кружат
И несут прикосновенье…
Потом она пела без слов, а еще позже пела без звука, провожая глазами капли, алмазами осыпающиеся с ветвей.
– Что это… что ты делаешь? – прозвучало вдруг резко и грубо.
Эвелин вздрогнула и обернулась. Позади нее стояла Алисия, лицо ее было неподвижным.
Махнув рукой в сторону окна, Эвелин пролепетала:
– Там, – и, соскользнув со стула, встала. Лицо ее горело.
– Застегни воротник, – проговорила Алисия.
– Что это случилось с тобой?
– Я стараюсь, – проговорила Эвелин голосом тихим и напряженным. Она поспешно застегнула воротник, но тут ладони ее легли на грудь.
Эвелин стиснула свое тело. Шагнув вперед, Алисия сбросила ее руки.
– Нельзя. Что это… что ты делаешь? Ты говорила? С кем?
– Да, говорила! Но не с тобой и не с отцом.
– Но здесь никого нет. Что с тобой, тебе плохо?
– Да. Нет. – отвечала Эвелин. – Не знаю, – она отвернулась к окну. – Дождь кончился. Здесь темно. А там столько света, столько… я хочу, чтобы солнечные лучи охватили меня, я хочу погрузиться в них, как в ванну.
– Глупая. Ведь тогда твое купание будет при свете!
Эвелин вихрем обернулась к сестре. Губы ее затрепетали, Эвелин сомкнула веки, а когда вновь открыла глаза, на ресницах блестели слезы.
– Не могу, – выкрикнула она. – Не могу!
– Эвелин! – шептала Алисия, пятясь к двери и не отводя от сестры потрясенного взгляда. – Мне придется рассказать отцу.
Эвелин согласно кивнула.
Добравшись до ручья, идиот уселся на корточки и уставился на воду. В танце пронесся листок, на мгновение замер в воздухе и отправился дальше между прутьями ограды прямо в глубокую тень.
Идиот проследил взглядом путь листка. «Последовать за ним» – это была первая в его жизни попытка логически осмыслить какое-то явление. Но приводя в исполнение задуманное, он обнаружил, что кроме листка да травинки сквозь железный частокол проскользнуть ничего не могло. Он начал биться о железные прутья, наглотался воды, чуть не захлебнулся, но в слепой настойчивости не оставлял напрасных попыток. Схватив обеими руками прут, идиот затряс его, но только поранил ладонь. Он попробовал второй, третий… и вдруг железо стукнуло о нижнюю поперечину.
Идиот не знал, что такое ржавчина, он лишь почувствовал, что прут поддался, и смутно ощутил прилив надежды. После нескольких отчаянных попыток проржавевшее железо хрустнуло под водой. Человек повалился назад, больно ударившись затылком о край желоба. Когда вдруг закружившийся мир остановился, идиот уже осознанно опустился под воду. Там оказалось отверстие – высотой не менее фута. Идиот погрузился в поток еще раз.
Мистер Кью сделал по комнате круг, его глубоко посаженные глаза горели. Пальцами левой руки он огладил кнут о четырех хлыстах. Алисия торопливо говорила:
– Наверное, она возле пруда. Эвелин любит это место. Я пойду с тобой.
Отец поглядел на Алисию, на разгоревшееся лицо, на пылающие глаза.
– Это моя забота. Оставайся здесь.
– Ну, пожалуйста!
Он шевельнул тяжелой рукояткой кнута.
– Тебе тоже захотелось, Алисия?
Алисия застыла, потом метнулась к окну. Отец уже был снаружи, он шагал широко и целеустремленно. Руки ее легли на оконный переплет, губы раздвинулись и с них сорвался странный стон.
Эвелин добежала до пруда, задыхаясь. Невидимой дымкой, колдовским маревом нечто висело над самой водою. Она жадно впитывала это чувство – и вдруг ощутила близость. Она не знала, что это – существо или событие, – но оно было неподалеку, и Эвелин предвкушала встречу. Ноздри ее трепетали и раздувались. Добежав до края воды, она опустила ладонь.
И сразу вскипела вода в ручье; это идиот вынырнул из-под ветвей остролиста. Он повалился грудью на берег и, задыхаясь, снизу вверх глядел на нее. Тело его было исцарапано, ладони распухли, волосы слиплись.
Завороженная девушка склонилась над ним. Потоки одиночества, ожидания, жажды и радости заструились от нее. Восхищение слышалось в ее зове, но не было в нем потрясения или испуга. Не первый день она знала о нем, как и он о ней, и теперь оба безмолвно тянулись друг к другу, смешивая, сплетая, сливая чувства. Каждый уже обретал жизнь в другом, и теперь она, нагнувшись, коснулась его и провела ладонью по лицу и взъерошенным волосам.
Задрожав, он выбрался из воды. И она опустилась возле него. Так и сидели они рядом, и наконец Эвелин увидела эти глаза: они словно расширялись, заполняя все небо. Со слезами радости она словно упала в них, готовая утонуть в бездонной глубине.
Эвелин никогда не говорила с мужчиной, а идиот ни разу в жизни не произнес ни слова. Она не знала о поцелуях, а он если и видел их, то не знал, что это такое. Им было дано большее. Они сидели рядом, ладонь ее лежала на его обнаженном плече, и токи немого чувства перетекали из тела в тело. Поэтому они не услышали ни решительной поступи отца, ни его изумленного вскрика, ни яростных воплей. Ничего кроме друг друга не видели они, пока не обрушился первый удар; схватив Эвелин, отец отбросил ее в сторону. Побледнев, содрогаясь всем телом, он высился над идиотом, гортань исторгала ужасные вопли.
И обрушился кнут.
Идиот был настолько поглощен тем, что происходило внутри него, что ни первый сокрушительный удар, ни второй его распухшая плоть даже и не заметила. Он лежал, уставившись куда-то в воздух, – туда, где только что были глаза Эвелин, – и не двигался.
Но вновь засвистели хлысты, терзая плетеными концами его тело. Тогда проснулся прежний рефлекс – спасаться, – и он скрылся под водой.
Алисия издалека увидела возвращающегося отца. В самый последний миг, чтобы не переломиться случайной соломинкой под его ногой, она безмолвно отшатнулась в сторону. Он протопал мимо нее прямо в библиотеку, как всегда прикрыв за собой двери.
– Отец!
Не получив ответа, она вбежала следом. Отец достал из ящика длинноствольный револьвер и коробочку патронов, затем медленно зарядил пистолет.
Алисия подбежала к нему.
– Что случилось? Что случилось?
Остекленелый взгляд был прикован к оружию.
Отец дышал медленно и чересчур глубоко, слишком длинно вдыхал, чересчур долго задерживал выдох и с присвистом выталкивал его наружу. Он звякнул барабаном, проверил, все ли исправно, посмотрел на дочь и поднял оружие.
С ужасающей ясностью она поняла: отец не видит ее, не может отвести глаз от невидимого ей кошмара. Продолжая глядеть сквозь нее, он поднял пистолет, вложил ствол в рот и нажал на спусковой крючок.
Шума было немного. Только волосы на его макушке взметнулись. Глаза все еще пронзали ее. Задыхаясь, она выкрикнула имя отца. Но его уже нельзя было дозваться, он был мертв – как и за несколько мгновений до выстрела. Тело качнулось вперед и рухнуло.
Эвелин она нашла у пруда, сестра лежала навзничь, широко распахнув глаза. Висок девушки распух, его рассекала глубокая рана.
– Не надо, – тихо шепнула Эвелин, когда Алисия попыталась приподнять ее голову. Мягко опустив ее, Алисия встала на колени и стиснула ладони сестры:
– Эвелин, что случилось?
– Я упала, – спокойно проговорила Эвелин.
– И собираюсь уснуть.
Алисия заскулила.
Эвелин проговорила:
– Как называется, когда человек нуждается… в человеке… Когда хочешь, чтобы тебя касались… когда двое едины… и ничего другого вокруг не существует?
Читавшая книги Алисия задумалась.
– Любовь, – произнесла она после долгих раздумий и, судорожно сглотнув, добавила: – Но это же – безумие. Скверное безумие.
Эвелин посмотрела на сестру, как женщина смотрит на девочку:
– Неправда.
– Тебе надо в дом.
– Я усну здесь, – отвечала Эвелин. – И более не проснусь. Я хотела кое-что сделать, но уже не смогу. Сделаешь ли ты это для меня?
– Сделаю, – шепотом отвечала Алисия.
– Днем, когда лучи солнца будут прозрачны, искупайся в них… – Эвелин прикрыла глаза, легкая тучка набежала на ее безмятежное лицо. – Ох, Алисия!
– Что, что с тобой?
– Вот там, смотри, неужели же ты не видишь? Там же стоит Любовь, и стан ее соткан из света!
Мудрые глаза ее спокойно глядели в темнеющее небо. Глянув вверх, Алисия ничего не увидела. А опустив взгляд вниз, поняла, что Эвелин тоже ничего больше не видит. Совсем ничего.
Далеко в лесу за забором звучали рыдания.
Алисия внимала им, потом закрыла глаза Эвелин. Медленно поднявшись, она направилась к дому, а за нею следовали рыдания – до самых дверей. И лишь за дверью она поняла, что и внутри нее все плачет.
Услыхав во дворе стук копыт, миссис Продд выглянула в окно кухни. В тусклом свете звезд она с трудом разглядела лошадь и телегу для перевозки камней, а рядом собственного мужа, который вел лошадь в поводу. «Ну, сейчас он у меня получит, – пробормотала она про себя, – бродит где-то по лесам… Я и ужин из-за него сожгла».
Но получить по заслугам Продду не удалось. Бросив один только взгляд на его широкое лицо, жена встревоженно спросила:
– Что случилось?
– Дай-ка одеяло.
– За каким…
– Живее. Тут парень раненый. В лесу подобрал. Будто медведь изжевал. Вся одежа – в клочья.
Она торопливо вынесла одеяло. Продд выхватил его прямо из рук и исчез в темноте. Через минуту он вернулся, неся через плечо худощавого юношу.
– Сюда, – проговорила миссис Продд, открывая дверь в Джекову комнату. Когда, удерживая обмякшее тело, Продд нерешительно остановился на пороге, она сказала:
– Шагай, шагай, не думай про грязь, вытру.
– Тряпок и горячей воды, – скомандовал Продд. Она отправилась исполнять, а фермер осторожно приоткрыл одеяло. – О, Боже!
Жену он остановил возле порога. – Кажись, до утра не протянет. Может, не мучить его… – он глянул на дымящийся таз в ее руках.
– Попробуем, – она шагнула в комнату и сразу застыла. Продд осторожно взял таз из рук побелевшей жены.
Он протянул до утра. А потом еще целую неделю, и тогда только Продд решил, что у парня еще есть надежда. Он лежал на спине в комнате, которую звали Джековой, ничем не интересовался и ничего не ощущал, кроме света, бившего в окна. Он лежал и смотрел, может быть, наблюдал за окружающим, но, скорее всего, нет. С постели и видеть-то было нечего. Дальние горы, несколько акров земли Продда, на которых время от времени появлялся и он сам: далекая фигурка, ковыряющая землю сломанной бороной. Внутренняя суть лежащего замкнулась в себе и, отдавшись скорби, безмолвствовала. Внешняя оболочка тоже съежилась. Когда миссис Продд приносила еду – яйца и теплое сладкое молоко, домашнюю ветчину и маисовые лепешки, – он ел, если она заставляла его, а если не настаивала, не обращал ни на женщину, ни на еду никакого внимания.
Вечерами Продд спрашивал:
– Ну, сказал что-нибудь? – и жена отрицательно качала головой.
Дней через десять ему пришла в голову мысль:
– Ма, как, по-твоему: он не чокнутый?
Она вознегодовала:
– Как это – чокнутый?
Продд оживленно затараторил, жестикулируя:
– Сама знаешь, – тронутый, умишком хилый, вот как. Не говорит, потому что не может.
– Нет! – уверенно отвечала она. И, заметив вопросительный взгляд Продда, добавила. – Посмотри в его глаза. Разве у тронутых такие?
Глаза-то и он успел заметить. Взгляд их смущал его.
– Все-таки хотелось бы, чтоб он заговорил, – заметил Продд. – Небось парень вляпался во что-то, о чем лучше не помнить.
Шли недели, раны зарастали, тело поглощало пищу, как кактус влагу. Никогда раньше в своей жизни не знал он отдыха, сытости и…
Она сидела возле него и говорила. Пела песни. Невысокая загорелая женщина с бесцветными волосами и выгоревшими глазами, охваченная голодом, подобным тому, что некогда терзал его. Она рассказывала застывшему, ни словом не отзывающемуся лицу, как ей жилось на востоке, о том, как Продд явился свататься на «Форде-Т» своего босса, не умея даже водить машину. Она рассказала ему обо всем, что еще было живо в ее памяти: о платье, которое было на ней в день конфирмации, – тут клинышек, там клинышек, а здесь бантик, о том, как муж сестры, в стельку пьяный, завалился домой: портки изорваны, под мышкой поросенок– да визжит, хоть затыкай уши. Она читала над ним молитвы и пересказывала по памяти Библию. Словом, выболтала все, что знала и помнила, но умолчала о Джеке.
Парень никогда не улыбался в ответ и не отвечал, только глаза его поворачивались к ней, едва она входила в комнату, прочее же время он терпеливо глядел на дверь. Трудно уразуметь, изменилось ли в нем что-то, но выздоравливало не только израненное тело.
Так и настал тот день – Продды сидели за ужином (сами они звали его обедом) – когда внутри Джековой комнаты послышались звуки. Обменявшись взглядом с женой, Продд приподнялся и распахнул дверь.
– Ну-ну, посиди, в таком виде нельзя выходить. Ма, брось-ка ему мою запасную робу.
Он был слаб и на ногах держался с трудом, но все же стоял. Ему помогли добраться до стула, он сел, тупо уставившись в одну точку пустыми глазами. Миссис Продд вывела его из этого состояния запахом пищи, поднеся под нос полную ложку. Взяв ее в свой широкий кулак, он втянул ложку в рот и поглядел на миссис Продд мимо ладони. Потрепав его по плечу, она сказала, что все прекрасно и он великолепно справляется с делом.
– Ну, Ма, что ж ты его за двухлетку считаешь?
– откликнулся Продд. Должно быть, эти глаза снова смутили его.
Она остановила мужа движением ладони. Все поняв, он не стал продолжать. Только ночью, когда он думал уже, что она спит, жена внезапно сказала:
– Да, Продд. Придется считать его двухлеткой. Хорошо, если не меньше.
– Как так?
– Начнем все с начала… Будто он малыш, – ответила жена.
Муж притих и после долгих раздумий спросил:
– А как назовем?
– Только не Джеком! – встрепенулась она.
Он согласно буркнул, не зная, что и сказать.
– Подумаем еще, – проговорила она, – у него ведь наверняка есть имя. Зачем ему новое? Придется подождать. Он вернется и вспомнит его.
А потом пошли чудеса.
Однажды Продд с трудом вытаскивал из амбара длинный брус двенадцать на двенадцать, а с другого конца его подхватили две сильные руки. В другой раз парень, заметив возле насоса полное ведро, занес воду в дом. Впрочем, орудовать рукояткой насоса он обучился не скоро.
Когда он прожил у них ровно год, миссис Продд припомнила дату и испекла пирог. Повинуясь какому-то порыву, она воткнула в него четыре свечи. Продды, сияя, глядели на своего подопечного, а он не отводил взгляда от четырех язычков пламени. Странные глаза эти вдруг притянули сперва ее, а потом и Продда.
– А ну, задуй-ка, сынок.
Он все понял и, нагнув голову, дунул. Смеясь от радости, они окружили его. Продд похлопал его по плечу, а миссис Продд поцеловала в щеку.
Что-то повернулось в нем. Мерзлое горе растаяло и хлынуло потоком: он заплакал.
Такие же громкие рыдания год назад навели на него Продда в сумраке леса. Обхватив руками его голову, миссис Продд принялась ворковать, утешая односложными звуками. Появившийся возле Продд нерешительно потянулся к его волосам, но потом передумал, ограничившись растерянным:
– Ну, ну… ну же.
Наконец рыдания прекратились. Он озирался, хлюпая носом, что-то новое появилось в его лице. Словно исчезла маска, на которую была натянута кожа лица.
В тот вечер, рыдая, он осознал, что способен, если захочет, понять тех, кто окружает его. Подобное случалось и прежде – налетало, как дуновение ветра. И он принялся вертеть и крутить это знание перед внутренним взором. Звуки, именуемые речью, пока ничего не значили для него, но он уже научился выделять слова, что были обращены к нему, отличать их от тех, которые его не касались. Он так и не научился слушать других: понятия сами собой вползали в его голову и были настолько неясны, что облекать их в слова он учился с большим трудом.
– Как тебя звать-то? – однажды спросил его Продд. Они как раз переливали воду из цистерны в поилку, и вид бьющей струи приворожил идиота. Вопрос вырвал его из глубин созерцания. Подняв глаза, он встретился взглядом с Проддом.
Имя. Сущность. Имя и есть я, все, что я делал, чем был и что узнал.
И все это было где-то близко, ожидая единого символа – имени. Все скитания, голод, потеря и то, что хуже потери…
Все один.
Он попытался выразить это словами. Концепцию и лексику он почерпнул у Продда, а заодно и произношение. Но понять – одно, осмыслить – другое, а физически выговорить звуки – третье. Окостенелый язык его шевельнулся сапожной подметкой, гортань задудела заржавелым свистком. Губы задергались.
– Всс, вс…
– Что, сынок?
Все один. Он сформулировал мысль ясно и четко, но выразить ее никак не мог.
– Вс-вс… о… один, – наконец выдавил он.
– Дин? – переспросил Продд.
Слог этот что-то говорил фермеру, он услышал в нем нечто знакомое, пусть и не то, что было в него вложено.
Идиот попытался повторить звук, но косный язык словно окаменел. Он отчаянно звал на помощь, просил подсказки…
– Дин, – повторил Продд.
Он кивнул в ответ: это было и первое его слово, и первый разговор – еще одно чудо.
Разговаривать он учился пять лет, но все же предпочитал обходиться без речи. А научиться читать так и не смог.
Запах дезинфекции будил в Джерри Томпсоне чувства голода и одиночества. Этот запах пропитывал даже пищу и сон – сыростью, холодом, страхом, всем, из чего рождается ненависть. К шести годам Джерри успел уже сделаться мужчиной, во всяком случае по-мужски привыкнуть к тому серенькому довольству, возникающему, когда тебя никто не трогает. Со стороны терпение его казалось несокрушимым, как у тех целеустремленных людей, что выглядят рассеянными, пока не настанет время решать. Джерри повидал в свои годы достаточно, чтобы стать мужчиной. В шесть он уже научился принимать судьбу, покоряться ей, ждать и надеяться. Так он прожил еще два года и наконец решился.
Тогда он и убежал из сиротского дома жить среди сточных канав и мусора, оскаливаться, когда загоняют в угол, и ненавидеть.
Ну а Гип не знал голода, холода и раннего взросления. Для него дезинфекция пахла одной только ненавистью. Запах этот окружал его отца, его ловкие и безжалостные руки врача. Гипу казалось, что даже голос доктора Бэрроуза источает запах карболки и хлорки.
Гип Бэрроуз был способным мальчишкой, только мир не захотел стать для него прямым коридором, выложенным стерильным кафелем. Все ему давалось легко, кроме власти над собственным любопытством.
Уже с детства способности Гипа обещали развиться быстро и ярко, словно взлетающая ракета, даровав ему все, о чем может мечтать мальчишка. Но воспитание вечно усматривало в подобной легкости нечто вроде кражи: дескать, все ему достается вовсе не по заслугам… Так повторял его отец, доктор: ведь он-то тяжким трудом добивался успеха.
Свой первый радиоприемник Гип соорудил лет, кажется, в восемь. Детекторный, даже катушки для него он наматывал сам. Чтобы не заметили, Гип запрятал его между пружинами матраса, там же скрыл наушники, чтобы ночью можно было послушать. Но отец его, доктор, нашел тайник и немедленно запретил мальчику даже прикасаться ко всяким проволокам и проводам. Ну а в девять лет отец его, доктор, добрался до припрятанных учебников и журналов по радио и, свалив их в кучу перед камином, целый вечер торжественно сжигал книги одну за другой. В двенадцать Гип добился права учиться в техническом колледже – за тайно изготовленный осциллограф без электродной трубки. Отец его, доктор, сам продиктовал мальчику текст отказа. В пятнадцать лет Гипа с треском выгнали из медицинского колледжа – так блистательно он сумел перепутать переключатели в лифтах, а, добавив несколько поперечных связей, добился, чтобы всякая поездка заканчивалась в абсолютно непредсказуемом месте. В шестнадцать, к обоюдному удовольствию порвав с отцом, он уже зарабатывал на жизнь в исследовательской лаборатории и занимался в политехническом колледже.
Рослого и талантливого парня все знали – он просто рвался к известности и легко добился ее, как бывало всегда, когда он чего-то хотел. Над клавишами пианино руки его становились удивительно невесомыми, комбинации в шахматах отличались изяществом и быстротой. Пришлось овладеть искусством проигрывать: за шахматной доской, на теннисном корте и в сложной игре, именуемой «первый в классе, первый в школе». Времени хватало на все: говорить, читать, удивляться, слушать тех, кто понимал его. И на то, чтобы перелагать иным слогом всякое педантичное занудство, непереносимое в оригинале. Нашлось время и для радарных систем, а раз так – он и попал на эту работу.
В ВВС жилось иначе, чем в гражданском колледже. Он не сразу уразумел, что полковника смирением не умилостивить и не подкупить остроумием, как декана, властвующего над простыми смертными. Еще ему пришлось постигать, что на военной службе яркая речь, физическое совершенство и легкий успех считаются недостатками, а не достоинствами. И вдруг оказалось, что он остался один.
Свое успокоение, мечты и несчастье он обрел в службе дальнего обнаружения самолетов.
Алисия Кью стояла в глубочайшей тени у края лужайки.
– Отец, отец, прости меня! – простонала она, в муках опускаясь на траву, – слепая от горя и ужаса.
– Я ушла далеко, – томилась она, – я все там же… Как тогда я кинулась прочь от старого Джейкобса, доброго Джейкобса, адвоката, явившегося, чтобы помочь. Ох, как я бежала тогда, чтобы не остаться наедине с ним. Потом он привел с собой жену, а я бежала и от нее – ведь женщины тоже злы… Не скоро я поняла, как добра, как терпелива была со мной матушка Джейкобс, сколько сделала она ради меня же самой. «Детка, таких платьев не носят уже лет сорок!» А потом в автобусе я визжала от страха и не могла умолкнуть. Кругом были люди, они все спешили. Тела, много тел, открытых взгляду и прикосновению, тела на улицах, лестницах, картинки с телами в журналах, а на них мужчины, а в их объятиях женщины. Отец! Ведь это из-за тебя я не знала ни автомобиля, ни собственной груди, ни газет, ни железной дороги, ни гигиенических пакетов, ни поцелуя, ни ресторана, ни лифта, ни купального костюма, ни волос на… ох, прости меня, отец!








