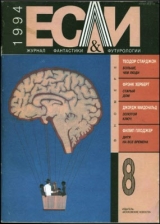
Текст книги "Журнал «Если», 1994 № 08"
Автор книги: Фрэнк Патрик Герберт
Соавторы: Теодор Гамильтон Старджон,Валентин Берестов,Александр Силецкий,Джордж МакДональд,Лев Корнешов,Илья Борич,Маргарита Шурко,Андрей Бугаенко,Филип Плоджер,Ольга Караванова
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 17 страниц)
– Джейни, а почему я еще ни разу не поцеловал тебя?
Девушка замерла. В глазах ее засветилась нежность, радость… и что-то еще. Она засмеялась.
– Не хотелось бы, чтобы ты возомнил о себе, но ты просто чудо. – Тут она отвернулась от него, и лампа с кофеваркой вспорхнули и вернулись на свои места. Уже у двери она обернулась:
– Не медли! – И исчезла.
Они постояли на дороге, пока такси не отъехало, а потом Джейни первая углубилась в лес. Ветви высоких деревьев сплетались так густо, что подлесок не рос под ними.
Они долго шли по направлению к замшелому утесу, пока Гип не сообразил, что перед ними не утес, а стена, простирающаяся, быть может, на сотню ярдов в обе стороны. Гип увидел массивную железную дверь. Когда они приблизились, за нею что-то звякнуло и тяжело отодвинулось. Он поглядел на Джейни и понял: это сделала она.
Ворота отворились и закрылись за ними. Они оказались на дорожке, выложенной кирпичом. Дорожка сделала всего два поворота. За первым исчезла стена, а еще через четверть мили они увидели дом.
Он был слишком низок и чересчур широк. Крыша поднималась холмом – не шпилем и не треугольником. Стены тяжелые, серо-зеленые: ни дать ни взять тюрьма.
– И мне не нравится, – вторя его мыслям, согласилась Джейни.
Кто-то прятался за стволом огромного узловатого дуба возле дома.
– Подожди, Гип, – Джейни торопливо подошла к дереву и с кем-то заговорила. Он слышал ее голос: «Вы что, смерти моей добиваетесь?»
Вернувшись, Джейни пояснила:
– Это Бини, вы с ней еще встретитесь. Потом.
Тяжелая дубовая дверь отворилась сама собой, безмолвно и легко. Они вошли, и дверь захлопнулась с низким гулом.
Паркетные плитки, темно-желтые и буро-серые, образовывали гипнотический звездчатый узор, который повторялся и на обивке мебели, либо привинченной к полу, либо такой тяжелой, что ее никогда не сдвигали с места. Было прохладно, но не слишком влажно, и потолок, пожалуй, нависал чересчур низко. «Я иду, – думал он, – прямо в пасть чудовища».
Из прихожей они направились вдоль коридора, казавшегося удивительно длинным из-за странного свода стен, создававшего немыслимую ложную перспективу.
– Все хорошо, – успокоила его Джейни тихим голосом. Он растянул рот, пытаясь изобразить улыбку и, не сумев этого сделать, вытер холодный пот с верхней губы.
Возле одной из дверей они остановились.
Джейни прикоснулась к его плечу, то ли в знак близости, то ли подталкивая ко входу.
Гип шагнул внутрь и охнул. Он оказался словно в огромной оранжерее: гигантский стеклянный купол над головой, каскады фонтанов на зеленой лужайке. Неожиданное великолепие ошеломляло.
Гип увидел приближающегося к нему мужчину. Быстро шагнул вперед – не навстречу, но чтобы оказаться подальше от Джейни, на случай каких-либо непредвиденных обстоятельств. А схватка непременно должна была произойти, он знал это.
– Ну, лейтенант, хотя меня и предупредили, не могу скрыть – искренне удивлен.
– А я нет, – с вызовом парировал Гип. К его удивлению, голос слушался. – Все эти семь лет я знал, что отыщу вас.
– Боже! – изумился Томпсон. Через плечо Гипа он бросил: – Извини меня, Джейни. Я не верил тебе до этой самой минуты. – И уже обращаясь к Гипу, добавил. – У вас удивительная способность к выживанию.
– Что ж, хомо сапиенс – зверь крепкий, – отвечал Гип.
Томпсон снял очки. Под ними прятались большие круглые глаза, отливающие молочно-белым светом телеэкрана и пронзительно черными, цепкими зрачками. Казалось, еще минута – и они закружатся, вовлекая все вокруг в свою глубину.
Кто-то внутри произнес:
– Не смотри в них, и все будет в порядке.
Гип услышал голос позади себя:
– Джерри!
Гип обернулся. Джейни поднесла руку ко рту, и небольшой стеклянный цилиндрик оказался между ее зубов. Она сказала:
– Джерри, я предупреждала тебя. Ты знаешь, что это такое. Только тронь Гипа, и я немедленно раскушу эту штуку. Тогда до конца дней своих можешь жить с Малышом и близнецами, как мартышка в клетке с белками.
«Хотелось бы увидеть этого Малыша», – успел подумать Гип.
Томпсон застыл на месте, остановив взгляд на Джейни. Однако слова он обратил к Гипу.
– Малыш вам не понравится.
– Не имеет значения. Я хочу задать ему вопрос.
– Никто, кроме меня, не задает ему вопросов. Вы ведь рассчитываете на ответ?
– Да.
Томпсон расхохотался:
– В наше-то время на что-то надеяться!
Джейни тихо позвала:
– Поглядй сюда, Гип.
Он обернулся. Теперь он затылком ощущал скрытое напряжение. Так, должно быть, чувствовали себя люди, повернувшиеся спиной к Горгоне.
Следом за Джейни он пересек комнату. В нише стены, покачивалась колыбель величиной с добрую ванну.
– Продолжай, – проговорила Джейни. На каждом слоге живой цилиндр подергивался.
– Да, продолжай, – голос Томпсона раздался так близко, что Гип вздрогнул: он не услышал звука приближающихся шагов.
Сглотнув, Гип обратился к Джейни:
– Что я должен сделать?
– Просто в уме сформулируй вопрос. Возможно, он уловит его. Насколько я знаю, он слышит всех.
Гип склонился над колыбелью. Тусклые черные глаза… словно носки запыленных ботинок приковывали взгляд. Он подумал: «Прежде у вашего Homo gestalt была другая воля. Ваш «симбиоз» может использовать разных телекинетиков, теле-портеров. Малыш, а тебя заменить можно?»
– Он отвечает – да, – проговорила Джейни, – тем маленьким грубияном с огрызком кукурузного початка… помнишь его?
Гип медленно повернулся к Джейни. Мысль приближалась…
Если Малыш – сердце, ядро, эго и память нового существа… если даже Малыш может быть замещен, значит Homo gestalt бессмертен.
Джейни охнула, отозвавшись на его мысль.
А Томпсон с расстановкой проговорил:
– Совершенно верно. Замещен может быть не только Малыш. Так что заканчивай свою драму, Джейни. Ты больше мне не нужна.
– Гип! Беги! Беги!
Глаза Томпсона обратились к Гипу:
– Нет! – тоном приказа отрезал он.
Зрачки его уже собирались закружиться, словно колеса, словно винты самолета, словно…
Гип услышал, как взвизгнула Джейни. Потом послышался хруст. Взгляд исчез.
Прикрыв глаза ладонью, Гип отшатнулся. Слышалось неразборчивое бормотание.
Бормотала темнокожая девушка, обнаженной мускулистой рукой поддерживавшая Джейни. Та готова была осесть на пол.
– Джейни! – взревел он. – Бони, Бини, – как вас там, – неужели она…
Девушка, поддерживавшая Джейни, вновь забормотала. Джейни подняла глаза, перевела изумленный взгляд на Гипа. А потом на Джерри Томпсона. Тот с жалким видом скрючился в углу.
И Джейни улыбнулась.
Девушка, что была с ней, тронула рукав Гипа. Указала на пол. Раздавленный цилиндрик валялся под ногами, легкое пятнышко жидкости таяло на глазах. Джейни бросилась в объятия Гипа:
– А Джерри… он?..
– Жив… Пока.
– Ты убьешь его? Не делай этого! – прошептала Джейни.
– Бони! – позвал Гип.
– Хо.
– Принеси мне нож… Острый и длинный. И полоску ткани…
Джейни в панике вскрикнула:
– Бони, не надо…
Та исчезла. Гип попросил:
– Оставь нас с ним вдвоем. Ненадолго.
Джейни открыла было рот, но внезапно повернулась и выбежала из оранжереи. Бини просто испарилась.
Бони вошла через дверь. В руках она держала полоску черного бархата и кинжал с клинком длиной дюймов одиннадцати. Глаза ее необычайно округлились, рот, напротив, сжался в точку.
– Спасибо, Бони, – он взял нож. Роскошная финка – остра, словно бритва.
– Бони!
И она вылетела из комнаты, как вишневая косточка из пальцев. Гип подтащил Томпсона к креслу, огляделся, заметил шнурок от звонка и сорвал его. Он привязал руки и ноги Томпсона к креслу, откинул назад его голову и затянул на глазах повязку.
Потом пододвинул еще одно кресло, уселся в него. И принялся покачивать рукою с ножом. Он ждал. И думал, пытаясь пробиться к Джерри.
Слушай меня, мальчик, слушай, сирота. Тебя ненавидели, гнали… Так было и со мной.
Слушай меня, мальчик из пещеры. Ты нашел укромный уголок и был счастлив в нем. Так было и со мной.
Слушай меня, мальчик мисс Кью. На годы ты забыл самого себя, а потом вернулся, чтобы обрести себя заново. Так было и со мной.
Слушай меня, мальчик, Homo gestalt. Ты обрел в себе силу, что превыше любых мечтаний, ты пользовался ею и наслаждался. Так было и со мной.
Слушай меня, Джерри. Ты узнал, что, как бы велика ни была твоя мощь, она никому не нужна. Так было и со мной.
Ты хочешь быть желанным. Ты хочешь быть нужным. И я тоже.
Джейни говорит, вы нуждаетесь в морали. Но это понятие не применимо к вам. Вы не можете воспользоваться правилами, установленными теми, кто подобен вам, – таких не существует. И ты не простой человек, так что мораль обычных людей не применила к тебе. Так человеку бесполезен моральный кодекс муравьиной кучи.
Поэтому ты никому не нужен, и ты – чудовище.
И я не был нужен обществу, покуда оставался чудовищем.
Но, Джерри, есть свод заповедей и для тебя. Свод, который требует веры, а потом повиновения. Зовется он этикой.
Этот кодекс позволяет выжить. Суть его в уважении к прошлому и вере в будущее. Обратись к потоку, который дал тебе жизнь, и, когда наступит время, сам породишь нечто большее.
Помоги человечеству, Джерри, оно тебе и отец, и мать – ты ведь не знаешь своих родителей. И человечество породит подобных тебе, и ты больше не будешь один. Помоги им взрасти, помоги им выстоять – и ваш род умножится. Ведь ты же бессмертен, Джерри. Бессмертен уже теперь. И когда вас станет много, твоя этика сделается их моралью.
Я был чудовищем, но я познал законы морали. Ты тоже чудовище. И дело лишь за твоим решением.
Джерри пошевелился.
Гип Бэрроуз замер.
Джерри застонал и слабо закашлялся. Ладонью левой руки Гип откинул назад вялую голову. И приставил острие ножа прямо к горлу Джерри.
Тот неразборчиво забормотал. Гип проговорил:
– Не дергайся, Джерри. – Он легко надавил на нож, тот промял кожу глубже, чем этого хотел Гип: отличный нож.
Губы Джерри улыбались – их растягивали напряженные мышцы шеи. Дыхание, свистя, пробивалось снова сквозь напряженную улыбку.
– Что ты собираешься сделать?
– А что бы ты сделал на моем месте?
– Снял бы повязку. Я ничего не вижу.
– Все, что необходимо, ты увидишь.
– Бэрроуз, освободи меня. Я тебе не причиню вреда. Обещаю. Я ведь многому могу научить тебя, Бэрроуз.
– Убить чудовище – дело, отвечающее нормам морали, – заметил Гип. – А скажи-ка мне, Джерри. Правда ли, что ты можешь прочесть все мысли человека, заглянув в его глаза?
– Отпусти меня, отпусти, – пробормотал Джерри.
Повязка упала, оставив одно изумление в этих странных круглых глазах. Достаточное, куда более достаточное, чтобы прогнать всякую ненависть. Гип бросил нож, звякнувший об пол. Удивленные глаза последовали за ним, вернулись… Зрачки готовы были уже закружиться.
– Ну, – тихо проговорил Гип.
Не скоро Джерри вновь поднял голову и встретился с Гипом глазами.
– Привет, – проговорил Гип.
Джерри вяло поглядел на него:
– Убирайся ко всем чертям, – пробормотал он.
Гип неподвижно сидел.
– Я мог бы убить тебя, – проговорил Джерри. Он открыл глаза пошире, – мне и сейчас нетрудно это сделать.
– Ты же не стал убивать, – Гип поднялся, нагнулся к ножу и подобрал его. Потом вернулся к Джерри и перерезал путы. Затем снова сел.
Джерри проговорил:
– Никто… никогда… – он покачал головой и глубоко вздохнул. – Мне стыдно, – прошептал он. – Никто еще не заставлял меня почувствовать стыд. – Он поглядел на Гипа, и изумление вновь вернулось в его глаза. – Я знаю так много. Могу разузнать все обо всем. Но я никогда… как тебе удалось все это обнаружить?
– Я попался так же, как и ты, – отвечал Гип.
– Этика не набор фактов. Это образ мышления.
– Боже, – проговорил Джерри, пряча лицо в ладонях. – Что я наделал… а что мог бы сделать.
– Что можешь сделать, – мягко поправил его Гип. – Ты уже расплатился за прежнее.
Джерри оглядел огромную стеклянную комнату и все, что стояло в ней, – массивное, дорогое, богатое:
– В самом деле?
Гип поднялся:
– Схожу-ка лучше к Джейни. Она боялась, как бы я тебя не убил.
Джерри молчал, пока Гип не оказался возле двери. А потом произнес:
– Не уверен, кажется, все же убил.
Гип вышел.
Джейни с близнецами сидели в крохотной прихожей. Когда Гип вошел, Джейни шевельнула головой, и близнецы исчезли.
Гип проговорил:
– Я хотел, чтобы и они знали.
– Говори, – отвечала Джейни, – они и так узнают.
Он сел возле нее. Джейни сказала:
– Так ты его не убил…
– Теперь с ним все будет в порядке, – отвечал Гип, поглядев ей в глаза. – Ему стало стыдно.
Она, словно в шаль, закуталась в мысли.
– Вот и все, что я мог сделать. А теперь я ухожу, – он глубоко вздохнул. – Много дел. Надо разыскать пенсионные чеки. Подыскать работу.
– Гип…
– Да, Джейни.
– Не уходи.
– Я не могу остаться.
– Почему?
– Я не могу стать частью вашего целого.
Она проговорила:
– У Homo gestalt есть и руки, и голова, и воля. Но человека человеком делает то, чему он выучился, чем обладает. В раннем детстве этого не приобретешь, такое случается после долгих проб и ошибок. И становится частью его самого до конца дней.
– Не знаю, что ты хочешь сказать. Ты имеешь в виду, что я могу стать частью?.. Нет, Джейни, нет, – от ее улыбки нельзя было укрыться. – Так какой же частью? – озадаченно спросил он.
– Будешь докучливым надоедалой, напоминающим о правилах хорошего тона, – знатоком этики, способным преобразить ее в привычную мораль.
Не было испуга, только радость, и в Джерри перетекали токи, улыбки, блаженство, и он отвечал, не ведая страха. А над всем этим только: «здравствуй, здравствуй».
Все они были молоды, пусть и не столь юны, как сам Джерри. И молодость эта ощущалась в силе и упругости мысли. Да, воспоминания кое-кого из них человеку показались бы довольно необычными, но, с точки зрения вечности, они были юны и бессмертны.
Был среди них и тот, кто напевал мелодии папаше Гайдну, и тот, кто представил Уильяма Морриса семейству Россетти. И словно сам Джерри увидел Ферми, склоняющегося над следом, оставленным на фотопластинке делящимся ядром, и девочку Ландовскую, слушающую клавикорды, задремавшего Форда, которому снятся люди возле поточной линии.
Задать вопрос значило получить ответ.
– Кто ты?
И Джерри увидел себя атомом во Вселенной, а свой Gestalt – молекулой. А рядом другие, другие… атомы, молекулы, клетки, слившиеся в нечто огромное, непостижимое – чем должно еще только стать человечество.
И он почувствовал трепет и благодарность – все-таки человеку еще будет за что уважать себя.
И он простер руки, и слезы хлынули из его странных глаз.
– Спасибо, – вымолвил он. Спасибо, спасибо.
И в смирении занял предуготованное ему в мире место.
Перевел с английского Юрий СОКОЛОВ
Андрей Бугаенко
НЕ НАСТУПАЙТЕ НА ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Сложный и неоднозначный роман Т. Старджона, вызвавший массу прямо противоположных трактовок в американской прессе естественно, не сводится к одной идее.
Для комментария редакция журнала решила выбрать тему социализации личности, явственно звучащую в романе.
Некий «сверхколлектив», представляющий собою единый организм, мучительно ищет самоопределения.
Отрицая мораль, отторгая социальные функции, он тем самым оказывается в одиночестве, что ставит его на грань гибели.
Причем корни проблем, как это водится у автора, уходят в детство.
Мы обратились к психологу, специалисту по проблемам общения детей с просьбой рассказать о том, как в действительности происходит становление «человека общественного».
Человек родился. С какого момента его можно считать социальным существом? Еще в 1934 году эксперименты Шарлотты Бюлер определили, что первая социальная реакция – улыбка – появляется, когда ребенку исполняется 20 дней. Затем следуют «комплекс оживления», «гуление», первые слова. Примерно с того же времени появляется опасность «госпитализма» (это устоявшийся термин), ребенок, оказавшийся с рождения вне общения со взрослыми, может погибнуть, даже если за ним ухаживают.
Для участия ребенка в коллективной деятельности требуется, чтобы его можно было чувствовать – «читать»; ребенок должен выражать знаки эмоций. Можно ли представить группу абсолютно непредсказуемых людей? Нет, каждый из них будет одиночкой в чужом ему мире. Чтобы общаться, человек должен быть предсказуем для других.
Эмоции у ребенка возникают постепенно. Сначала они просты: удовольствие-неудовольствие – от мокрых пеленок или сытого животика, оживление. После 2–2,5 месяцев появляется способность выражать радость при появлении близких. До полугода в арсенале младенца 2–3 эмоции. Замечено, что примерно в 9 месяцев малышу «нравится» наползать на сверстника – он делает это, чтобы услышать крик. Такие чувства, как удивление или испуг, возникают только к году. И лишь позднее появляется «отвращение» – подбородок приподнят, голова повернута на три четверти оборота, взгляд сверху вниз. Идет постоянное нарастание числа эмоций.
Но схожие чувства переживают и другие высшие млекопитающие. И если бы развитие шло и дальше таким линейным путем, то получали бы мы удивительно «читаемых» людей. Однако появляется «ехидная улыбка», и мы теряемся – радость это или знак чего-то еще?
С громадным отставанием от эмоционального развития у детей формируется умение пользоваться знаками своих чувств, появляется мимика и пантомима. И эта линия направлена как раз на то, чтобы избежать чрезмерной предсказуемости. Каждый ребенок одновременно и социален, и асоциален. Не зря же существует утверждение, что нельзя сказать правды, не научившись врать. Возьмем «картинку радости» – что это, отражение реального чувства или ширма? Или: «Ха-ха-ха, а мне не больно – курица довольна!» Подобная формула может скрывать и обиду, и презрение, и радость, и боль. Но она не всегда может быть «прочитана», и это – путь социального развития. Кстати, у Конрада Лоренца в книге «Человек находит друга» отмечено, что чуть ли не самым сложным для дрессировщика материалом являются медведи. Эти одиночные по своей природе звери не «читаются». Они могут испытывать боль или ярость, но при этом не возникает «картинки» в виде прижатых, например, ушей.
«Читаемость» делает человека более комфортным для окружающих, они знают, чего от него ждать. Но, с другой стороны, легко предсказуемый человек – объект для манипуляций, его можно вести за собой, как овцу…
Итак, ребенок попадает в детский сад сразу из семьи. Сначала он автоматически становится «изгоем». И чем больше стаж группы, тем сильнее отторжение. Мальчик или девочка активно наблюдает за новой для него жизнью коллектива и, конечно, постоянно вступает в мелкие конфликты. Ребенок берет то, что ему разрешалось брать дома, и сталкивается с «категорией собственности». Нарушает по незнанию правила и условия игр. Тогда начинается крайне болезненный адаптационный синдром, и на 6—9-й день это может вылиться в ОРЗ, температуру, отказ от пищи, истерику. Адаптация средней тяжести, по медицинской терминологии, длится около трех месяцев. Если взрослые помогают – процесс включения будет не таким болезненным.
«Изгоем» быть гораздо дискомфортнее, чем «отрицательным» лидером. Обычно все кончается тем, что родители под разными предлогами забирают детей-«изгоев» из группы. А отрицательный лидер либо перейдет в том же качестве в школу, либо станет положительным. На лидерство сильное влияние оказывает возраст. В садиках даже отрыв в полгода дает ребенку огромные преимущества. В одной группе была девочка примерно на год старше остальных – больше всех, громче всех кричала и, естественно, «делала погоду». А младшие оказались «изгоями» – их не любили, с ними не играли. Младшие всегда беднее в социальном плане, им отводится роль «серой мышки».
Физические дефекты в детской среде не влияют на общение. В одну группу ходила девочка с ужасно обожженной рукой, взрослые просто вздрагивали, но дети на это совсем не обращали внимания. Не принимают в расчет дети и критерии материального достатка, скажем, как одет их сверстник. Напротив, если ребенок пришел с установкой играть только с хорошо одетыми, это оборачивается для него отторжением.
Я считаю, что для ребенка в общении ключевыми являются не слова, а «экстралингвистические» элементы – дистанция, интонация, касание, «контакт глаз». Они значимы и для взрослых, но для детей играют решающую роль.
Иногда мы фиксируем, что человек нам неприятен, но объяснить почему, не можем. А дело в нарушении нашего персонального пространства. Попробуйте в метро достаточно долго смотреть на ботинок своего соседа, и вы увидите, как спустя некоторое время тот начнет испытывать явный дискомфорт, озираться и пытаться понять, что случилось. То же вы чувствуете, когда случайный собеседник начинает крутить пуговицу на вашем пиджаке, или если он держится к вам ближе, чем на 15–20 сантиметров. А верх административного садизма, который часто используют начальники, – «наступить» на персональное пространство подчиненного, чтобы заставить его почувствовать свою уязвимость.
Дети проигрывают взрослые ситуации и впитывают социо-культурные стереотипы. Это можно понять на примере детской литературы: с возрастом она для ребенка меняется. Сначала его интересуют традиционные сказки, где присутствует только действие вполне статичных героев: хороший – спас, плохой – съел. Затем появляется авторская сказка, а с нею – характеры. Например, нарциссизм Мэри Поппинс, хвастовство Незнайки и Карлсона. Этот переход связан с большим вниманием друг к другу. И в игры также начинает входить акцентуированное поведение. Бармалей, в отличие от Чуда-Юда, обладает не абстрактным характером, и ребенок в игре начинает сравнивать поведение людей.
У детей нет инструментов анализа, они не могут отличить искусство от реалий. И потому то, что они видят на экране телевизора, проецируется на действительность. Одна из главных проблем сегодня – социо-культурные эталоны поведения. Раньше их источником выступали окружающие люди различных профессий. Сегодня – это телевидение, кино, реклама. Эталоном становится вид диктора, героя, политика, над которым поработала целая бригада. То есть эталон заведомо завышен. Помните, у Курта Воннегута в «Завтраке для чемпиона» на некоей планете, перед тем как начать ее завоевание, сформировали недостижимый эталон. И вторжение прошло безукоризненно. Усиление избыточности эталонов снижает приспособленность человека к жизни. Известна масса случаев, когда девочки доводили себя диетой до полного истощения. Важно, чтобы дети научились воспринимать дикторов ~ как дикторов, актеров – как актеров.
Интересен в этом смысле пример одного из кумиров современной молодежи – Арнольда Шварценеггера. В написанной им недавно книге он раскрывает себя (психологу это хорошо видно) как полную противоположность тому образу решительного, не знающего сомнений супермена, которым он завоевал кинозрителя. По своему складу «железный» Шварценеггер – психастеник, болезненно переживающий необходимость принятия решений и их последствия, компенсирующий свою слабость жизнью по правилам: диетой и строгим режимом дня.
Как и у взрослых, в детской среде выделяются различные социальные типы. Когда их спрашиваешь: «Кого бы ты хотел пригласить на свой день рождения, а кого – не пустишь?», выясняется, что выделение негативного лидера происходит гораздо чаще, чем положительного. «Козел отпущения» есть практически в любой детской группе. Впрочем, кого любят – не любят в дошкольных коллективах зависит в первую очередь от взрослых, воспитателей. Кому не знакома сцена: нервная дамочка распекает нашалившего ребенка, при этом концентрируя на нем внимание всей группы. Помню такой пример: пятилетний полненький малыш потерял свои спортивные трусики. И воспитательница стала его высмеивать. Естественно, вслед за ней стали смеяться все дети. Мальчик минут сорок ни с кем не мог общаться. Когда дети забыли про инцидент, он тихо, как мышка, подошел к огромному дворцу, возведенному из строительного набора коллективными усилиями всех ребят, и вынул нижний «кирпичик». Постройка рухнула. Дети всегда знают, как можно ответить…
Реальный лидер в детской группе всегда более активен, бодр, менее утомляем. Он лучше всех владеет определенной деятельностью, например, играми с правилами. В школе он обладает большим объемом знаний о мире взрослых. Механизм лидерства осуществляется через возможность лучше всех вписаться в действующую в данном коллективе систему ценностей. Занятно, но яркие дети, как правило, не лидеры – они сами по себе.
Существует целая типология лидеров. Любой лидер – это в некотором смысле манипулятор, способный, воздействуя на отдельных людей, менять ситуацию в коллективе в ту или иную сторону. Лидер-«звезда» реализует себя через соответствие неким эталонам, его влияние пропорционально количеству «поглаживаний», которые он выделяет члену группы – обращение по имени, знание личных качеств. Лидер-«диктатор», «босс» раздает приказы окружающим, преувеличивая собственную силу. Лидер-«калькулятор» жестко контролирует любую деятельность товарищей, обосновывая это общими интересами. «Хулиган» преувеличивает свою агрессивность и жестокость. «Судья» всех критикует, никому не верит и таким образом поднимается над всеми. «Славный парень» демонстрирует свою заботливость, внимательность, любовь к окружающим – и может убить всех своей добротой. В детской среде могут встретиться также «дельцы», «аферисты», «шантажисты», «настоятельницы» и многие другие типажи.
Детский коллектив отличается от взрослого в первую очередь менее устойчивой структурой, подвижностью иерархии отношений, хотя в обоих вариантах имеются «звезды», лидеры, отверженные. У детей их «роли» не столь жестко соблюдаются. Достаточно неделю не походить в сад даже всеми любимому лидеру – и его уже не помнят. Другое дело, если дети старше 2,5 лет долгое время находятся вместе, у них возникают единые установки, общие поведенческие нормы. Кстати, это может иметь продолжение и во взрослой жизни: например, подмечено, что бизнесмены предпочитают доверять деньги тем, с кем у них было общее детство.
Отличает детский коллектив и особая «мораль»: их поступки часто совершенно не укладываются в схему «плохой – хороший» и трудно объяснимы с точки зрения взрослого. Понять, какой направленности было то или иное действие, можно лишь зная детский контекст поступка. Существует довольно жесткий психологический тест для определения моральной устойчивости ребенка. Хотя в большей степени тест применим для школьного возраста, тем не менее обладает хорошей иллюстративностью. Ребенка в доверительной беседе спрашивают: «Если тебе известно, кто разбил окно, ты скажешь об этом учителю?» (А. При этом гарантируется полная тайна исповеди. Б. Об этом сообщается виновному. В. Об этом будет знать весь коллектив.) В случае, если ребенок дает один и тот же ответ (не важно «да» или «нет») во всех трех ситуациях, с ним все в порядке. А вот если ответ начинает меняться в зависимости от ситуации – это уже плохо. У ребенка «плавающая» мораль. Это мощный симптом а социальности – в будущем ему будет трудновато…
И конечно, всех нас волнует, что ожидает наших детей в будущем? С одной стороны, их, детей, в России становится все меньше. И в ближайшее время эта демографическая тенденция вряд ли изменится. С другой – за последние две тысячи лет, прошедших со времен Петрония, с точки зрения психологии, люди и дети почти не изменились. Помните: «А вот скажу тебе, хороший растет у меня мальчишка, уже цифры знает…» Так же, как и прежде, человек изменяет мир, вместо того чтобы приспосабливать себя к нему. Исчез однонаправленный идеологический прессинг. Взамен ему пришло давление материальное. Постоянно возникает ощущение, что мы живем в какой-то «крысиной гонке» – бизнес, реклама, карьера, деньги, вещи. Но вспомним: когда устраивают спортивные состязания среди трехлетних малышей, тот, кто бежит первым, обязательно обернется и подождет остальных. Ему неинтересно быть победителем в одиночку…
Я Гусеница! – представилась Гусеница.
– А я Крокодил!
– Ты не Крокодил, а Крокодильчик, – уточнила Гусеница.
– Неужели это так важно? – удивился Крокодильчик.
– Очень важно! – ответила Гусеница. – Например, я пока не бабочка.
– А ты что, когда вырастешь, станешь бабочкой?! – еще больше удивился Крокодильчик.
– Непременно стану, – ответила Гусеница и, оглядевшись, шепотом добавила – Если, конечно, меня никто не съест.
– А если я тебя съем? – поинтересовался Крокодильчик. Когда вырасту – я стану бабочкой?
– Как тебе не стыдно?! – возмутилась Гусеница.
Крокодильчику стало стыдно.
Прошло время… Крокодильчик вырос и стал большим взрослым Крокодилом. Он любит смотреть, как порхают бабочки, надеясь, наверно, встретить давнюю знакомую. Крокодилу есть чем похвастаться перед ней – ведь гусениц он так и не ест!
«А были бы родители, – думает иногда Крокодил, – воспитывали бы меня – я бы еще кого-нибудь не ел…»
Виталий Хмельницкий. «Бабочкино воспитание».








