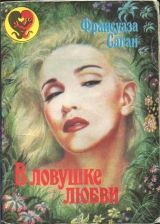
Текст книги "В ловушке любви"
Автор книги: Франсуаза Саган
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц)
– А у меня, конечно, ничего, кроме денег, нет, – обиженно бросил Юлиус.
Вот те раз, теперь я, очевидно, должна была уверить его, что он невероятно обаятелен и мил.
– Не в этом дело. Люди действительно верят в то, что говорят.
– Что вам за дело до того, что говорят и думают другие.
Как все в этом кружке, говорившие об остальных «другие», Юлиус как бы отделял себя от них. Он ведь совсем другой – чистое сердце, высокий интеллектуальный уровень, – не имеет ничего общего с этими великосветскими клоунами.
– Лично меня это не беспокоит, – сказала я неуверенно. – Но мне не хотелось бы, чтобы наши отношения каким-либо образом повлияли на вашу личную жизнь.
Юлиус издал горделивый смешок, который, по всей видимости, должен был означать: спасибо, моя личная жизнь в полном порядке, или же, что это вообще никого не касается. Я все больше и больше чувствовала себя не в своей тарелке.
– Но ведь правда, Юлиус, вы всегда были для меня прекрасным другом. Но я понимаю, что до встречи со мной вы жили не один… Мне бы очень не хотелось, чтобы другая женщина подумала… будто бы… Страдала из-за….
И на этот раз мой непробиваемый делец издал смешок, прозвучавший совершенно по-фанфаронски и так же недвусмысленно, как и первый.
– Юлиус, – твердо спросила я, – вы ответите мне или нет?
Он поднял голову, посмотрел на меня голубыми глазами и покровительственно похлопал меня по ладони.
– Успокойтесь, моя дорогая Жозе, когда мы встретились с вами, я был свободен.
Прекрасно! Еще немного, и он превратится в пресыщенного донжуана. А мне, очевидно, останется только радоваться своей удаче, что так ловко попала на период штиля в его жизни. Нет, дело принимало совершенно не тот оборот, на который я рассчитывала. То ли все упиралось в декорации Салины, то ли я сама себя загнала в ловушку. Сидя в этой проклятой чайной, я чувствовала ту же безысходность и отчаяние, как и во время первого посещения, нашего первого свидания с Юлиусом.
– Юлиус, – сказала я, слыша, как пронзительно звенит мой голос, готовый, казалось, вот-вот сорваться. – Юлиус, говорят, что вы никогда ничего просто так не делаете. Это-то, по крайней мере, вам известно?
– Но также говорят, что ради денег и вы готовы поступиться кое-чем. Ну и что теперь?
В довершение всего он был еще и логичен. Но не могла же я в самом деле спросить его вот так, без обиняков, строит ли он какие-либо далеко идущие планы насчет меня. Я тяжело вздохнула, откусила от ромовой бабы и вытащила из сумки пачку сигарет.
– Ладно, – сказал Юлиус. – Но какое это все может иметь значение? Вы прекрасно знаете, что я ваш друг. Я испытываю к вам привязанность… и даже больше чем привязанность… – добавил он задумчиво.
Я насторожилась.
– Я уважаю вас, – продолжил он. – И поверьте, мне не так легко внушить это чувство. Мне очень неприятно, что люди сплетничают на наш счет. Но что делать, мы живем в Париже. Я мужчина, вы женщина, этого следовало ожидать.
Я начинала приходить в отчаяние. Еще одно-два заезженных выражения, и меня можно будет выносить из кафе.
– Я очень рада, что вы испытываете ко мне уважение и привязанность, – сказала я. – И я испытываю к вам те же чувства. Но, Юлиус, не вообразили ли вы чего-нибудь еще?
– Чего-нибудь еще?
Он уставился на меня. Глаза его округлились. Я почувствовала, что краснею. Так, мы дошли до точки.
– Да, чего-нибудь еще.
– Ха-ха! – весело рассмеялся он. – Моя дорогая Жозе, я никогда ничего не воображаю. Я человек без воображения. Я позволяю времени самому вести ход событий.
– И куда же, по-вашему, может завести нас время?
– Дорогая Жозе, – сказал он улыбаясь – на мой взгляд, очень глупо. – Очарование времени состоит в том, что никогда не знаешь, куда оно тебя приведет. Никогда.
Это последнее философское откровение доконало меня окончательно. Дидье был прав, когда предупреждал меня, что из Юлиуса никогда ничего не вытянешь. Не в силах успокоиться, я сунула в рот сигарету не тем концом, а предупредительный Юлиус поджег фильтр. Это вызвало у него бурную радость, и я еще раз услышала его знаменитый смех-лай. И как ему это удается?! Еще одна его тайна. Он тут же поспешил вытащить из пачки другую сигарету.
– Ну, вот видите, – сказал он. – Вы говорите и делаете одни только глупости. Как подумаю, что только что страшно разволновался из-за вашего звонка. Нет, нет, Жозе, доверьтесь своему другу Юлиусу. Живите, как живется, и не забивайте себе голову ерундой.
Ну, а теперь он говорил совершенно как Злой Серый Волк, и мне все меньше и меньше хотелось становиться Красной Шапочкой. Хотя, с другой стороны, я вынуждена была признать, что если мои опасения ложны, то всем этим разговором я поставила Юлиуса в очень деликатное положение. Он также не мог сказать мне без обиняков, что вовсе не желает делить со мной постель, а все эти уловки были для него спасительным убежищем. Не успела эта мысль возникнуть у меня в голове, а я уже обеими руками вцепилась в нее. Она устраивала меня во всех отношениях. Во-первых, это было просто и ясно. А потом, вспоминая некоторые фразы нашего разговора, я сделала вывод, что Юлиус, скорее, тот мужчина, который устал от женщин, и испытывает больше раздражения от общения с ними. Юлиус интересовался лишь своими делами и властью, ну и может быть, еще одной симпатичной женщиной, которой хотел помочь. А все остальное было лишь плодом моего воображения, моего и Дидье, чья обостренная чувствительность заставляла во всем видеть страсть. Я вздохнула с облегчением. Не с полным, конечно. Что-то, словно заноза, мешало мне считать этот вопрос полностью разрешенным. Однако, я сделала все возможное, стараясь не выглядеть смешной. И если у Юлиуса и были какие-то темные замыслы, то мое беспокойство и резкое противодействие должны были открыть ему глаза. Я даже немного оживилась. Мы вспомнили вчерашний вечер в Опере, и я похвалила Юлиуса за быструю реакцию, а он меня за находчивость. Мы обменялись теплыми словами по поводу Дидье, несколькими остротами в адрес мадам Дебу, и Юлиус проводил меня домой. В машине он просунул мою руку под свой локоть и, похлопывая по ладони, весело, словно школьник, всю дорогу болтал. Поразмыслив, мне стало немного стыдно за то, что я приписала этому неуклюжему, но порядочному человеку маккиавеллевское коварство. Бескорыстие – не пустой звук, и если брат Дидье со своими красивыми глазами и большими руками так и не смог этого понять, то тем хуже для него. Легко судить и презирать других. Слишком легко. Завтра же я все объясню Дидье и заставлю его поменять свою точку зрения. Да, я, конечно, была права, когда столько колебалась, не в силах решиться на эти глупые и смешные выяснения отношений. Надо всегда следовать своему инстинкту. Плохо лишь то – по крайней мере в моем случае, – что инстинкты слишком противоречивы. В следующий раз, когда я отправлюсь в Салину, я обязательно распробую ромовую бабу. А то я так и не смогла понять: вкусная она или отвратительная.
Когда я вернулась домой, меня окликнула консьержка. В руках у нее была телеграмма. В ней сообщалось, что Алан серьезно болен, что я немедленно должна была вылететь в Нью-Йорк и что в Орли меня ждет оплаченный билет. Телеграмма была подписана матерью Алана. Я тут же позвонила в Нью-Йорк и попала на дворецкого. Да, ответил он, господин Аш болен и лежит в клинике. Нет, что с ним случилось, он не знал. Да, мадам Аш с нетерпением ожидает моего приезда. Отчаяние охватило меня. Сердце сжалось. Ничего не понимая, я стояла посреди разбросанных искусствоведческих журналов, не понимая, откуда они взялись. Моя сегодняшняя жизнь показалась мне нереальной. Алан болен. Может быть, он даже умирает. Сама эта мысль была для меня невыносима. Был ли Нью-Йорк ловушкой или нет, но я должна была отправиться туда как можно скорее. Я позвонила Юлиусу. Он был великолепен. Он нашел мне самолет, который вылетал через четыре часа, заказал место, заехал за мной и отвез в аэропорт. Все это время он был спокоен, как скала. Когда мы прощались с ним у регистрационной стойки, он просил меня не волноваться. Он сам должен был лететь в Нью-Йорк на следующей неделе. Теперь он постарается ускорить свой отлет. Так или иначе, он обещал позвонить мне на следующий день утром в отель «Пьер», где у него был постоянно забронирован номер. В этом номере он и предложил мне остановиться. Я была согласна на все. Его спокойствие, организованность и милое отношение придали мне силы. А когда я оглянулась и увидела его, стоящим у барьера с поднятой в прощальном жесте рукой, то подумала, что расстаюсь с очень дорогим и близким другом. А ведь правда: за эти три месяца он стал моим покровителем, в самом благородном смысле этого слова.
10
Все пассажиры этого огромного самолета, бесстрастно пронзавшего ночь над океаном, спали, и лишь я одна сидела в маленьком, похожем на ракету, баре. И казалось, что эта ракета вот-вот оторвется от самолета, чтобы исчезнуть в бездне пространства. Последний раз я летела этим маршрутом два года назад. Только тогда мы летели в обратную сторону и к тому же днем. Тогда мы летели сквозь розовые и голубые облака, пытаясь догнать солнце. Тогда я убегала от Алана, и жуткая, грубая сила самолета уносила меня от того, кого я любила. А теперь та же сила возвращала меня к Алану, только я больше не любила его. Мне было хорошо в этом одиноком баре. Изредка, наверняка про себя проклиная меня, сонный бармен пытался привстать и предложить мне виски, от которого я отказывалась. Это хорошо, что моей свекрови пришла в голову мысль взять мне билет первого класса, потому что только пассажиры этого класса имели право посещать бар. Значит она знала о моем тяжелом финансовом положении. Интересно, что она обо всем этом думала? Естественно, как мать, как властная мать Алана, она должна была желать мне всяческих неприятностей. Но как американка, она должна была быть неприятно поражена, что Алан оставил меня без копейки. Два развода и одно вдовство обеспечили ее приличным состоянием, поэтому эта статья равноправия женщин была для нее не шуткой. Я все время спрашивала себя, что Алан рассказал ей.
Это была жесткая, властная женщина. Двадцать лет назад «Харперс Базар» воспел ее прекрасный профиль хищной птицы. Не знаю почему, но это сравнение привело ее в восторг, и она даже усвоила чисто птичий поворот шеи и неподвижный взгляд, что еще больше увеличило это сходство. Так, еще в начале нашего замужества, она пыталась устрашить меня, но я была влюблена в Ашана и на месте грозного орла видела перед собой старую, вздорную курицу. Ее попытки разлучить нас имели совершенно обратный результат. Мы еще больше сблизились и в конце концов сбежали от нее. Правда, и разрушили свою жизнь мы тоже сами. Но как бы там ни было, я находилась в самолете благодаря ей. Но отныне все эти солнца, облака, чудесные сны, навеваемые частыми перелетами, прекрасные пейзажи, лежавшие вверх ногами подо мной, зависели от моего финансового положения и становились таким образом все более и более ограниченными. А моя пресловутая свобода обретала все более тесные рамки. Но я недолго предавалась этим печальным мыслям. Шум моторов и звон льда в стакане напомнили мне о том, что Алан болен и, может быть, при смерти. И все из-за меня. Я не спала и прибыла в аэропорт «Пан-Америкен» усталая и разбитая. Аэропорт тоже изменился. Он стал больше, ярче и выглядел еще более устрашающе, чем в моих воспоминаниях. И вдруг мне стало страшно. Я боялась Америки, как боятся прекрасной и агрессивной иностранки. Я расположилась на заднем сиденье, и шофер оказался отделен от меня матовым стеклом. Он мог не бояться пуль, а я того, что кто-то посторонний станет свидетелем моей беспечной и веселой болтовни, которую я когда-то так любила. По мере того как мы погружались в этот город из камня и бетона, мне начинало казаться, что все стекла в машине стали непроницаемыми и навсегда оттеснили меня от того Нью-Йорка, который я так любила. Естественно, моя свекровь жила в районе Централ-Парка, и, прежде чем впустить меня, портье позвонил ей наверх. Нью-Йорк к тому же превратился в город-баррикаду. Я смутно вспомнила застекленный вход в прихожую, картины абстракционистов на стенах. Я прошла мимо этих полотен, служивших для помещения капитала, и с содроганием вошла в гостиную. Хищная птица была там. Она расправила свои крылья и бросилась ко мне. Она сухо поцеловала меня, и мне показалось, что сейчас она выклюет мне кусочек щеки. Затем, отстранив меня и держа на расстоянии вытянутой руки, стала разглядывать.
– Вы плохо выглядите… – начала она.
Я перебила ее:
– Как Алан?
– Не волнуйтесь, – ответила она. – Хорошо. Теперь хорошо. Он жив.
Я упала на диван. Ноги дрожали. Наверное, я была настолько бледна, что она позвонила дворецкому и попросила принести коньяку. Как странно, подумала я, когда сердце слегка успокоилось и я немного пришла в себя. Как странно! Чтобы привести человека в чувство, во Франции предлагают виски, а в Америке коньяк. Я настолько приободрилась, что с удовольствием поделилась бы со свекровью этим наблюдением, но момент был неподходящим. Я сделала глоток и почувствовала, как жизнь возвращается ко мне. Я находилась в Нью-Йорке, я хотела спать, Алан был жив. Мое путешествие, восьмичасовой кошмар, был одной из тех жестоких оплеух, которые судьба время от времени отвешивает ради развлечения. Как в тумане я смотрела на сидевшую передо мной женщину, на ее безупречный макияж и слушала, как она говорит о неврастении, депрессии, злоупотреблении алкоголем, злоупотреблении возбуждающими и транквилизаторами. На самом деле речь шла о злоупотреблении страстью. Но затем она вспомнила о проделанной мною дороге, о моей усталости. Я позволила отвести себя в комнату для гостей, где, не раздеваясь, упала на постель. Последние минуты перед сном у меня в ушах еще несколько секунд раздавался шум города.
У моего партнера по пляжам, вечеринкам и мучениям был, прямо скажем, неважный вид. Щеки его ввалились, а на подбородке красовалась двухдневная щетина. Взгляд остекленел, что не удивило меня, учитывая то старание, которое психиатры приложили, чтобы привести его в норму. В этой звуконепроницаемой палате с кондиционером у него был вид человека, выброшенного на обочину. Лечащий врач и профессор, которые встретили нас, говорили о заметном улучшении в его состоянии, о необходимости постоянного ухода, а мне все казалось, будто это я во всем виновата. Это я привила этому мужчине-ребенку человеческие черты. Может быть, иногда это было болезнено для него, но самое страшное произошло после, когда я трусливо отправила его обратно в этот стерильный кошмар. Он взял меня за руку и смотрел в глаза. Смотрел не просительно и не властно. Он глядел со спокойным облегчением, и это было страшнее всего. Казалось, он говорил мне: «Вот видишь, я изменился, я все понял. Я могу жить дальше… Ты только возьми меня обратно». В какое-то мгновение мне стало так жалко его, лежащего между чересчур заботливой матерью и чересчур рассеянным психиатром, что показалось, будто действительно все можно вернуть назад. Да, это было хуже всего. У него был взгляд побитой, но все равно верной собаки. Он словно говорил мне: да, наказание было долгим и убедительным, но жестоко оставлять его дальше в этом аду. Палата была мрачной. Куда подевался диван, на котором он любил вытягивать свое длинное тело? Куда подевались кашемировые пледы, которыми он любил прикрывать лицо, засыпая в минуты грусти? Куда подевалась та мягкая нежность жизни, что ассоциировалась у него с узкими парижскими улочками, пустыми кафе и молчанием ночи? Нью-Йорк гудел не переставая, и я знала, это было для него непереносимо. А теперь еще эта ватная тишина палаты. Такая неестественная и болезненная, она, должно быть, была для него еще хуже непрестанного шума Нью-Йорка. «Я здесь уже неделю», – говорил он, а я слышала: «Ты представляешь себе? Нет, ты представляешь?». «Они очень милы», – продолжал он, и это означало: «Понимашь, я во власти этих совершенно чужих людей». «Этот доктор не так уж плох», – соглашался он, но я понимала: «Как ты могла отдать меня этому бездушному чужаку?» Наконец он прошептал: «Думаю, через неделю я смогу выйти». И тут я как бы услышала его безмолвный вопль: «Неделя, всего лишь неделя. Подожди меня неделю!» Меня буквально разрывало на части, и естественно, я вспомнила все то хорошее и счастливое, что было в нашей жизни. Как мы смеялись, разговаривали, отдыхали на песке, впадали в любовную истому и конечно, самое главное: как мы были уверены, что любим друг друга, будем любить вечно и вместе состаримся. И я забыла о кошмаре последних лет и о той, другой уверенности, – моей собственной, что если так будет продолжаться дальше, мы погубим друг друга. Я обещала ему прийти завтра, в то же время. Когда я вышла на Парк авеню, то оказалась в гуще движения пешеходов и автомобилей. Эта кипучая деятельность вдруг представилась мне отвратительной, и вместо того, чтобы отправиться пешком и посмотреть Нью-Йорк, я заперлась в машине свекрови. Она предложила мне выпить чаю в Сан-Реджис. Там мы могли бы чувствовать себя спокойно, и я согласилась. Казалось, что теперь я навечно обречена ездить в лимузинах с молчаливыми шоферами и посещать чайные в компании людей в два раза старше меня и в десять раз увереннее в себе. И все же я заказала виски. К моему великому удивлению, свекровь сделала то же самое. Должно быть, эта больница отличалась тем, что вызывала у всех депрессию. На какую-то секунду мне стало жаль ее. Как бы то ни было, но Алан был ее единственным сыном, и, несмотря на свой вид хищной птицы, там внутри, под оперением с острова Святого Лаврентия, должно было биться сердце матери.
– Как он вам показался?
– Как вы и говорили: и хорошо и плохо.
Мы замолчали на несколько минут, и я почувствовала, что минута слабости прошла. Она вновь подобрала выпавшее из рук оружие.
– Дорогая Жозе, – начала она. – Я никогда не хотела вмешиваться в ваши с сыном дела.
Так, она начинала разговор со лжи, и я поняла, что за этой ложью последует и следующая, поэтому промолчала и не стала ее перебивать.
– Я не знаю, – продолжала она, – почему вы с Аланом расстались. Но что бы ни произошло, я хочу, чтобы вы знали, – я не могла представить, что он оставил вас без копейки. Когда же мне стало об этом известно, у него уже начался кризис и было бесполезно его упрекать.
Я махнула рукой, давая тем самым понять, что это не имело никакого значения. Но она была противоположного мнения и сделала другой жест, как бы отметавший все мои возражения. В эту минуту мы были похожи на два семафора, работавшие в разном ритме.
– Как вы выкрутились? – спросила она.
– Я нашла работу. В финансовом отношении не Бог весть что, но интересная.
– А этот господин А. Крам? Знаете, позавчера мне пришлось приложить нечеловеческие усилия, чтобы выцарапать у его секретарши ваш адрес.
– Господин А. Крам мой друг, – ответила я. – И только.
– И только?
Я подняла глаза. По моему виду она, наверное, поняла, насколько эта тема мне неприятна, поэтому быстро сделала вид, что мое «и только» ее удовлетворило. Тут я вспомнила, что обещала Юлиусу остановиться в гостинице «Пьер» и позвонить ему оттуда. Я почувствовала некоторое угрызение совести. Франция, Юлиус, газета, Дидье – все это было сейчас таким далеким… Все сложности моей парижской жизни вдруг показались мне такими ничтожными, что я потерялась. Потерялась в этом страшном городе с этой не любившей меня женщиной, после мрачной клиники, без корней, любви, друзей, я потерялась в собственных глазах. Запотевший стакан с традиционной ледяной водой, безразличный официант, шум на улице – все заставляло меня дрожать. От невыносимого страха и безысходности у меня свело руки.
– Что вы собираетесь делать дальше? – строго спросила моя спутница, и я совершенно искренно ответила: «Не знаю».
– Но вам же надо принять какое-то решение, – сказала она. – Я имею в виду Алана.
– Это решение я уже приняла: Алан и я, мы разводимся. Я ему об этом сказала.
– А он мне рассказал совсем другое. По его словам, вы решили пожить какое-то время отдельно друг от друга и что ничего еще не решено до конца.
– И тем не менее это так.
Она смотрела на меня не отрываясь. Эта мания разглядывать вас в упор, словно гипнотизируя, в течение долгих минут, была очень неприятна. Очевидно, она считала эти прямые взгляды неким моментом истины. Я пожала плечами и отвернулась. Это оскорбило ее, вернув прежнюю агрессивность.
– Поймите меня правильно, Жозе. Я всегда была против этого брака. Алан всегда был очень ранимым, а вы слишком независимой, чтобы это не причиняло ему страданий. И если я вас вызвала сюда, то только лишь потому, что он требовал этого. Я нашла в его комнате двадцать писем, адресованных вам, которые он запечатал в конверты, наклеил марки, но так и не отправил.
– Что он писал?
И она попалась в ловушку.
– Он писал, что не в состоянии…
Она поперхнулась, осознав, как глупо призналась в своей бестактности. И если бы не ее обильный макияж, я уверена, что увидела бы как она краснеет.
– Ладно, – прошептала она. – Да, я прочитала эти письма. Я просто сходила с ума и сочла необходимым прочесть их. Вот так я и узнала о существовании вашего господина А. Крама.
Она оправилась и снова стала прежней хищной птицей. А по поводу Юлиуса Алан мог понаписать Бог знает чего. Я почувствовала, как во мне начинает подниматься злоба. Я приходила в себя. Образ Алана, беспомощного, с затуманенными болезнью и страданием глазами, начал отступать. Не могло быть и речи о том, чтобы я осталась еще хоть на один день наедине с этой женщиной, которая так ненавидела меня. Я не могла больше выносить ее общество. Правда, я обещала Алану, что приду завтра. Да, это я действительно обещала.
– Кстати, о Юлиусе А. Краме, – заявила я. – Он предложил мне воспользоваться его номером в гостинице «Пьер». Таким образом, я больше не буду обременять вас.
Она быстро кивнула и улыбнулась той легкой улыбкой, которая словно говорила: «Браво, милочка, вы и вправду неплохо устроились», – и ответила:
– Вы нисколько не стесняете меня. Но в конце концов я прекрасно понимаю вас. В гостинице вам, конечно, будет веселее, чем в квартире свекрови. Я не ошиблась, когда говорила о вашей независимости.
На ней была черно-синяя шляпа, наподобие берета, с райскими птичками по краю. Неожиданно мне захотелось натянуть ей этот берет до самого подбородка, как иногда делают герои комедийных фильмов. Натянуть и так бросить – кричащую, ничего не видящую, посреди этого чайного салона. Вот так всегда: в минуты самого сильного гнева на меня находит приступ нелепого смеха, когда я готова совершить невесть что на свете. Для меня это было сигналом тревоги. Я резко встала и схватила пальто.
– Завтра я пойду навещу Алана, – сказала я. – Как мы договорились. А за своими вещами пришлю кого-нибудь из «Пьера». Так или иначе мой адвокат из Парижа свяжется с вашим. Они обговорят все вопросы, касающиеся развода. А сейчас, к сожалению, я должна вас оставить, – добавила я машинально. Даже в самые ненужные моменты во мне всплывала вдолбленная с детства вежливость. – Мне еще нужно позвонить в Париж. Друзьям и на работу – пока не поздно.
Я протянула ей руку, и она растерянно пожала ее. По всей видимости, она спрашивала себя, не перегнула ли палку, не пожалуюсь ли я на нее завтра Алану и не обидится ли он смертельно на нее за это. На какую-то секунду она превратилась в старую, одинокую и эгоистичную женщину, которая вдруг увидела себя со стороны такой, какой была, и ужаснулась.
– Этот разговор останется между нами, – сказала я, проклиная себя за жалость. Затем повернулась и пошла.
Она громко окликнула меня по имени. Я остановилась. Неужели я наконец услышу человеческий голос.
– Что касается вашего чемодана, – бросила она, – то можете не беспокоиться. Мой шофер завезет его в «Пьер» через час.
11
Увидев меня, администратор «Пьера» испытал явное облегчение. Он ждал меня еще утром и теперь боялся, что цветы в номере начали увядать. Господин Юлиус А. Крам уже звонил два раза и просил передать, что позвонит еще в 8 часов вечера по нью-йоркскому времени, что означало 2 часа ночи по парижскому. Апартаменты Юлиуса состояли из двух комнат, разделенных гостиной, обставленной в стиле Чиппендейла. Было семь часов вечера, когда я подошла к окну и неожиданно ощутила то старое очарование, которое считала навсегда уже утерянным. Нью-Йорк был залит морем огней. К ночи город превращался в сверкающее, фантастическое зрелище. Я долго стояла и смотрела на него. Мне чудом удалось открыть форточку, и свежий вечерний ветер ударил мне в лицо. В воздухе запахло морем, пылью и бензином. Эти запахи были неотъемлемы от Нью-Йорка как и его непрекращавшийся гул. Они всегда преследовали меня. Я села на диван, включила телевизор и оказалась в мире вестерна, насыщенного стрельбой из благородных побуждений. Но, если я чего и хотела в этот час, после мрачной больницы и беседы со свекровью, так это развеяться. Но странное дело, если падала лошадь, то я падала вместе с ней, если злодей получал пулю в сердце, то это сердце было и моим тоже. А когда наступило время любовной сцены между чистой и невинной девушкой и крутым ковбоем, то я восприняла ее как личное оскорбление. Я переключила программу и попала на полицейский фильм. Это была чисто садистская картина. Я выключила телевизор и стала ждать восьми часов. Наверное, я выглядела смешно, вот так без дела сидя на диване, совершенно одна в огромной гостиной дорогого отеля. По всей видимости, в тот момент я здорово смахивала на богатую эмигрантку. Принесли мой чемодан, но у меня уже не было ни сил, ни желания открывать его. Я чувствовала, как в висках стучит кровь. Стучит по-дурацки, ненужно… В восемь часов пять минут зазвонил телефон, и я сняла трубку. Голос Юлиуса звучал очень ясно и близко. В тот момент мне показалось, что эта трубка и провод, пролегший, несмотря на бури и шторма, под океаном, были единственными вещами, еще связывавшими меня с миром живых.
– Я волновался, – сказал Юлиус. – Что вы делали?
– Я приехала к своей свекрови очень рано или, точнее сказать, очень поздно и проспала всю первую половину дня. Затем пошла навестить Алана.
– Как он себя чувствует?
– Не очень хорошо.
– Когда вы собираетесь вернуться?
Я колебалась, не зная, что ответить.
– Дело в том, что я могу приехать в Нью-Йорк завтра, – сказал он. – Я улажу там кое-какие дела и тут же отправлюсь в Нассо, тоже по делам. Если хотите, можете поехать вместе со мной и моей секретаршей. Думаю, неделя у моря пойдет вам на пользу.
Неделя на море. Я представила себе белый пляж, индиговое море и раскаленное солнце. Такое раскаленное, что смогло бы отогреть мои старые кости. Меня уже тошнило от городов.
– А как же Дюкре? – спросила я. – Мой начальник?
– Как мы договорились, я позвонил ему. Он считает, что вы должны воспользоваться случаем и посмотреть в Нью-Йорке две-три выставки. Адреса он дал. Я думаю, что он смирится с вашим отсутствием, если вы привезете ему несколько статей. Если мне не показалось, то он даже сказал, что это большая удача, что вы в Нью-Йорке.
Я почувствовала, что оживаю. Это путешествие, прошедшее на грани абсурда и меланхолии, вдруг стало нужным и интересным. Да еще это удовольствие полежать на горячем песке у моря. Я никогда не была в Нассо. Мы с Аланом больше предпочитали маленькие острова во Флориде или Карибском море. Но, с другой стороны, я знала, что Нассо – рай для налогоплательщиков, и не было ничего удивительного в том, что Юлиус уже воздвиг там один из своих форпостов.
– Это было бы замечательно, – сказала я.
– Уверен, что отдых пойдет вам на пользу, да и мне тоже, – добавил Юлиус. – В Париже отвратительная погода. Она буквально давит на меня.
Я плохо могла представить себя, чтобы что-то давило на Юлиуса и тем более раздавило. Для этой цели скорее понадобился бы бульдозер. Но, конечно, я была несправедлива. Или у меня не доставало воображения? Что в общем-то одно и тоже.
– Я постараюсь приехать как можно скорее, – продолжал он. – Не волнуйтесь за меня. Чем вы собираетесь заняться сегодня вечером?
Я ответила, что сама еще не знаю. Так оно и было. Он засмеялся и посоветовал посмотреть какой-нибудь фильм и лечь спать. Он порекомендовал мне некого господина Мартина – одного из администраторов гостиницы, – к которому я могла обратиться с любыми просьбами, и передал привет от Дидье, который, как ему показалось, уже сильно скучал без меня. Еще он сказал, где в его номере я могу найти несколько забавных книг, и нежно пожелал спокойной ночи. Одним словом, успокоил.
Я заказала по телефону легкий ужин, отыскала в спальне книгу Малепарте и, использовав улучшившееся настроение, открыла чемодан и стала приводить вещи в порядок. А в нескольких кварталах от моего отеля, в ватной тишине комнаты на белых простынях лежал измученный и разбитый молодой человек. Он ждал, когда кончится ночь. Я представила себе на мгновение это долгое и страшное ожидание в ночи, опрокинутый профиль с синевой щетины, лицо, зарывшееся в подушку. Но вскоре я погрузилась в чтение и забыла обо всем, кроме дикого мира «Капута». У меня был действительно тяжелый день.
Утром я сначала отправилась посмотреть выставку Эдварда Хуппера, американского художника, которого любила особой любовью. Около часа я стояла, мечтательно глядя на его меланхолические картины, населенные одинокими героями. Особенно долго я задержалась у «Сторожей моря». На полотне мужчина и женщина сидели совсем рядом друг с другом, но вместе с тем они были бесконечно далеки. Поодаль был дом кубической формы, оба героя смотрели на море. Мне вдруг показалось, что это полотно – безжалостная проекция нашей с Аланом совместной жизни.
Он побрился и даже сумел частично вернуть себе нормальный цвет лица. Глаза уже не были полны безмолвного страха и мольбы. В них светился иной огонь, и я тут же узнала его: это было пламя недоверия и злобы. Он едва дал мне сесть.
– Итак, ты покинула мой дом и снова живешь за счет Юлиуса А. Крама? Он приехал с тобой?
– Нет, – ответила я. – Он одолжил лишь мне свой номер в гостинице, а так как мы с твоей матерью плохо понимаем друг друга… ты же знаешь…
Он перебил меня. Щеки порозовели, а глаза сверкали. В который раз я с грустью отметила, каким красивым становится его лицо, когда он охвачен ненавистью. Существует такая порода людей – и она не так малочисленна, – которая чувствует себя нормально лишь во время сражений.
– А я-то думал, что ты приехала из-за меня. Но он, конечно, не сумасшедший, чтобы оставить тебя одну больше чем на двое суток. Когда он прилетает?








