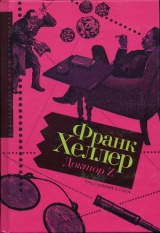
Текст книги "Доктор Z"
Автор книги: Франк Хеллер
Жанр:
Классические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 10 страниц)
Но есть предел счастливым случайностям, на которые можно рассчитывать. А здесь счастливой случайности было недостаточно. В алфавите двадцать четыре буквы, и он однажды слышал, сколько триллионов комбинаций они могут давать, но он забыл цифру, подобно тому, как забыл соче…
Дзинг-линг, дзинг-линг!
Послышался серебристый сигнал, похожий на звон тонкого стекла: откуда это? Из шкафа? Не может быть! Значит, найдено сочетание, значит, ток должен был разомкнуться – не может быть! Нет, может! Доктор сделал движение рукой, и тяжелая дверь пошевелилась. Министру юстиции показалось, что он видит, как заколыхалась на петлях дверь в святая святых. Каким образом…
Произошло нечто неожиданное. Рука, открывшая дверцу, снова захлопнула ее, и пухлые пальцы, как бы играя, повертелись один момент вокруг комбинированного замка. Рейнбюрх привскочил:
– Вы с ума сошли! Зачем вы запираете?
Доктор обернулся. Он улыбался, но был очень бледен.
– А потому, что мы забыли условиться насчет гонорара за мою услугу.
Лицо министра юстиции моментально изменилось. Последние полчаса он обращался с доктором вежливо, почти почтительно. Теперь же он разразился сухим ироническим смехом.
– Я думал, что вы работаете в интересах науки.
– Да, но не исключительно.
– Вот этого я никак не могу понять!
– Моя сегодняшняя работа была направлена в значительной степени на пользу правосудия. Вам, как высшему представителю правосудия в стране, надлежит оценить ее. Вы легко согласитесь на мой гонорар, когда узнаете, каков он.
– Каков же он?
Доктор отошел от несгораемого шкафа, тяжелая дверь которого была снова так же непоколебимо заперта, как вход в святая святых. Он медленно и незаметно стал подходить к большому письменному столу.
– Мой гонорар за вторичное открытие шкафа, – сказал он, – таков: разрешите просмотреть находящиеся там документы.
Если бы он потребовал, чтобы министр выпрыгнул из окошка на улицу, то не произвел бы большего впечатления. Тонкие губы Рейнбюрха стали синеватыми от возмущения, когда он вскричал:
– До сих пор я считал вас безвредным шарлатаном, но теперь я вижу, что мне придется переменить мнение.
– Донкебек, – сказал доктор. – Помните про Донкебека!
– Ч-ч-что, что вы сказали? Я, право, не понимаю.
– Донкебек, – повторил доктор. – Я только сказал: помните про Донкебека.
Министр юстиции опустился в кожаное кресло. Его рука пошарила во внутреннем кармане и нашла сигару.
– Вы сумасшедший, – пробормотал он. – Еще минута, и я прикажу…
– Будь я на месте вашего превосходительства, я не делал бы этого. Помните, каким образом я открыл шкаф.
– Но какого… черта, каким образом вам удалось это?
– Путем подбора пяти уступительных союзов нашего языка. Теперь понимаете, как это неслыханно компрометирует вас!
Глаза министра юстиции не выражали больше испуга, они выражали ужас, ужас, охватывающий разумные существа при виде безумца.
– Уступительные союзы! – пробормотал он, бросив искоса взгляд на дверь. Но доктор стоял между ним и дверью, и несомненно, что доктор был сильнее. – Уступительные союзы – ну, конечно, ха-ха-ха! А я и не подумал об этом!
– Да, уступительные союзы, – повторил его непрошеный гость. – Мы забываем то, что мы хотим забыть. Наша душа прячет неприятные воспоминания подобно тому, как мы скрываем неприятные для нас тайны. Но она скрывает не отдельные воспоминания, она скрывает целые комплексы, она, так сказать, окружает их волшебным кольцом или обволакивает их, как это делает организм, блокирующий больное место. Что же содержится в таком комплексе? О, там содержатся всевозможные обстоятельства, находящиеся в связи с первоначальным неприятным воспоминанием. Достаточно параллельного значения или простого созвучия, чтобы воспоминание, невинное в других отношениях, было «забыто». Вот почему, ваше превосходительство, было очень необдуманно с вашей стороны выбирать для комбинированного замка слово «хотя». «Хотя» – это один из пяти уступительных союзов, которые имеются в нашем языке, – было бы излишне напоминать вам об этом. Но какая же связь существует между словом «уступительное» и «концессия»? Только этимологическая связь, но она достаточна для такого филолога, как вы, и, если принять во внимание то неприятное чувство, которое вы испытали в связи с концессией Донкебека на Суматре, было крайне неосмотрительно, что вы…
– Что вы-то знаете об этом? Что вы этим хотите сказать?
– Несколько времени тому назад вы, господин Рейнбюрх, будучи министром колоний, предоставили господину Виктору Донкебеку из Амстердама концессию на рудники близ Паданга на Суматре. Претендентов было много, но вы выбрали его. Почему вы выбрали его, это оставалось, по крайней мере до сих пор, тайной между вами и господином Донкебеком, племянник которого, впрочем, состоит на службе в министерстве колоний. Среди тех, кто догадывался, почему вы выбрали именно господина Донкебека, был один из ваших подчиненных по министерству колоний – Герард Рейсбрук. Он забыл свое положение как подчиненного настолько, что поставил вам это на вид, – да, он зашел даже так далеко, что говорил о непотизме и подкупе.
Министр юстиции смочил языком губы.
– Все это выдумки Рейсбрука и его жены! В этом нет ни слова истины, слышите, ни слова!
– Так как Рейсбрук не захотел оставить этого дела, – невозмутимо продолжал доктор, – и так как Донкебек стал опасаться как за свою концессию, так и за свое доброе имя, молодой Корнелис Донкебек придумал выход из положения. Его план был, несмотря на всю свою простоту, и гениален, и достигал цели. А что, если Герарда Рейсбрука обвинить в должностном преступлении – ну скажем, в таком тяжком служебном преступлении, чтобы он поплатился за него не только своей должностью, но и свободой? Тогда его рот был бы заткнут приговором; мало того, освободилось бы еще местечко, которое могло быть предоставлено кому-нибудь другому, например Корнелису Донкебеку.
– Это ложь! – воскликнул министр. – Я ничего не знаю про эту историю, слышите!
– Верю вашему превосходительству – в прошедшем времени несовершенного вида. Как филолог, вы должны понять разницу. Вы не зналиничего об этом плане, пока молодой Донкебек не поставил вас перед свершившимся фактом, и не было найдено компрометирующее письмо к японскому агенту, которое было написано почерком Герарда Рейсбрука. Когда Рейсбрук был арестован и предстал перед судом, вам нельзя было выступить, если вы не хотели выдать себя. Дело в том, что Донкебек-старший – человек осторожный, который берет квитанции в получении уплаченных им денег, и стань вы на защиту Рейсбрука, вы сами вынесли бы себе приговор, политически смертный приговор, который находился в бумажнике господина Донкебека в виде квитанции, подписанной вашей собственной фамилией. Тогда вы уже не были человеком. Вы не подняли голос в защиту Рейсбрука, вы молчали и пошли даже дальше: будучи министром юстиции, вы отклонили ходатайство о пересмотре дела. Сам Рейсбрук не мог защищаться, так как у него не было никаких доказательств правильности своих утверждений, – да кто бы стал выслушивать утверждения скомпрометированного человека, арестанта, если у него нет самых веских доказательств? Даже его собственный адвокат не стал бы слушать его. И все пошло бы по намеченному плану, если бы я не…
Министр юстиции вышел из-за кожаного кресла, под прикрытием которого он стоял. Его глаза исступленно сверкали.
– А вы? Есть у вас какие-нибудь доказательства? Даже если бы это была правда, есть у вас какие-нибудь доказательства?
– Нет, – ответил доктор, не двигаясь с места, – доказательство находится в этом шкафу. Оно лежит, вероятно, между другими квитанциями господина Донкебека, которые вы получили обратно. Но мне не нужны доказательства, находящиеся в вашем шкафу. У меня есть свидетель всего нашего разговора!
– Свидетель? Где?
Министр круто обернулся, как бы ожидая, что кто-то покажется в какой-нибудь потайной двери.
– Вот свидетель, – сказал доктор. – Собственный вашего превосходительства диктофон, который я пустил в ход с четверть часа тому назад. Но ради безопасности, – и доктор поспешно пересек комнату и открыл дверь в переднюю, – ради безопасности могу представить вам еще двух свидетелей.
Господин Рейнбюрх отшатнулся. На пороге, у которого слуга тщетно старался задержать входивших, показалась фру Рейсбрук и человек, которого он знал по внешнему виду, – комиссар Хроот из тайной полиции в Амстердаме.
– Ведь кто угодно может ожидать аудиенции у министра? Не так ли? – сказал доктор, закрывая двери. – Фру Рейсбрук вы, ваше превосходительство, уже знаете. Комиссар Хроот – мой старый приятель, он обещал мне помочь в этом деле, если понадобится. Что вы предпочтете, ваше превосходительство: выдать заграничный паспорт молодому Донкебеку и освободить Герарда Рейсбрука или самому сесть за решетку?
Было почти жутко смотреть на лицо министра юстиции. Его маска корректного чиновника боролась с бешенством и безысходным отчаянием такой силы, что они грозили задушить его.
– Помните, – сказал доктор, – что специалист из Лондона не может приехать раньше понедельника, а ключ мне известен.
Министр юстиции наклонил голову.
– Я принимаю ваши условия, вы, вы…
– Проклятый знахарь, – докончил доктор Циммертюр с сияющей улыбкой. – Прекрасно. Осмелюсь попросить ваше превосходительство сейчас же написать нужную бумагу. Диктофон мы, конечно, можем теперь остановить. Что касается пластинки, то я советую соблюдать всяческую осторожность…
Взгляд, брошенный Рейнбюрхом, его черными как каменный уголь глазами, заставил доктора замолчать. Он надавил кнопку диктофона и вежливо уступил министру место у письменного стола.
5– Но почему же, – спросил молодой Схелтема неделю спустя, – вы оставили его на министерском посту? Почему вы не произвели чистку?
– Я процитировал Гамлета ему, а теперь процитирую вам. Мне совсем не улыбалось разыгрывать Фортинбраса и производить чистку. Разве вы не читали послеобеденных телеграмм? «Министерство шатается!» В парламентских государствах никогда не приходится долго ждать появления Фортинбраса. В этом величайшее счастье парламентаризма. Выпьем за него!
Конец сна
1«Наконец-то интересный пациент», – подумал доктор Циммертюр, когда распахнулась дверь. Вошедший был молод, настолько молод, что, несомненно, был самым молодым пациентом, который когда-либо обращался к доктору. Пожалуй, лет девятнадцати, вероятнее, – только восемнадцати. Высокий, стройный, хорошо сложенный; судя по всему – спортсмен. И если что-либо в наружности этого молодого человека могло навести на мысль, что он нуждается в помощи доктора, так это его глаза. Они светились умом, но, пожалуй, светились слишком ярко!
Вот что успел подумать доктор, пока молодой человек с любопытством осматривался в кабинете и с таким же любопытством, но вместе с тем с определенным чувством разочарования смотрел на самого доктора. Доктор не мог удержаться от улыбки – той улыбки, которая придавала ему сходство с добродушной луной на оберландовских картинах маленьких провинциальных городов.
– Вы представляли себе меня другим? – приветливо спросил он.
Молодой человек покраснел.
– Кто-то…
– Кто-то говорил вам обо мне, – докончил доктор. – Но он забыл вам сказать, каков я с виду. Будьте спокойны, есть много толстых отцов исповедников. А духовный отец – это, строго говоря, то же, что и я.
По лицу молодого человека промелькнула улыбка. Доктор жестом попросил его сесть.
– В чем же вы хотите покаяться?
Молодой человек задумался на минуту, как бы стараясь подыскать нужное слово, а затем горячо заговорил:
– Видите ли, мне кто-то говорил о вас, доктор. Я не знаю, может быть, вы сочтете меня дураком и выгоните, – но тут все дело в сне. Сон, сон, который повторяется не каждую ночь, но самое меньшее раз в неделю и от которого я никак не могу отделаться.
Он вдруг замолчал.
Казалось, доктор вдруг помолодел на двадцать лет. Он напоминал симпатичного старшего товарища.
– Все один и тот же сон? – спросил он. – Что ж, он жуткий, что ли?
Молодой человек – несмотря на свой возраст, он был уже сложившимся мужчиной, а не мальчиком – в знак отрицания энергично потряс своей красивой головой.
– Нет, это не кошмар, – воскликнул он. – Кошмар можно объяснить самому! Нет, это и не неприятный сон, по крайней мере до того момента, когда он приближается к концу; нет, даже и тогда он не неприятен! Но вот только он постоянно преследует меня… Лучше, однако, я расскажу его вам. Можете смеяться надо мной сколько угодно.
Доктор ждал продолжения, не стараясь успокоить его. И юноша заговорил снова пылким голосом, с каким-то отсутствующим взором слишком ясных глаз.
– Он начинается по-разному, но почти всегда в маленьком кабинете нашего дома. Я стою там с кем-то, кто не хочет показывать своего лица, – с какой-то женщиной. Вдруг мы оттуда исчезаем, потом поднимаемся вместе по винтовой лестнице, я поддерживаю ее, она прижимается ко мне. Но понимаете ли, я все время не могу разглядеть ее лица, хотя почему-то чувствую, что знаю его. И внезапно я оказываюсь один, надо мной сияют звезды, женщины уже нет, и вместо нее рядом со мною появляется лицо – белое лицо, светящееся в темноте, но его я никак не могу разглядеть. Я поднимаю руку и что-то кидаю, и тогда – тогда лицо как будто разламывается на куски – нет, не разламывается, а расплывается, как какая-то туманность. И в этот момент меня охватывает самое странное чувство – смесь жесточайшего ужаса и неописуемого чувства удовлетворенности. Я дрожу всем телом – и просыпаюсь. Но в течение всего следующего дня… – Он умолк. В его отсутствующем взгляде сверкал все тот же слишком яркий блеск, как будто он старался что-то уловить в недосягаемой дали.
– Вот и все, – проговорил он. – Но я не могу не думать об этом сне, не думать о том, кого это я веду вверх по лестнице и что это за лицо, которое расплывается на моих глазах. Это становится тем, что называют навязчивой идеей – так, кажется? Если вы, опытный в таких вещах, сможете объяснить мне, что это за сон, то…
Он снова замолчал, по-видимому, опасаясь, что его слова будут встречены смехом. Но доктор имел крайне серьезный вид. Прежде чем ответить, он подумал, а затем сказал:
– Читали ли вы что-нибудь из области моей науки – психоанализа?
– Нет! – Ответ раздался немедленно, без всяких колебаний. – Позвольте вас спросить, а почему вы это спрашиваете?
Доктор, казалось, не слышал его вопроса.
– Вы любите читать? – продолжал доктор.
– Да, но почему…
– Что вы читаете?
– Все, что попадется, но всегда классические произведения – Сервантеса, Данте, Шекспира.
– Вы музыкальны, да?
– Я играю на рояле, но только Бетховена.
– Так я и думал, – кивнув головой, сказал доктор.
– Вы так думали? Почему? – В его все еще несколько резком голосе послышалась некоторая запальчивость.
– Потому что, – приветливо ответил доктор, – вы имеете вид молодого идеалиста. Не обижайтесь на меня; я знаю, что современная молодежь, конечно, не любит этого слова.
Голубые глаза на загорелом лице юноши вспыхнули.
– Да, я идеалист! Я восхищаюсь всем великим, прекрасным и истинным! Моя мать внушила мне это. Да, доктор, она моя путеводная звезда!
Доктор одобрительно кивнул головой.
– Вы ничего не имеете против того, чтобы рассказать поподробнее о себе? – спросил он.
Юноша начал рассказывать о себе, о своем доме, об отце – ничего особенного, – но зато много говорил о матери. Доктор поощрительно кивал головой. Но когда его посетитель назвал свою фамилию, он сначала не поверил своим ушам. Нет, верно. У него сидел Аллан Фиц-Рой, сын Джеймса Фиц-Роя, пресловутый почтовый ящик – «почтовый ящик 526, Амстердам». Он постарался насколько мог скрыть свое удивление, и хотя инстинктивно чувствовал большую симпатию к молодому человеку, но его фразы непроизвольно стали чуть-чуть суше. Наконец пациент встал.
– Но чем же вы это объясняете, доктор? И что вы мне посоветуете?
Доктор пожал плечами.
– Я подумаю еще о вашем случае, – ответил он. – Может быть, вы зайдете ко мне еще раз завтра или послезавтра?
Молодой Фиц-Рой сказал «да» со смешанным чувством удивления, разочарования и – не ошибся ли доктор? – недоверия. Недоверия? Ах да, – почтовый ящик 526, почтовый ящик 526! «Не беспокойтесь о гонораре! – хотел было прибавить доктор, – приходите ко мне, как добрый знакомый!» Но подумав, он проводил своего молодого пациента до двери, не проронив ни одного слова.
2На другой день часов около пяти вечера доктор сидел в погребке Белдемакера со своим старым приятелем полицейским комиссаром Хроотом, с которым он недавно расследовал дело о покушении на гранильную фабрику бриллиантов Фишера. Доктор, как бы между прочим, задал вопрос:
– Ну, что слышно в уголовном мире? Есть что-нибудь интересное?
Хроот, широкоплечий исполин, отрицательно покачал головой.
– Ну а у вас как, доктор? Может быть, вы что-нибудь расскажете?
– По крайней мере, один интересный случай есть, – ответил доктор поверх стакана с апельсиновой горькой. – Совершенно классический случай, который одобрительно приветствовал бы Нестор нашей науки. Один из тех, на которых он построил свою теорию, вызвавшую наиболее страстную полемику.
– Вы сказали об этом пациенту?
– Наоборот. И не собираюсь говорить ему. Если он придет еще раз, приложу все старания к тому, чтобы вытеснить из его головы факты.
– Почему?
– Ему нет еще девятнадцати лет. Это молодой мечтатель-идеалист. И расскажи я ему миф об Эдипе, прибавив, что это рассказ о нем самом, он убил бы или себя, или меня. Это было бы печально для обеих сторон, но всего печальнее для первой.
Комиссар улыбнулся несколько недоуменно.
– Эдипе? – спросил он.
– Разве вы не помните мифа о царе Эдипе? Ему было предопределено судьбой убить своего отца и жениться на матери. И Нестор нашей науки клянется честным словом, что, если бы каждый из нас давал волю своим врожденным инстинктам, такая трагедия разыгрывалась бы чаще всего в нашем мире.
Отвращение выразилось на лице комиссара. Он отставил от себя стакан.
– Да нет, вы сами не верите в то, что говорите! – почти взвизгнул он. – Убить своего отца… и это называется наукой! Это самое омерзительное, что я слышал в моей жизни!
Доктор одобрительно кивнул головой.
– Ну да, врожденные инстинкты не так уж хороши, – согласился он. – Какой-то философ сказал, что наибольшее чудо, какое ему известно, это город – любой город, – потому что тысяча существ, главный инстинкт которых убивать, живут вместе, не бросаясь в остервенении друг на друга. Но если Нестор нашей науки не ошибается, то страсти, которые живут в нас в зрелом возрасте, весь наш ужасный эгоизм и все его проявления – это ничто в сравнении с тем, что было заложено в нас в детском возрасте!
– Ах, оставьте, он совершенно не прав! Этого быть не может! – воскликнул комиссар. – Остерхаут, горькой!
– Ну подумайте, – сказал доктор. – Разве все наше развитие до момента рождения не представляет как бы итог развития всего нашего рода? Разве мы не должны проделать соответственное духовное развитие? Мы появляемся на свет с инстинктами всех наших предков. Впоследствии они сдерживаются под влиянием воспитания и дисциплины, но они проявляются затем снова, и где? – в наших снах! Там мы появляемся такими, какие мы есть на самом деле. Во сне мы совершаем поступки, на которые не решаемся бодрствуя! Во сне мы впадаем снова в свойственное нашему детству необузданное самовозвеличивание, и в нем нет недостатка ни в неудержимом стремлении к обладанию, ни в ревности или кровожадности – уверяю вас. Вы смотрите назад на это детство сквозь завесу тридцати-сорока лет и говорите, что оно было невинно! Оно было бессознательно, но отнюдь не так невинно, как вы думаете! И Нестор моей науки…
– Не хочу больше слышать о его омерзительных утверждениях, – проговорил комиссар дрожащим голосом. – Остерхаут, горькой!
– Возможно, что он заходит слишком далеко, – согласился доктор. – Из того, что он был основоположником анализа, составившего целую эпоху, отнюдь не следует, что он должен быть непогрешимым теоретиком. Знаете, даже я нахожу, что он слишком обобщает! Одно только верно: столкнись он с таким случаем, как у меня…
– Вы всё настаиваете на этом случае. А может быть, вы мне назовете фамилию? Конечно, я никому не скажу ее. Или профессиональная тайна не позволяет этого?
– Все, что доверяется мне, доверяется как духовному отцу, – ответил доктор. – Но, друг мой, я знаю вас и знаю, что вы не болтун. Его зовут – приготовьтесь к неожиданности – Аллан Фиц-Рой.
Комиссар отставил от себя стакан.
– Почтовый ящик 526? – спросил он.
– Почтовый ящик 526.
Комиссар долго сидел, о чем-то думая.
– Убить своего отца, – пробормотал он, – и…
Не окончив фразы, он залпом выпил горькую.
Когда доктор Циммертюр и он вышли из погребка, хриплые голоса выкрикивали о выходе «Вечерней газеты». И увидев один из заголовков, оба поспешили купить по экземпляру газеты.
«Таинственная смерть» – вот что стояло в заголовке. «Джеймс Фиц-Рой найден мертвым в своей обсерватории».
Убийство?
Комиссар посмотрел поверх газеты на доктора взором, в котором светилось подлинное уважение.
Что же касается доктора, то его круглое лицо стало бледным, как молодой месяц.








