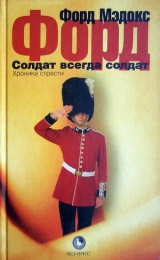
Текст книги "Солдат всегда солдат. Хроника страсти"
Автор книги: Форд Мэдокс Форд
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 18 страниц)
Да, таков был Эдвард Эшбернам, и я полагал, таковы обязанности, накладываемые на каждого с его званием и общественным положением. Возможно, так оно и есть – однако, дай бог мне, например, исполнить мой долг столь же безупречно, как это делал он. Но, должен сказать, если б не бедная девочка, я бы его не оценил в полной мере, несмотря на все мое восхищение. Ее уважение к нему было так велико, что я не могу не разделять его хотя бы отчасти, хотя до сих пор не понимаю всех тонкостей английского уклада. В тот последний приезд в Наухайм она была с Эдвардом и Леонорой.
Звали ее Нэнси Раффорд: единственный ребенок единственной подруги Леоноры. Она приходилась девочке опекуншей, если я правильно понимаю. В семье Эшбернамов Нэнси жила с тринадцати лет, после того как ее мать, не выдержав жестокого обращения отца Нэнси, покончила с собой. Вот такая веселая история…
Эдвард всегда называл ее «девочка», и это звучало очень мило: ведь они были друг другу как родня. Леонору же Нэнси просто боготворила: не было для нее на земле – и на небесах – людей дороже. Никому не желала она зла, бедняжка…
Так вот, она могла часами петь дифирамбы своему Эдварду, но, я уже говорил, я не очень сведущ в тонкостях английской табели о рангах. Кажется, его наградили D. S. О., [52]52
D. S. О. – орден за выслугу лет.
[Закрыть]и в полку за него готовы были идти и в огонь и в воду. Полк, кстати, был на очень хорошем счету. А еще у Эдварда была медаль с бантом Королевского гуманитарного общества. Судя по всему, он дважды прыгал с борта военного судна, спасая, как выражалась девочка, «солдатиков», смытых волной то ли в Суэцком канале, то ли где-то еще. Его дважды представляли к V. С. [53]53
V.C. —Крест королевы Виктории.
[Закрыть](правда лично мне это ни о чем не говорит), и, хотя из-за каких-то проволочек ему не досталась эта высокая награда, зато на коронации ему выделили почетное место рядом с его Высочеством. А может, – я, право, не помню, – и какую-то должность среди гвардейцев Тауэра. По ее рассказам выходило, что он нечто среднее между Лоэнгрином и шевалье Баярдом. [54]54
Лоэнгрин и шевалье Баярд– Нэнси уподобляет Эдварда двум самым романтичным и мужественным рыцарям в истории европейской культуры: легендарному Лоэнгрину,рыцарю Лебедя, и французскому солдату, «рыцарю без страха и упрека» Пьеру Баярду(1473–1524).
[Закрыть]Как знать, может, так оно и было… Однако сам он никогда ничем подобным не хвалился и вообще больше молчал. Помню, примерно тогда же я попросил его объяснить, что такое D. S. О., и вместо ответа он буркнул: «А, это такая штука, которую вручают бакалейщикам, которые во время боевых действий бесперебойно поставляли армии выхолощенный кофе». Вот и весь ответ. Он меня не убедил, и я обратился с тем же вопросом к Леоноре. Спросил ее «в лоб», без обиняков – правда, предварив вопрос кое-какими оговорками вроде тех, что я только что сообщил вам: мол, трудно по-настоящему узнать человека, если ваш знакомый – представитель английской нации. Итак, спрашиваю, не считает ли она своего мужа личностью выдающейся, по крайней мере, в том, что касается его гражданской позиции? Она явно не ожидала от меня подобного любопытства. Я сужу по тому удивленному, я бы даже сказал, изумленному взгляду, который она бросила, если допустить, что Леонора вообще способна изумляться.
«А вы сомневались? – ответила она вопросом на вопрос. – Если посмотреть, то ни в одном из трех соседних графств вы не найдете более замечательного человека, чем он, как бы вы ни старались, – замечательного в том смысле, о каком вы говорите. – И, посмотрев на меня задумчиво, добавила: – Никто не смог в полной мере воздать должное моему мужу. Как гражданин он слишком крупная личность».
«В таком случае, – заметил я, – он настоящий Лоэнгрин и Сид [55]55
Сид. – В отличие от Нэнси, Леонора подчеркивает в муже гражданское начало, сравнивая Эдварда с Сидам,героем национального испанского эпоса «Песнь о Сиде».
[Закрыть]в одном лице. Кстати, по каким же еще меркам судить о человеке, как не по общественным, гражданским?»
Тут она снова посмотрела на меня испытующе.
«Вы вправду считаете, что только так можно судить о человеке?»
«Ну, – сказал я весело, – вы же не станете осуждать его за то, что он далеко не идеальный семьянин или, скажем (хотя это вовсе не так), не лучший опекун для вашей подопечной?»
Она долго не отвечала, уйдя в себя, – со стороны казалось: она стоит, словно прижав к уху морскую раковину, и вслушивается в шум моря. Уже потом она призналась мне, что, слушая мою шутливую тираду, она смутно ощутила – подумать только! – первые подземные толчки той будущей трагедии, которая была уже так близко, хотя до этого они лет восемь жили очень спокойно, и девочка жила вместе с ними.
«Да нет, я вовсе не хочу сказать, что он плохой семьянин или не печется о девочке».
Тогда я выпалил:
«Знаете, Леонора, даже жена замечает не все. Мужчина смотрит шире. Уверяю вас, за все годы, что я знаю Эдварда, он ни разу не воспользовался вашим отсутствием, чтоб обратить на себя внимание другой женщины – ни словечком, ни взглядом. Я бы заметил – такие вещи от меня не ускользают. И он всегда говорит о вас как об ангеле небесном».
«Я знаю, – тут же парировала она без всякого перехода. – Я знаю, он всегда очень мило обо мне отзывается».
Думаю, подобные разговоры для нее не новость: она привыкла к восторженным отзывам о преданном и обожающем ее супруге. Половина людей, знавших Эдварда и Леонору, – нет, абсолютно все, кто их знал, – полагали, что обвинение, вынесенное Эдварду по килсайтскому делу, это судебная ошибка, основанная на ложных показаниях, сфабрикованных врагами из общины неортодоксов. Но я-то каков дурак! Слепец…
2
Дайте вспомню, где же мы тогда были. Ах да… разговор этот случился 4 августа 1913 года. Помню, я сказал ей, что именно в этот день, девять лет назад, мы познакомились, поэтому, естественно, мне хочется произнести небольшую поздравительную речь в честь моего друга Эдварда. Я с удовлетворением могу сказать, что за все это время у меня не возникло ни малейшего повода усомниться в нашей дружбе, а ведь мы вчетвером столько путешествовали. Для людей, находящихся вместе безотлучно, добавил я, это большое достижение. Я надеюсь, вы поняли, что мы бывали вместе не только в Наухайме. У Флоренс были свои планы, и с ними приходилось считаться.
Я сейчас просматриваю свой дневник и вижу, что Эдвард сопровождал нас с Флоренс в Париж 2 сентября 1904 года и оставался у нас до 21-го. Потом он еще раз приезжал к нам в декабре того же года – первого года нашего знакомства: уж не тогда ли он выбил зубы Джимми? Боюсь, Флоренс для этого его и пригласила. В 1905 году он был в Париже трижды – один раз вместе с Леонорой, приезжавшей обновить гардероб. В 1906 году мы полтора месяца вместе гостили в Монтане, а на обратном пути в Лондон Эдвард заехал в Париж и какое-то время жил у нас. Вот так все и происходило.
Все бы ничего, да только в лице Флоренс бедняга встретил разбойницу: Леонора рядом с ней – чистое дитя. Думаю, он вскоре света белого невзвидел. Ведь для чего удерживала его Леонора? Она это делала ради – как бы точнее выразиться? – ради блага своей Церкви: она хотела доказать, что католички не разводятся с мужьями. Оставим пока эту версию. Может, я потом еще напишу о ее намерениях. Но Флоренс держалась за Эдварда совсем по другой причине: он владел родовым поместьем ее предков. К тому же он был еще и страстным любовником. И все равно – я уверен: трех лет даже таких прерывистых отношений и жизни, которую она ему устроила, ему вполне хватило.
Ведь дело доходило до смешного. Стоило Леоноре упомянуть в письме, что у них гостит знакомая, – или даже просто упомянуть в письме ко мне какую-то женщину, в Брэншоу мигом летит телеграфом отчаянная шифровка этому несчастному: явиться к ней и доказать свою верность, иначе она тут же, ко всеобщему ужасу и позору, откроет их связь. Он-то, я думаю, не испугался бы: бросил Флоренс и признался бы начистоту. Но он знал, что Леонора этого ему не простит. Она давно внушила ему, что, если до меня дойдет малейший намек на действительное положение дел, она отомстит ему так, что он будет помнить об этом всю оставшуюся жизнь. А ему и так приходилось несладко. Чем дальше, тем требовательней становилась Флоренс. Заставляла его целоваться открыто, среди бела дня. Уговаривала уехать вместе с ней, и единственное, чем он сумел урезонить ее, – сказал со всей определенностью, что разведенная женщина никогда не сможет занять высокое положение в графстве Хемпшир. Да, ему приходилось туго.
Ведь Флоренс была уже не та. На многое смотрела гораздо спокойней, беззаботней, если угодно, и под настроение готова была выложить мне все – ни больше ни меньше. Признавалась, что и ей становится все труднее скрывать от меня истинное положение вещей.
Итак, она готовилась обо всем рассказать мне, заручиться согласием на развод и уехать с Эдвардом в Калифорнию – навсегда. Правда, едва ли это было всерьез. Ведь в этом случае рушились ее надежды, связанные с поместьем Брэншоу. Недаром она взяла себе в голову, что у Леоноры чахотка – подумать только, у Леоноры, которая всегда отличалась завидным здоровьем! Стоило нам троим сойтись вместе, она сразу же начинала уговаривать Леонору сходить к доктору. И тем не менее бедный Эдвард, похоже, не исключал вероятности, что она сумеет довести задуманное до конца и заставит его уехать. Конечно, до этого не дошло бы: он слишком дорожил своей женой. Но если бы Флоренс допекла его, тайна открылась бы, – шила в мешке не утаишь, я бы тоже узнал, и тогда Эдварду точно не избежать Леонориной мести. А она-то знала, как его проучить, – у нее было наготове не меньше дюжины способов. И будьте уверены, она не успокоилась бы, не испробовав каждый. Наказывая его, она щадила мои чувства. Она уже тогда знала, что самой тяжкой мукой для него станет ее отказ увидеться с ним…
Надеюсь, теперь все ясно. Позвольте мне прийти к 4 августа 1913 года, – как оказалось, последнему дню моего полного неведения и – уверяю вас – бесконечного счастья. Приезд нашей драгоценной девочки только все обострил.
В общем, сижу я в гостиной 4 августа с довольно мерзким типом по имени Бэгшо – он приехал поздно вечером и к ужину не успел. Леонора уже ушла спать, а я поджидал Флоренс, Эдварда и девочку – они вместе ушли в казино на концерт. Впрочем, не вместе. Флоренс, помнится, сначала решила остаться с Леонорой и со мной, а Эдвард с девочкой отправились на концерт вдвоем. И тут вдруг Леонора возьми и скажи Флоренс – спокойно, как бы между прочим:
«Жаль, что вы не пошли вместе с ними. Девочка выросла, и ей нужно сопровождающее лицо, когда она идет с Эдвардом в публичное место».
И Флоренс – как всегда, легка на подъем – отправилась вслед за ними. В тот вечер она была в черном в знак траура по кому-то из родственников. Американцы в этих вопросах – народ щепетильный.
Мы остаемся сидеть в гостиной часов до десяти, потом Леонора уходит спать. Днем было очень жарко, и только к вечеру повеяло прохладой. Тип этот по имени Бэгшо сначала читал «Таймс» в другом конце комнаты, а тут, увидев, что я остался один, подобрался поближе, задав для приличия какой-то пустяковый вопрос, чтоб завязать разговор. По-моему, что-то про подушный налог с клиентов лечебницы и возможность увильнуть от уплаты. Скользкий тип, одним словом.
С виду военный – такого сразу выдает офицерская выправка; глаза навыкате, на собеседника не смотрит; судя по бледному цвету лица, любит втайне предаваться порокам и при этом питает явную слабость к знакомствам на стороне. Нечистоплотный, грязный тип – сразу видно…
Начинает рассказывать, что он из местечка Ладлоу под Ледбери. Название кажется знакомым, но вспомнить не могу. Тогда он вспоминает, как отбывал воинскую повинность на уборке хмеля, в Калифорнии, как ездил в Лос-Анджелес, и явно пытается нащупать тему разговора, которая была бы интересна мне.
И тут внезапно посреди освещенной мостовой я вижу Флоренс – она бежит, ничего не видя, к отелю. Как сейчас помню: белое как мел лицо, рука на груди, чуть выше сердца, сжимает черный креп. У меня дыхание остановилось: говорю вам, я не мог двинуться с места. Она проскакивает турникет и замирает на пороге гостиной. Обводит ничего не видящими глазами плетеные стулья, столики, газеты. Задерживает взгляд на мне, судорожно ловит ртом воздух, пытаясь что-то сказать. Видит моего собеседника – всплескивает руками, проводит растопыренными пальцами по глазам, словно хочет стереть их с лица. И все – нет ее.
Я застываю на месте: не могу пошевелить и пальцем. И тут рядом слышу хохоток: «Боже правый, никак, Флоренс Хелбёрд!» Какой, однако, неприятный, елейный тон у этого господина. Он всячески старается вызвать к себе расположение.
«Знаете, кто это? – спрашивает меня. – Последний раз я видел эту барышню, когда она выходила в пять утра из спальни молодого человека по имени Джимми. В моем доме в Ледбери. Вы заметили? – она узнала меня». Он говорит это, стоя и глядя на меня сверху. Я в полной растерянности – наверное, я выгляжу смешно. Он хмыкает и бросает коротко:
«Знаете…» – и больше мистера Бэгшо я не видел. Не знаю, сколько я просидел в гостиной. Потом заставил себя подняться и пошел в комнату Флоренс. Дверь спальни была не заперта – первый раз за всю нашу супружескую жизнь она оставила дверь открытой. Она лежала на постели – вполне пристойно, словно заранее приготовившись, в отличие от миссис Мейден. В правой руке она сжимала пузырек с амилнитратом. Это случилось 4 августа 1913 года.
Часть третья
1
Поразительно, но из последующих событий той ночи мне не запомнилось ничего, кроме слов Леоноры:
«Конечно, женитесь». А когда я спросил ее, на ком, она ответила:
«На девочке – вы же сами сказали».
Ну и ну! Не перестаешь удивляться, что за мрак – человеческая душа и с помощью каких подчас невероятных средств он начинает рассеиваться. Ведь у меня и в мыслях не было жениться на девочке; я и думать о ней никогда не думал. Но вот, видимо, проговорился в забытьи, как бывает после анестезии. Будто у человека двойное дно и оба его «я» никак не сообщаются друг с другом. В мыслях у меня ничего такого не было, а вслух я понес какую-то дичь.
Впрочем, я не собираюсь заниматься здесь самокопаньем. Самоанализ едва ли имеет прямое отношение ко всей этой истории, иначе я уделил бы ему гораздо больше внимания. Но дело в том, что эта моя неожиданная оговорка той ночью не осталась без последствий. Я хочу сказать, Леонора, возможно, и не стала бы посвящать меня во все подробности взаимоотношений Флоренс и Эдварда, не скажи я тогда ни с того ни с сего, через два часа после смерти жены:
«Ну вот, теперь я свободен и могу жениться на девочке».
Она поняла мои слова так, что мы с ней товарищи по несчастью: все эти годы она страдала, и я тоже страдал, или, по крайней мере, как и она, закрывал на многое глаза. И вот через месяц после описываемых событий, спустя неделю, как умер бедный Эдвард, а я стал поговаривать об отъезде из Брэншоу, она как бы вскользь, ясно, неспешно – только она так умеет – замечает:
«Да оставайтесь здесь навсегда и живите, если нравится. – И добавляет: – Вы мне теперь как брат, как советник – мне не на кого больше опереться. Только вы один можете меня утешить. А ведь подумать только – все могло быть совсем по-другому, не будь ваша жена любовницей моего мужа. Вас здесь вообще могло бы не быть».
Вот так я узнал правду – без прикрас. Я ничего не ответил, да и что было говорить? Я ничего не чувствовал, разве что тем безотчетным «я», которое живет почти в каждом. Возможно, когда-нибудь я забудусь настолько, что приду на могилу бедняги Эдварда и плюну. Но сейчас мне кажется, я никогда не решился бы на такое. И все же как знать…
Нет, чувств никаких не было, только ясное, холодное отношение к самой ситуации – то же самое бывает, когда слышишь о том, что у миссис такой-то всё складывается au mieux [56]56
Как нельзя лучше (фр.).
[Закрыть]с таким-то господином. Любопытно, но это многое упростило. Так случается: кажется, сидишь хмурым ноябрьским вечером, уставившись в одну точку, а начнешь потом вспоминать, и многое из того, что представлялось необъяснимым, вдруг сложится в ясную, понятную картину. Только я тогда вообще ни о чем не думал. Это я отчетливо помню. Я просто сидел, откинувшись в глубоком кресле, – не скажу, что мне было очень удобно. Это я помню. И еще помню, были сумерки.
Поместье Брэншоу находится в небольшой низине, по окоему которой разбегаются живописные лужайки и опушки с островками сосен. В непогоду кажется, что ветер со стороны леса завывает у тебя над головой. В тот вечер вид из окна был совершенно мирный и тихий. Ни шороха кругом, если не считать легкой возни кроликов на дальнем конце лужайки. Мы расположились у Леоноры в кабинете и ждали, когда подадут чай. Я уже сказал, что я сидел в глубоком кресле, а Леонора стояла спиной ко мне и смотрела в окно, машинально вертя в руке деревянный желудь, украшавший конец шнура от оконной шторы. Помню, не отрывая глаз от лужайки, она вдруг сказала:
«Всего десять дней, как Эдвард умер, а кролики уже тут как тут».
Если я правильно понимаю, кролики портят англичанам их зеленые лужайки, и их нещадно истребляют. Тут Леонора повернулась ко мне и сказала без прикрас, буквально следующее:
«По-моему, Флоренс сглупила, наложив на себя руки».
Мне трудно объяснить вам, в каком состоянии полной растерянности мы оба находились в тот момент. Мы никуда не торопились – ни на поезд, ни к обеду. Нам некуда было спешить. И мы уже ничего не ждали. Нечего было ждать.
Где-то там вверху слышен был отдаленный прерывистый гул ветра, а здесь, внизу, было невероятно тихо. В небольшом, коричневых тонов, кабинете царил полумрак. И больше в целом мире, казалось, ничего нет.
Тут я понял, что Леонора хочет быть со мной до конца откровенной. Мне почудилось – хотя так оно и было на самом деле, – что она из чувства приличия, столь сильного в англичанах, не стала заводить этот разговор сразу после кончины Эдварда, а решила отложить его на несколько дней. Поэтому и я тоже, из безотчетного желания поддержать ее стремление к откровенности, сказал, медленно подбирая слова – ручаюсь за их точность:
«Разве это было самоубийство? Я не знал».
Видите ли, своим вопросом я пытался дать ей понять, что, если уж она решила быть со мной откровенной, ей придется говорить и о том, о чем она вначале, может, и не предполагала упоминать.
Вот так я впервые узнал, что Флоренс покончила с собой. Самому мне это никогда не приходило в голову. Возможно, вы думаете, что я излишне доверчив и начисто, до идиотизма, лишен подозрительности. И все же войдите в мое положение.
Когда случается что-то чрезвычайное: кругом шум, крик, столпотворение, особенно в таком публичном месте, как гостиница, где хозяин по долгу службы сразу закрывает рот на замок, а «приличные» клиенты, вроде Эшбернамов, ни за что не позволят себе проронить неосторожное слово, – в таких случаях, согласитесь, твой взгляд всегда почему-то задерживается на какой-то малозначащей внешней детали и она целиком поглощает твое внимание. Я уже вам говорил, что и мысли не допускал о самоубийстве Флоренс, и поэтому, заметив зажатый в кулаке пузырек с каплями амилнитрата, я не задумываясь решил, что у нее не выдержало сердце. Вы, конечно, знаете, что амилнитрат – это сердечное, которое принимают при грудной жабе.
«Приступ» – вот первое, о чем я подумал, увидев из окна гостиной бегущую, с белым как мел лицом, хватающуюся за сердце Флоренс. И я еще больше укрепился в этой мысли, когда, минуту спустя, увидел ее, распростертую на постели, с зажатым в кулаке и таким знакомым коричневым флакончиком. Так ведь уже бывало, что она выходила на прогулку без лекарства, а когда вдруг в саду начинался приступ, бежала назад, в комнату, за пузырьком с амилнитратом, и он помогал ей. А в этот раз – продолжал я рассуждать логически – сердце, видно, не выдержало перенапряжения и остановилось. Откуда же мне знать, что все эти годы, пока мы были женаты, она хранила во флакончике не амилнитрат, а синильную кислоту? Это невероятно!
Настолько невероятно, что даже Эдвард Эшбернам, который, что ни говори, знал ее ближе, – даже он не подозревал об истинной причине смерти. Он так же, как я, думал, что у нее не выдержало сердце. Вообще, по-моему, о том, что это самоубийство, могли знать только четверо: Леонора, великий князь, начальник полиции и хозяин гостиницы. Я сказал «могли знать», а не «знали наверняка» лишь потому, что та ночь у меня в памяти осталась сплошным розовым пятном, как от электрического бра с розовыми абажурами в гостиной. Стоило подумать о той ночи, сразу в сознании всплывали лица этих троих, точно три размытых пятна, три светильника. То выдвигалась вперед голова великого князя – нельзя не узнать это благородное лицо с ухоженной бородкой, властным и одновременно доброжелательным выражением глаз. То почти вплотную придвигалось хищное, загорелое лицо начальника полиции с характерным, по-кавалерийски закрученным усом. То вдруг набегало, как рябь на воде, что-то шарообразное, блестящее, в высоком, тугом, подпирающем щеки воротничке, и ты понимал, что перед тобой месье Шонц, хозяин отеля. Иногда торчала только одна голова, иногда рядом с ухоженной лысиной князя появлялся островерхий германский шлем, а иногда между ними вдруг протискивалась физиономия месье Шонца с напомаженными кудрями. Тишину нарушал вкрадчивый, масленый, хорошо поставленный голос монаршей особы, повторявший: «Ja, ja, ja», да глухой бас представителя власти, гудящий набатом: «Zum Befehl Durchlaucht» [57]57
Слушаюсь, наша светлость (нем.).
[Закрыть]о пяти слогах, да еще гнусавый голос месье Шонца, который бубнил себе под нос одно и то же, как монах в грязной сутане бормочет что-то, склоняясь над четками в углу железнодорожного вагона. Так я это запомнил.
По-моему, им вообще до меня не было никакого дела; они даже ни разу обо мне не вспомнили, не обратились ко мне, не назвали по имени. Но по какому-то негласному сговору не они, а я как единоличный обладатель трупа пользовался правом присутствовать при их обсуждениях, коль скоро то один, то другой, то все трое находились рядом. Потом они разошлись, и я остался один.
В голове было пусто; совершенно пустая голова. Ни мыслей, ни сил. Плакать, спешить, рваться наверх, чтобы упасть на тело родной жены, не было ни малейшего желания. Я тупо смотрел на расплывающиеся розовым пятном стены, на плетеные столы, пальмы, круглые спичечницы, резные пепельницы. Потом ко мне подошла Леонора, и тут я, похоже, и выдал эту поразительную фразу:
«Теперь я свободен и могу жениться на девочке».
Я доподлинно пересказал вам все, что помню о том вечере и о последующих трех-четырех днях. Я был на грани нервного срыва. Мне говорили лечь в постель – я не сопротивлялся; приносили одежду – я одевался; подведите меня к незасыпанной могиле – я стоял бы и смотрел. Со мной можно было делать все, что угодно, – приведите меня на берег реки и скажите «Прыгай!», я прыгну и утону; толкните меня под колеса идущего поезда, я брошусь и не пикну. Я был ходячим трупом.
Во всяком случае, я это так воспринимал.
На самом же деле произошло вот что. Я уже после разобрался. Помните, я говорил, что той ночью Эдвард с девочкой отправились на концерт в казино, а Леонора не мешкая попросила Флоренс пойти за ними и выступить в качества дамы, сопровождающей барышню? Так вот, Флоренс, если вы обратили внимание, была вся в черном, в знак траура по скончавшейся племяннице Джин Хелбёрд. Ночь была темная, хоть глаз выколи, а на девочке было платье из светло-кремового муслина, и среди темных стволов высоких деревьев на парковой аллее ее фигурка, наверное, светилась, как фосфоресцирующая рыбка в аквариуме. Лучшего маяка не придумать.
И что еще важно: Эдвард Эшбернам повел девочку не прямо по аллее к казино, а по газону – я об этом знаю с его собственных слов. Я ведь говорил вам про наш последний ночной разговор, когда его буквально прорвало. Я ни о чем его не расспрашивал. Незачем было. В то время я вообще не связывал его с моей женой. Это его понесло, как последнего графомана. А может быть, наоборот, у него получилось как в хорошем романе – читаешь и все представляешь вживе. И, должен сказать, я действительно все вижу яснее ясного, точно мне снится один и тот же сон. Так вот, по его рассказу выходит, что они с девочкой присели на парковую скамейку. Хотя вокруг было темно, до места, где они сидели, все-таки доходил свет от ярко освещенной концертной эстрады, – деревья в парке были редкие, – раз Эдвард, по его словам, отчетливо видел лицо девушки, – знакомые любимые черты: высокий лоб, нервный рот, ломаную линию бровей, открытый прямой взгляд. Флоренс же, подкравшись сзади, наверное, различала перед собой два темных силуэта. Конечно же, она кралась сзади – я готов руку дать на отсечение! Она неслышно прошла по газону и встала у дерева, что прямо за скамейкой, – я очень хорошо его помню. Согласитесь, это не сложно сделать женщине, снедаемой ревностью. Оркестр в это время, как потом вспоминал Эдвард, наяривал Марш Ракоши, [58]58
Марш Ракоши– Марш Ференца Листа (1811–1886).
[Закрыть]но они все-таки сидели в отдалении от эстрады. Во всяком случае, голос Эдварда звуки оркестра не заглушали, а вот ночной шум и шорох шагов Флоренс, шуршание ее платья, конечно, скрадывали. Так что притаившаяся за деревом ревнивица слышала все от первого до последнего слова. Мне ее жаль. Для нее это был удар. Жуткий удар. Ну что ж, поделом.
Представляете: высоченные деревья, все больше вязы; крон и верхушек почти не видно, они теряются где-то в вышине, в ночной темной дымке; на скамейке двое, полуосвещенные силуэты; из-за дерева боязливо выглядывает женщина в черном. Мелодрама, да и только! Но ничего не поделаешь.
Именно в эти минуты, потом рассказывал Эдвард, на него что-то нашло. До того момента, уверял он меня – и, признаюсь, у меня нет оснований ему не верить, – у него и в мыслях не было ухаживать за девочкой. Она всегда была для него как дочь. Он и любил ее по-отцовски – глубоко, нежно и очень преданно. Когда она уезжала в школу, к сестрам-монахиням, он скучал и, наоборот, радовался, когда приезжала на каникулы. Но о большем он и думать не думал. А если б вдруг подумал, клялся он мне, ноги б его в доме не было. Бежал бы из дома как чумной. Он прекрасно понимал, что, случись такое, Леонора ему не простит. Но в том и дело, что он ни о чем подобном и не помышлял. Приглашая девочку пройтись по темной аллее, он не ощущал учащенного сердцебиения; он ни сном ни духом не рассчитывал воспользоваться близостью, которую дает уединение. Он собирался потолковать с ней о спортивной породе пони, теннисных ракетках; расспросить ее о преподобной матушке, настоятельнице монастыря, где она училась, посоветоваться насчет цвета платья к балу, который они собирались устроить по возвращении, – белое заказывать или голубое. Он не допускал, что разговор их может выйти за рамки привычных тем; ему не приходило в голову, что какая-нибудь мелочь может заставить его перейти границы. И вдруг неожиданно такое…
Он взвешивал каждое слово, пытаясь уверить меня, что в ту минуту, когда все случилось и он вдруг заговорил с ней, никакого физического влечения он не испытывал. Темнота, и то, что они сидели рядом, и вообще вся обстановка ни при чем, считал он. Нет, по его словам, он говорил исключительно о нравственном воздействии, которое ее пребывание в их доме оказывает на его жизнь. Он клялся, что не думал об объятиях – он даже руки ее стеснялся коснуться. Божился, что так и не дотронулся ни разу. Мол, так они и сидели – на разных концах скамейки: он – слегка склонившись в ее сторону, в полутени, она – глядя в сторону освещенной эстрады, вся на свету. Выражение лица у нее было «странное» – он не мог подобрать другого слова.
Правда, по его рассказу получалось, что она была довольна. Я вполне это допускаю, ведь она не знала тогда, что на самом деле происходит. Она не скрывала, что обожает Эдварда Эшбернама. Он был для нее образцом во всем – в отношении к людям, героизме, спорте, любви к родине, законопослушании. Естественно, услышать именно от него в свой адрес похвалу, да еще высказанную так неожиданно, доверительно, от всего сердца, было для нее несказанной радостью. Подумать только: твой кумир похвалил твое рукоделие, его Величество оценили верноподданного! Она просто сидела и таяла, улыбаясь тайком.
О чем она думала? Возможно, о том, что разом отошли в прошлое детские кошмары – безумные сцены, которые устраивал ее отец, заводившийся с пол-оборота, причитания ее злой на язык мамаши. Наконец-то она им всем отомстила. Ведь если задуматься, то внезапное страстное признание человека, который для тебя одновременно и святой, и отец, может показаться хотя бы отчасти просто наградой за хорошее поведение, я хочу сказать, его вовсе не обязательно рассматривать как попытку соблазнить девушку. Тем более что она ни минуты не сомневалась в его твердой привязанности к Леоноре. О супружеской неверности вообще не могло быть речи. О няне Эдвард всегда ей говорил только с обожанием и глубоким волнением. Он сам своим отношением внушил ей, что Леонора в его глазах безупречна и лучшей супруги и желать нельзя. Их брак она воспринимала как знак особой благодати, на которую ее Церковь взирает с благосклонностью и всемерным почтением.
Поэтому, услышав, что дороже ее у него нет никого на свете, она, естественно, подумала, что если и дорога ему, то после Леоноры, и почувствовала себя счастливой. Ведь это все равно что получить благословение от родного отца… Только тут до Эдварда дошло, что он делает, и он тут же осекся. Она, слава богу, ничего не заметила и продолжала просто радоваться.
Чудовищнее этого, мне кажется, Эдвард Эшбернам в своей жизни ничего не творил. Хотя я так близко знаю этих людей, что подозревать их в низких поступках или злом умысле я не могу. Все равно Эдвард Эшбернам остается для меня человеком редкой прямоты, достоинства и чести. И мое отношение к нему не поколеблет ничто. Иногда я пытаюсь отрешиться от созданного мной самим идеального образа, припоминая некоторые неблаговидные поступки, но он все равно возвращается ко мне снова и снова, как огромный тяжелый маятник, который нельзя оттолкнуть. Его нельзя забыть – как не забыть тысячи добрых дел, что он совершил, его многочисленные таланты, его незлобивость. Такой редкостный был человек.
Поэтому я и сам замечаю, что невольно хочу оправдать его за случившееся той ночью, как, впрочем, и за многое другое. Безусловно, это чудовищно – пытаться совратить девушку, только что закончившую школу при аббатстве. Только я уверен, что у Эдварда и мысли не было ее совратить. Он просто любил ее – и я ему верю. Так все сложилось, говорил он, и я, во всяком случае, верю ему, как и тому, что по-настоящему он любил только ее. Так вышло – и это не просто слова, он доказал это на деле. И Леонора говорила, что это правда, а уж она-то знала его как никто.
Я стал большим циником в этих вопросах: я хочу сказать, что не нахожу оснований верить в постоянство любви между мужчиной и женщиной. Во всяком случае, не вижу оснований верить в постоянство первой любви. Если говорить о мужчине, то, по-моему, для него любовь – любовь к определенной женщине – что-то вроде обогащения опыта. С каждым новым увлечением мужчина словно расширяет кругозор или, если угодно, завоевывает новую территорию. Поднятая бровь, тембр голоса, особый неповторимый жест – все это, казалось бы, малозначащие подробности, но именно они будят в мужчине чувство любви. Они, как точки на горизонте, будоражат воображение, манят, зовут вперед. Ему хочется проникнуть в тайну этой ломаной линии бровей, стать этой бровкой, если угодно, – взглянуть на мир глазами из-под этих бровей. Ему необходимо услышать, как пропоет на свой лад этот голос каждую фразу, каждую тему. Ему важно увидеть, как смотрится этот неповторимый жест на фоне того, другого. Я не знаток в вопросе сексуального влечения, но, по-моему, не оно определяет по-настоящему сильное чувство. Страсть вспыхивает по пустяшному поводу – поймал нечаянный взгляд, нагнулся завязать ей шнурок: физическое влечение часто оказывается ни при чем. Я вовсе не хочу сказать, что желание близости противоречит большой любви, – напротив, это аксиома, и именно поэтому она не нуждается в комментариях. Существует, и все, со всеми драматическими поворотами, – надо принять это как данность: принимаем же мы за данность то обстоятельство, что герои в романе или биографии довольно часто принимают пищу. И все же не здесь подлинный накал страсти. По-настоящему ненасытное желание, неотвязное, иссушающее душу мужчины, – это стремление раствориться в женщине, которую любишь. Смотреть на все ее глазами, прикасаться к вещам кончиками ее пальцев, слышать ее ушами, забыть себя, и ощутить опору. Что бы ни говорили о взаимоотношениях полов, если мужчина влюблен в женщину, то рано или поздно он понимает, что она нужна ему для того, чтобы чувствовать себя смелым, способным разрубить гордиев узел. Вот главная пружина его страсти. Нам всем так страшно, так одиноко, и все мы так хотим, чтобы кто-то другой уверил нас в том, что мы достойны права на существование.








