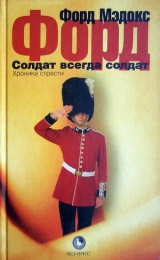
Текст книги "Солдат всегда солдат. Хроника страсти"
Автор книги: Форд Мэдокс Форд
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц)
5
Боже, какое облегчение испытал я, услышав эти слова! Возможно, оттого, что они объяснили мне меня самого гораздо больше, чем раньше. Я вдруг осознал, что вплоть до этого памятного дня мне не очень-то многого и хотелось в жизни – мне вполне хватало одной Флоренс. Нет, разумеется, у меня были свои маленькие слабости. Например, если за табльдотом гостей потчевали паюсной икрой, я всегда приходил в сильнейшее волнение от одной мысли, что мне может не достаться этого лакомства, когда до меня дойдет очередь. Или другой заскок: вечная боязнь опоздать на поезд. Видите ли, у работников Бельгийской Национальной железной дороги вошло в привычку сокращать остановки поездов из Франции в Брюсселе. От таких нарушений графика я просто сатанел. Я даже написал по этому поводу несколько писем в лондонскую «Таймс», но они меня почему-то не напечатали. Зато мои неоднократные обращения по этому же вопросу во французское издание «Нью-Йорк геральд» печатали непреложно, правда, особого удовлетворения эти публикации мне не доставляли. В общем, я был тогда помешан на всех этих мелочах.
Нынче чувства притупились, и я уже не представляю, что могло приводить меня тогда в состояние исступления. Хотя рассудком, наверное, понимаю. Видите ли, в то время я жил в окружении сердечников. Флоренс маялась сердцем, у капитана сердечко пошаливало… А может, на меня действовало присутствие Леоноры. Нет, влюблен я в нее не был. Но у нас с ней была общая забота, и это сближало – во всяком случае, так мне тогда казалось. А забота эта состояла в том, чтобы не дать нашим сердечникам умереть внезапно.
Вы и представить себе не можете, насколько это дело затягивает. Точь-в-точь как кузнец убежден в том, что он всему делу венец, а булочник свято верит в то, что мир держится на своевременной доставке булочек к завтраку, а главный почтмейстер почитает себя единственным хранителем общественного порядка, причем этот невинный вздор нужен всем нам как воздух – точно так же я и, как мне казалось, Леонора были уверены, что мир устроен именно так, единственно чтоб мы могли продлить жизнь нашим близким, которые мучаются сердцем. Вам трудно вообразить, насколько всепоглощающей может стать такая забота – и насколько мелкими, в сравнении с ней, предстают судьбы сильных мира сего, партийная борьба, политика городских властей. Стоило нашей машине въехать на необустроенный участок дороги, где тебя подбрасывает на каждой рытвине или колдобине, а шофер рассыпается в извинениях, как я начинал поносить всех подряд – и наследника престола, и великого князя, и Вольные города, [40]40
Вольные города– Бремен, Гамбург и Любек, которые в Германской империи имели статус независимых государств.
[Закрыть]по чьей территории черт дернул нас поехать. Впрочем, в моем брюзжании было столько же проку, сколько в сетованиях маклера на то, что звон колоколов городского собора мешает ему говорить по телефону. Меня раздражало все – и возрождение интереса к средневековью, и повышение налогов. Между прочим, и мое возмущение тем, что поезда из Кале сокращают остановку в Брюсселе, было вызвано той же заботой: кратчайший путь морем из Англии в Европу – этот единственный, спасительный мостик для сердечников – часто оказывался закрытым. Ведь в Европе есть только две специальные сердечные клиники – в Наухайме и в Спа. Добраться до них из Англии морем можно лишь через Кале с пересадкой в Брюсселе. А разница между прибытием бельгийского поезда и поездов из Кале или Парижа – буквально считанные секунды. И выходит – даже если поезд из Франции идет точно по расписанию, ты должен мчаться сломя голову по незнакомому брюссельскому вокзалу и, запыхавшись, карабкаться по высоким ступенькам уже тронувшегося состава. Представьте, каково это сердечному больному? А не успеешь сделать пересадку, приходится ждать по пять-шесть часов… Помню, я ночами не спал, проклиная эту напасть.
Моя женушка тоже бежала сломя голову, стараясь поспеть на поезд, – в чем другом, а в этом деле она ни разу не дала мне повода усомниться в ее стойкости. Только однажды, когда мы вбежали в вагон германского экспресса и заняли места, она откинулась на спинку дивана, закрыв глаза и положив руку на сердце, давая понять, как ей плохо. Ну что ж, она умела играть. Из-за нее гореть мне в аду. Да-да, в аду, уверяю вас. Ведь страшно подумать – Флоренс была мне и женой, и недостижимой любовницей. Всеми фибрами души старался я удержать ее в этом мире. Эта страсть стала делом моей жизни, заменила мне карьеру, честолюбивые помыслы. Редко все это сходится в одном человеке. Кстати, Леонора тоже была неплохой актрисой. Клянусь, у нее иногда здорово получалось! Представьте, она могла часами слушать мои разглагольствования о том, что нужно сделать для мира и спокойствия на земле. Так вот, во время наших задушевных бесед я, помню, не раз замечал, что думает она о чем-то другом – точь-в-точь как мать слушает вполуха лепет ребенка, играющего у нее на коленях, или как врач, который вроде слушает рассказ пациента, а на самом деле следит совсем за другим.
Надеюсь, вы уже поняли, что с сердцем у Эдварда Эшбернама было все в порядке. Другое дело, что его влекли дела сердечные. Он оставил армию, покинул Индию и объехал полмира, преследуя до самого Наухайма женщину, у которой действительно пошаливало сердце. Каким же нужно быть сентиментальным ослом, чтоб на такое пуститься! Вы же понимаете, что они с Леонорой не от хорошей жизни оказались в Индии. Их нужда заставила сдавать в аренду свой дом в Брэншоу-Телеграф.
Конечно, это я уже после обо всем догадался. А тогда я и знать не знал о килсайтском деле. Оказывается, когда-то давно Эшбернама угораздило поцеловать девушку в вагоне поезда. И сидеть бы озорнику за эту шалость в Уинчестерской тюрьме, если бы не милость божья да срочная телефонограмма и снисходительность хемпширского суда присяжных – по-моему, так он называется. Впервые я услышал об этом дельце уже под конец Леонориных излияний…
Нет, подумать только! Вдумайтесь, прошу вас, я имею на это право – что могло довести беднягу до такого жалкого состояния? Неужели это все игра слепой непостижимой фортуны? Ужели это она нас мучает, а потом безжалостно растаптывает? Никакого другого объяснения мне не приходит в голову. Необъяснимо! А право задавать эти вопросы у меня есть потому, что долгие годы Эшбернам был любовником моей жены, и я знаю, это он убил ее. Это он лишил меня тех маленьких радостей, которые мне еще оставались в жизни. И все же никакой священник не убедит меня в том, что он недостоин прощения. Только у кого его вымаливать – у тебя, мой друг, безмолвно сидящий напротив у камина? У целого света или у Господа, наделившего его такими страстями, таким безумством?..
Нет, конечно, откуда мне было знать о килсайтском деле? Ни с кем из их друзей я не был знаком. Они для меня были просто приличной парой – счастливыми обладателями нескольких сот гектаров земли на юге Англии. Приличные люди, и всё! Господи, иногда я думаю, что для него, для его будущего, было бы лучше, если б то дело со служанкой не замяли. Тогда я о нем бы сразу услышал – ведь сколько таких историй ходит среди служанок, курьеров и завсегдатаев лечебных курортов! Ну пошептались бы, посплетничали, а потом постепенно забыли, может, со временем и пожалели бы – такое тоже случается. Или, допустим, отсидел бы он положенные ему семь лет в Уинчестерской тюрьме или в каком-то другом казенном заведении, куда тебя направляет непредсказуемая слепая рука правосудия за твои естественные, но несвоевременные поползновения. Отсидел бы, а потом все равно настал бы момент, когда собравшиеся на террасе санаторной лечебницы сплетники пожалели бы неудачника – сломанную карьеру все равно уже не вернуть. И остался бы он в памяти у всех, кто его знал, превосходным солдатом, ссутулившимся раньше срока… Для него же самого, человека с репутацией, было бы лучше, если б он пораньше остепенился.
А, собственно, чем лучше? Хватило того, что после килсайтской истории он почувствовал, что Леонора охладела к нему и отдалилась, да и у него самого начал портиться характер. Больше он служанок не трогал.
Как и следовало ожидать, среди женщин своего круга Эдвард слыл более раскованным, чем другие мужчины. Не поверите – Леонора уже после рассказывала, как миссис Мейден – та, которую он преследовал от Бирмы до Наухайма, – уверила ее в том, что обратила на него внимание из-за того, что он настойчиво повторял: служанку он поцеловал только потому, что не утерпел. А я думаю, он просто искал женщину, которая устраивала бы его во всех отношениях, и это бешеное желание доводило его до крайности. Скорей всего, он был искренен. Да простит меня Бог, но я действительно считаю, что его чувство к миссис Мейден было настоящим. Славная, миниатюрная, темноволосая женщина с длинными ресницами – Флоренс чувствовала к ней симпатию. Она мило шепелявила и безмятежно улыбалась. В первый месяц нашего знакомства мы частенько виделись, потом уж узнали, что она умерла – сердце не выдержало.
Только, видите ли, очень уж она была хрупкая, юная, эта наша бедная миссис Мейден. Мне кажется, ей всего-то было двадцать три, а ее муж был и вовсе мальчик – двадцать четыре года, родом из Читрала. [41]41
Читрал– северный район Пакистана, граничащий с афганской провинцией Бадахшан; в конце XIX —? нач. XX в., т. е. во время описываемых в романе событий, Читрал был частью Британской Индии.
[Закрыть]Когда такое случается с молодыми, это особенно обидно. Но разве Эшбернама можно было удержать? Ни за что. Даже я, признаюсь, был в нее немножко влюблен – столько времени прошло, а я до сих пор помню. Подумаю о ней – и невольно улыбаюсь: точно она – что-то очень дорогое, вроде семейной реликвии, которую хранят, вместе с мешочком лаванды, на дне шкатулки в старом доме, где уже давно не живут. Уж очень она была – как бы поточнее выразиться? – покорная. Даже со мной робела – со мной, а меня и ребенок малый не слушался. Да, прескверная история…
Сколько раз я намекал Флоренс, чтоб она не водила дружбу с миссис Мейден – пусть себе та играет в свои шашни, если хочет. Я все-таки думаю, то была игра. Хотя, должен сказать, она казалась таким ребенком, что, наверное, и слова-то такого не знала, «шашни»! Все от ее слабости, покорности – обстоятельствам, безудержным страстям, толкавшим эту несчастную на край гибели. Так что, по большому счету, Флоренс ни при чем. Не она, так другая. Эшбернам нашел бы, ради кого сменить свою сердечную привязанность. Впрочем, не знаю. Плохо, что она умерла, – нет, я не о том, умереть ей все равно было суждено, причем безвременно, – плохо то, что умерла она, обрыдав подушку, слушая изо дня в день у себя под окном, как Флоренс взахлеб рассказывает капитану Эшбернаму о Конституции Соединенных Штатов… Худо, что остался горький осадок оттого, что Флоренс не дала ей отойти с миром…
В каком-то смысле Леонора повела себя честнее, надавав пощечин миссис Мейден. Да-да, отхлестала ее по щекам прямо в коридоре, видимо, застав в тот момент, когда та выходила из комнаты Эшбернама, и потеряв контроль, не владея собой. Собственно, это и послужило толчком к странному, необъяснимому сближению Флоренс и миссис Эшбернам.
Иначе как странным это сближение не назовешь. Посмотреть со стороны – Леонора гордячка, каких свет не видывал, водит дружбу с двумя обыкновенными янки, не достойными и ковром-то быть под ее ногами. Невероятно! Спрашивается, чем же она так гордилась? Да хотя бы своей родословной: ведь она, урожденная Поуиз, была замужем за Эшбернамом! Одно это давало ей право презирать американцев, разумеется, не подавая виду. И вообще, чем только люди не тешат свое тщеславие! Может, она гордилась тем, что не дает Эшбернаму спустить состояние и оказаться банкротом? Кто знает…
Как бы там ни было, история с миссис Мейден их сблизила. Раз перед обедом идя по коридору гостиницы, Флоренс случайно заглянула за ширму и ахнула: стоит Леонора в странной позе – рука занесена над головой миссис Мейден – и молча пытается распутать волосы, обмотавшиеся вокруг золотого ключика, который обыкновенно висел у нее на запястье, а сейчас запутался в прическе ее соперницы. Борьба происходила в полном молчании. Миниатюрная миссис Мейден была бледнехонька, и оттого красное пятно на левой щеке выделялось еще сильнее, а ключик все никак не высвобождался. Вот Флоренс и пришлось им помочь – Леонора была в таком взвинченном состоянии, что ей становилось дурно от одной мысли, что она коснется миссис Мейден.
Заметьте, ни одна не проронила ни слова. Суть в том, что наедине с миссис Мейден Леонора могла позволить себе забыться до такой степени, что отвесила ей пощечину. Однако стоило появиться незнакомой даме, как она моментально взяла себя в руки. Небольшая заминка, и, едва Флоренс освободила ключик, Леонора заметила: «Какая же я, право, неловкая… Хотела поправить гребень в прическе миссис Мейден, и вот, нате…»
Но миссис-то Мейден не была урожденной Поуиз, которая вышла замуж за потомка Эшбернамов. Она была всего лишь бедной маленькой ОʼФлэрти, которая вышла замуж за сына приходского сельского священника. И она разрыдалась – тут не могло быть ошибки: все слышали ее сдавленный плач, когда она шла потрясенная по коридору. А Леонора – та намеревалась доиграть комедию до конца. Она широко распахнула двери мужниной спальной – пусть Флоренс слышит, с какой нежностью и лаской обращается она к своему дорогому Эдварду. «Милый», – позвала она. Но никто не ответил – комната была пуста.
Вы поняли, надеюсь, что Эдварда в спальной не было. И тут, единственный раз за всю свою безупречную жизнь, Леонора действительно себя скомпрометировала. Она воскликнула: «Кошмар!.. Бедняжка Мейзи!..» Тут же осеклась, да было поздно – вылетела птичка, не поймаешь. Да, скверная история…
Поймите меня правильно: я не хочу возводить напраслину на Леонору. Во-первых, я нежно люблю ее, и к тому же эта история, разбившая мое хрупкое семейное счастье, и для нее не прошла даром. Ни я, ни она не верили, что бедняжка Мейзи Мейден была любовницей Эдварда. Просто сердце у нее было настолько слабое, что она готова была упасть на руки любому, кто раскрыл бы объятия. Это если называть вещи своими именами, а я полагаю, нет ничего лучше, чем говорить начистоту. Мейзи Мейден действительно была серьезно больна, тогда как две другие дамы просто притворялись больными, каждая ради собственной выгоды. Любопытно, правда? И какие только злые шутки не играет с нами судьба! При этом, заметьте, я не исключаю, что Леоноре было бы выгодно, если б миссис Мейден стала любовницей ее мужа. По крайней мере, кончились бы сентиментальные сюсюканья Эдварда по поводу бедной крошки и все эти «охи» да «ахи» с ее стороны. Стало бы проще.
А как же пощечина? На самом деле, я думаю, что, хотя Леонора и набросилась с кулаками на миссис Мейден, ополчилась она на весь враждебный, невыносимый мир. Иначе как объяснить, что именно в тот же день у них с Эдвардом произошла тяжелейшая сцена?
Так повелось, что Леонора считала себя вправе вскрывать личную переписку Эдварда. Она вытребовала для себя это право на том основании, что мужнины дела были крайне запущены, ей он постоянно лгал, и, чтоб хоть как-то управлять ситуацией, она должна была знать о его секретах. Другого пути не было: наш бонвиван настолько запутался и застыдился, что сам ни за что бы не признался в своих грешках. Вот ей и приходилось все из него вытягивать.
Благое дело – ничего не попишешь. А в тот самый день, когда случилась история с миссис Мейден, Эдвард после обеда, как обычно, проводил, по предписанию врачей, положенные полтора часа в постели, и Леонора, в его отсутствие, вскрыла письмо – от полковника Харви, как ей показалось. Они с Эдвардом собирались погостить у него месяц в Линлитгоушире в сентябре, но она не знала точно сроки – то ли с 11 сентября, то ли с 18-го. Адрес на конверте был написан от руки, точь-в-точь как у полковника Харви – ни за что не отличишь. У нее и мысли не было за кем-то шпионить.
Но на этот раз ей и впрямь удалось кое-что выследить. Из письма открылось, что Эдвард Эшбернам выплачивает ежегодно около трехсот фунтов – и кому? – шантажисту, о котором она и слыхом не слыхивала… Да, это был удар – в самое сердце. Ей показалось, что теперь она узнала всю подноготную мужа. Тяжелый крест приходилось ей нести, согласитесь.
Подкосила их самая обыкновенная интрижка Эдварда в Монте-Карло – надо ему было приударить за дивой без роду без племени, выдававшей себя за любовницу великого русского князя. За недельные ласки красавица потребовала себе бриллиантовую диадему стоимостью в двадцать тысяч фунтов. Эдвард и сам был бы не прочь выиграть такую сумму в рулетку, да только игрок из него был никудышный. А что, если все-таки повезет и он выиграет, да еще этих денег хватит, чтоб заплатить за гостиницу, где тоже набежит не маленькая сумма, пока он развлекается с красоткой? В то время состояние его тянуло тысяч на пятьдесят с лишним фунтов стерлингов.
И что вы думаете? Он идет, ставит и проигрывает сорок тысяч… Сорок тысяч чистыми, да еще взятых в долг под высокий процент! Но даже это его не остудило – страсть-то кипит! – и он по-прежнему домогается внимания и ласки своей красавицы. Разумеется, получает все сполна, когда дело доходит до обсуждения конкретной суммы, – причем, поторговавшись, получает причитающееся за гораздо меньшие деньги, чем предполагалось вначале. Так стоило ли огород городить? Чека на десять тысяч хватило, чтоб покрыть все затраты.
Естественно, после такой эскапады в семейном бюджете Эшбернамов образовалась солидная брешь тысяч эдак в сто. Вот и пришлось Леоноре изыскивать способы, как ее закрыть: Эдвард ведь только и умел, что бегать по ростовщикам. Хорошо, Леонора предприняла шаги сразу, как только узнала о мужниной интрижке. Ведь о его супружеской неверности, об этой истории с любовницей великого князя, ей стало известно из публичных источников. Бог его знает, чем бы все закончилось, не узнай она из надежных каналов. Наверное, скрывал бы от нее, пока б не разорились. Но, хвала Всевышнему, ей повезло – она отыскала «доброхотов», ссудивших Эдварду деньги, и узнала точно, какую сумму и кому он задолжал. После этого она заторопилась в Англию.
Да, пока Эдвард млел в объятиях своей Цирцеи в Антибе, [42]42
Антиб —курортный город на Лазурном берегу (Франция).
[Закрыть]куда они скрылись подальше от людских глаз, Леонора, не теряя ни минуты, направилась к их семейному адвокату. И хота Эдвард довольно быстро охладел к красотке, к тому времени у Леоноры, благодаря урокам адвоката, уже составилась настолько ясная картина финансовых дел ее мужа, что в голове у нее созрел план ничем не хуже, чем у генерала Трошу в 1870 году, [43]43
Речь о событиях франко-прусской войны 1870–1871 гг. Военным комендантом Парижа в те дни был генерал Луи Жюль Трошу(1815–1896). После поражения французской армии в битве при Седане в сентябре 1870 г. генерал – опытный военачальник, участник Крымской кампании – составил план национальной обороны столицы. План, однако, провалился, и в январе 1871 г., после капитуляции Парижа, генерал ушел в отставку.
[Закрыть]когда под Парижем стояла прусская армия и надо было во что бы то ни стало ее оттуда выбить. Во всяком случае, поначалу план казался Леоноре столь же или почти столь же беспроигрышным, что и генеральский.
Вы, наверное, догадались, что дело происходило в 1895 году, за девять лет до описываемых событий: до того, как Флоренс взяла верх над Леонорой, и того, чем все это в конце концов обернулось… В общем, Леонора просто заставила Эдварда переписать на нее все состояние. Да он бы под ее нажимом и не то еще сделал: добродушный увалень боялся ее, как черт ладана. Боялся и восхищался, наконец, просто любил, как мужчина любит женщину. Она же, надо сказать, этим пользовалась, обращалась с ним так, словно его недвижимость попала в руки комиссии по делам банкротства. Поделом, я думаю.
Так что первые три года их супружеской жизни она работала, не покладая рук. То и дело всплывали долговые обязательства, а проку от этого уязвленного честолюбца никакого не было. Вдобавок, кроме охотничьего азарта, он обладал поразительной чертой – совестливостью. Хотите верьте, хотите нет, но он настолько уважал чистоту Леонориных помыслов, что ему была ненавистна, противна одна мысль, что она может узнать о его очередной пакости. Вот он и отбивался от любых обвинений в свой адрес. Он, видите ли, стремился сохранить девственную чистоту жениных помыслов. Я не выдумываю – он сам признался мне в этом во время наших долгих прогулок в последний… – ну в общем когда девочка была на пути в Бриндизи.
Как видите, волнений у Леоноры в эти три года хватало. А потом они возьми да крупно поссорься! Разругались вдрызг! Казалось бы, с чего вдруг? Жили бы себе и жили, как раньше: Леонора продолжала бы втайне ненавидеть Эдварда, а тот прятал бы свои чувства. Однако все вышло совсем не так… Мало того что Эдварду были не чужды страсти (потом он в них раскаивался), так его еще отличало и чувство долга, которое накладывало на него положение в обществе. К сожалению, ответственность эта часто выходила ему боком, оказывалась слишком дорогим удовольствием. Надеюсь, рисуя картину Эдвардовых прегрешений, я не заронил у вас подозрение в том, что он безнадежно погряз в пороке. Ничуть – наоборот, он был до мозга костей сентиментален. Взять килсайтскую историю: служанка, которую он поцеловал, была премиленькая особа, но главное – у нее был совершенно безутешный вид. Целуя ее, я уверен, он хотел не только и даже не столько утолить свою страсть («не утерпел», помните?), сколько успокоить и утешить страдающее существо. А поддайся она на его ласки – уверяю вас, он разбился бы в лепешку, но снял бы для нее небольшой домик в каком-нибудь тихом месте вроде Портсмута или Уинчестера и, что самое интересное, лет пять был бы ей верен. Да-да, с него сталось бы.
В «послужном списке» любовных побед Эдварда было всего две сердечные привязанности, дорого ему стоившие, – одна к любовнице великого русского князя, а другая – к героине письма, автор которого шантажировал нашего незадачливого любовника, – именно его-то и вскрыла Леонора. Второй случай и был уже настоящим романом с женщиной приятной во всех отношениях. Роман возник вслед за историей с любовницей великого князя. Новая дама сердца была женой полкового друга, поэтому скрыть от Леоноры эту страсть было невозможно, а любовь была действительно сильной, и отношения продолжались несколько лет. Как видите, чувства Эдварда развивались вполне логично, по нарастающей. Начав со служанки, он обратил свою страсть сперва на куртизанку, а затем на весьма приличную женщину, которая очень неудачно вышла замуж. Судите сами: муж ее, мерзавец, годами шантажировал бедного Эдварда, вымогая разными способами от трехсот до четырехсот фунтов в год – угрожая при этом разбирательством в суде по бракоразводным процессам. Потом появилась Мейзи Мейден, после возникла еще одна интрижка, и, наконец, под занавес, его посетило подлинное чувство. Ведь его брак с Леонорой не был самостоятельным решением – за него решили родители, и, хотя он ею бесконечно восхищался, не мог и дня прожить без ее моральной поддержки, никаких других чувств, кроме нежной заботы, он ей не выказывал…
Впрочем, его поистине тяжкие прегрешения в большинстве своем носили характер благородный, подобающий его положению в обществе. Если верить Леоноре, он без конца попустительствовал арендаторам, прощая недоимки и давая понять, что большего с них уже не спросят. Сколько пьяниц он спас от тюрьмы в суде присяжных – не перечесть! Сколько проституток должны быть ему обязаны тем, что он пристроил их в приличные дома! О детях и говорить нечего – здесь щедрость его не знала границ. Не могу сказать точно, какое количество выбитых из седла и оказавшихся на дне изгоев он спас и обеспечил работой – Леонора называла мне число, но, боюсь, она преувеличила: повторять его здесь не имеет смысла, вы мне все равно не поверите. Так вот, всю эту богоугодную деятельность, все это радение на благо человечества Эдвард, похоже, воспринимал как личный долг – включая баснословные пожертвования больницам и скаутам, устроителям сельскохозяйственных выставок на призы и обществам борьбы с вивисекцией…
Разумеется, многое из этого стараниями Леоноры было пресечено. Довод был простой: после эскапады с наложницей великого князя, на которую Эдвард ухлопал столько денег, они были не в состоянии поддерживать поместье Брэншоу с прежним размахом. В итоге арендаторов заставили платить, как раньше, по высоким расценкам; пьяниц повыгоняли с теплых местечек, а во всевозможные общества послали уведомления о том, что больше пожертвований не предвидится. С детьми она обошлась помягче: почти всех их держали на балансе до тех пор, пока не настало им время идти в ученики или прислугой. Своих детей у Леоноры, как вы поняли, не было.
Да, Леонора была бездетна, и винила она в этом только саму себя. Она ведь происходила из обедневшей ветви рода Поуиз, и, выдавая дочь насильно за старину Эдварда, родители не дали за ней ни гроша, так что собственных средств у нее не было, и, главное, они не удосужились внести в брачный контракт условие о том, что рожденных в браке детей следует воспитывать, как католиков. Для Леоноры это было, конечно, равносильно духовной смерти. Надеюсь, из моего рассказа вы поняли, что она была ревностной католичкой, с сильным, жестким характером, как у всех английских католиков. (Несмотря на всю мою любовь к Леоноре, я, признаться, терпеть не могу этот тип; во мне с детства живет безотчетный страх перед блудницей в Алом Плаще, [44]44
Блудница в Алом Плаще– аллегория папского Рима, мирского, суетного духа (Откровение Иоанна, XVII).
[Закрыть]который неведомо кто внушил мне в тиши нашей уютной квакерской молельни на Арч-стрит в Филадельфии.) То, что Леонора неправильно повела себя в отношениях с Эдвардом, мне лично кажется следствием этой особой английской формы католичества. Ясно, что у нее не было другого выбора. А жаль. Увы, она не могла допустить, чтоб он опускался все ниже и ниже, до положения бродяги благородных кровей, соблазнявшего красоток где ни попадя. Я говорю, «жаль», поскольку тогда он причинил бы гораздо меньше вреда своим близким, да и самому ему было бы гораздо легче. В любом случае, у него было бы гораздо меньше возможностей транжирить деньги, а потом раскаиваться. А мастер каяться он был хоть куда.
И надо ж было так случиться, что Леонорина непреклонная совесть английской католички, железная воля, хладнокровие – то есть все, что могло бы стать для Эдварда благом, – даже ее терпение – шло ему во вред. Она истово и наивно верила, что Римская церковь не одобряет разводы. Истово и наивно внушала себе, что Церковь велит ей взвалить на себя тяжелейший крест – заставить Эдварда Эшбернама хранить супружескую верность. В Англии такой тип поведения называют неортодоксальным, а у нас в Соединенных Штатах Америки по-другому – папским. Конечно, английские католики усвоили его не от хорошей жизни. Если подумать, через что они прошли – веками их подавляли, совершенно слепо и враждебно, отлучали от государственных постов, держали на положении маленького осажденного гарнизона в чужой стране, приучая действовать осторожно и безупречно-расчетливо, – если все это вспомнить и сложить вместе, то получится именно та гремучая смесь, о которой я говорил. Если не ошибаюсь, в Англии паписты даже официально принадлежат неортодоксальной общине. [45]45
Неортодоксы, община неортодоксов. – Наряду с официальной Англиканской церковью, в Англии существует т. н. «Свободная Церковь», объединяющая различные общины (квакеров, нонконг-регационалистов, методистов и т. д.). Их объединяет нежелание регламентировать обряд, подчиняться институту церкви. Английские неортодоксы, или нонконформисты, – как правило, протестанты; это своеобразные раскольники по отношению к ортодоксальной Англиканской церкви.
[Закрыть]
На континенте же паписты – это грязный, благодушный, беспринципный сброд. Но, во всяком случае, эти качества не мешают им лавировать и идти на компромиссы. Они бы направили старину Эдварда на путь истинный. (Простите, что пишу игривым тоном о таких чудовищных вещах, но поймите, о них нельзя говорить серьезно без слез.) Если б дело происходило в Милане или, скажем, Париже, Леонора уже через полгода получила бы развод, и стоил бы ей весь бракоразводный процесс долларов двести, – тут главное найти верных людей. А Эдвард жуировал бы в свое удовольствие, пока не спустил бы все денежки и не стал бродягой, как я уже говорил. А может, женился бы на официантке из бара, и она закатывала бы ему на людях жуткие сцены, с вырыванием усов и битием по лицу, и он был бы ей верен до конца дней своих. Ведь именно такого спасения он жаждал…
Страсти страстями, стыд стыдом, а ужас перед семейными ссорами на публике, криками, физическим насилием, словом, копанием в грязном белье был еще сильнее. Да, официантка его мигом отрезвила бы. Вот если бы она еще и пила – тогда он был бы при деле, ухаживал бы за ней, без глупостей.
Это так, я знаю. Знаю по килсайтской истории. Тут есть одна маленькая подробность: служанка, которую Эдвард тогда поцеловал, нянчила детей в семействе главы общины неортодоксов в графстве Хемпшир. Неуверен, так ли именно называлась его должность, но суть не в этом. Хозяин семейства поклялся уничтожить Эдварда, а тот был председателем избирательного комитета тори или чем-то в этом роде, – в общем, задал ригорист жару незадачливому ловеласу. Слух дошел до палаты общин, начали стряпать дело о несостоятельности присяжных судей в Хемпшире, направили в военное министерство уведомление о том, что Эдвард недостоин состоять на службе в Королевской армии. В общем, досталось ему сполна.
Чем все закончилось, вы уже знаете. У него навсегда отбили желание путаться со служанками. Каким облегчением это было для Леоноры! Видите ли, ей не так претили его связи с дамами их круга – согласитесь, какие-никакие, но это все-таки связи: миссис Мейден все лучше, чем какая-нибудь служанка.
Так что в тот вечер, когда она появилась в Наухайме и мы вчетвером впервые встретились за столиком в ресторане, она была почти что довольна жизнью – впрочем, что понимать под «довольством»?..
За долгие годы очень скромного существования в маленьких военных гарнизонах в Читрале и Бирме ей почти удалось поправить их материальное положение. Все-таки одно дело – жизнь в военных городках, где все относительно дешево, и совсем другое – жизнь присяжного заседателя, члена суда в английском графстве. Кроме того, любовные связи среди военных гарнизона считаются своего рода нормой и не требуют больших материальных затрат. Поэтому, услышав о миссис Мейден, интрижка с которой могла доставить массу хлопот, – не знаешь, чего ждать от молодого горячего супруга, – Леонора поддалась на уговоры Эдварда вернуться домой, в Англию. Она надеялась, что годы их более чем скромного, очень экономного существования и ее весьма дальновидная политика (чего стоило, например, решение сдавать Брэншоу-Телеграф в аренду или, скажем, продать одно из фамильных полотен или реликвий Карла I!) вернули им обоим то прочное финансовое положение, которое было у ее мужа до встречи с любовницей великого князя. Да и Эдвард, надо сказать, помог поправить их пошатнувшееся было благосостояние. Он многим нравился своей обходительностью. У него был такой достойный вид, а портсигар всегда к услугам собеседника, – неудивительно, что время от времени какой-нибудь толстосум щедро вознаграждал его за пустяшную любезность. И потом, как и многие английские католики, Леонора не чуралась игры в рулетку – уж какая здесь связь, не пойму.
Когда же все ее старания окупились сторицей, оказалось, самое время вернуться хозяину и хозяйке в родовое гнездо и вновь занять подобающее им положение в обществе. Поэтому как было не принять Мейзи Мейден если не с чувством покорности судьбе, то, во всяком случае, со вздохом облегчения? К тому же она по-своему полюбила несчастную – на кого-то ведь надо было перенести нерастраченные чувства! За Мейзи и Эдварда она была спокойна – та ни за что не стала бы разорять ее мужа на несколько тысяч в неделю: она и колечка-то простенького от него не принимала. Правда, Леонору раздражало то, как воркует и носится с молодой женщиной Эдвард – у них с ним ничего подобного не было. Впрочем, нет худа без добра – по-моему, ее вполне устроило бы, если б он любил Мейзи до конца дней. Она могла бы заняться собой.








