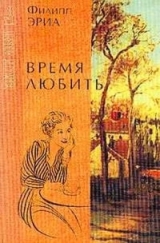
Текст книги "Время любить"
Автор книги: Филипп Эриа
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 16 страниц)
Уже одна его манера спрашивать, слушать и лишь в редких случаях перебивать, помогла мне отбросить то, что несущественно. Следователь старался обнаружить тайные пружины, движущие Буссарделями, с момента их заговора молчания о физическом пороке Ксавье до позднейшего опротестования отцовства, что и послужило отправной точкой атаки моих родных на завещание.
– Но, сударыня, ваш племянник Патрик Буссардель был тогда слишком мал. Только много позже он мог узнать все те факты, которые вы мне сообщили.
– Не так уж поздно, господин следователь. В нашей семье детей с малолетства, чуть ли не с пеленок воспитывают в духе корысти и приучают их разбираться в судебных вопросах. И потом... на память мне пришла одна деталь...
Я замолчала и молчала несколько секунд вовсе не с умыслом, просто перед моим взором возникла картина из прошлого, озаренная струящимся солнцем мыса Байю, озвученная пением волн.
– Слушаю вас,– сказал следователь, и я снова очутилась в его кабинете.
Стараясь не тратить лишних слов, я рассказала следователю, как в первое же лето, когда было начато дело об аннулировании завещания, на моем острове, на моей собственной территории высадились юные Буссардели, расположились там лагерем и держались крайне вызывающе, ссылаясь на то, что в ближайшее время мыс Байю будет поделен между мною и другими членами семьи, что в действительности и произошло.
– Это были подростки, господин следователь, почти дети, но они уже знали свои права. Родители преподали им хороший урок, объяснили, какую шутку собираются со мной сыграть. И истина обязывает меня сообщить вам, что среди этой компании был и мой племянник Патрик.
Следователь утвердительно кивнул, и, хотя смотрел он прямо мне в лицо, казалось, сквозь меня видит мою мать, мою невестку, моих опекунов – всю эту семейную когорту, сомкнувшую свои ряды вокруг юных созданий, уже с самого нежного возраста вовлеченных в игру крючкотворства и распри. На мое замечание, что, по-видимому, этот факт имеет весьма отдаленное отношение к делу о похищении "кадиллака", следователь махнул рукой, и я поняла, что это дополнительное сорвавшееся с моих губ свидетельство приобрело силу. Мрачная формулировка присловия, которое сообщил адвокат, пришла мне на память. Когда следователь отпустил меня и я шла по коридорам, я твердила про себя, надеясь окончательно отделаться от этого наваждения, что следователь, который ни разу не издал ни одного восклицания, ни разу не вскинул удивленно бровей, не ждал – и он тоже не ждал – моих показаний, дабы проникнуть в черные дела и подлости, имеющие хождение в той среде, откуда я вышла.
Но напрасно я разыгрывала из себя этакую энергичную и свободную от предрассудков особу. Я-то считала, что вступила на путь инициативы и действия, а убедилась, что вошла в полосу смятения чувств редкой для меня интенсивности, и я особенно остро ощутила свое одиночество. Глупо сказать, но мне захотелось с кем-нибудь посоветоваться относительно нашего семейного дела, с человеком моих лет или даже постарше. В конце концов, я только женщина. То обстоятельство, что Рено постепенно отстал от своей страсти к противоречиям и парадоксам и с юной увлеченностью ушел с головой в свои новые школьные занятия и в свою дружбу с Пирио, отдаляло меня от сына, но не сближало ни с кем другим.
В сущности, теперь, когда Рено становился юношей, в моей душе все сильнее росло чувство одиночества. Обычно утверждают, что дружба или любовь уменьшают разницу лет двух людей, принадлежащих к разным поколениям; не думаю, чтобы это было верно в отношении матери и сына. А уж между нами с Рено и подавно. Приноравливаясь к его детству, я как бы отошла от себя самой, но, по мере того как рос мой сын, он не только не приближался ко мне, а уходил за пределы моей досягаемости, и мне оставалось лишь вернуться к самой себе.
И вот поэтому-то все свое внимание я отдала Ла Року, тому самому Ла Року, где меня наверняка ждали споры с Полем Гру. Наконец-то он переселился туда, вернее, помимо той обстановки, что я подобрала для него на месте, он пригнал только грузовик, набитый своими личными вещами и книгами. Так или иначе, он обычным своим тоном обратился ко мне с просьбой привести его жилье в порядок, признав за нами, женщинами, хотя бы умение расставлять вещи по местам.
За все это время у нас в Фон-Верте он был всего один раз, и то вышло это случайно. Мне удалось убедить его по телефону – вот уж воистину чудо неслыханное! – посадить несколько цветущих растений позади дома, где они будут укрыты от мистраля. Они обязательно примутся, уверяла я, при условии, если сажать их в хорошо унавоженную землю и непременно в колоду.
При слове "колода" он, должно быть, забеспокоился – все, чего он не знал, вызывало в нем подозрение. Я объяснила ему, что под словом "колода" в наших краях подразумевается буквально все: чан, кормушка, даже сточный желоб, делают их из молласа – местного камня.
– Теперь крестьяне уже не пользуются колодами. Во всей округе только чужаки, то есть мы, разыскиваем их, где можем, и употребляем в качестве садового украшения Я беру их повсюду, где только обнаруживаю, и у меня всегда есть несколько штук в запасе. Особенно одна – создана специально для вас.
– Я за ней заеду,– буркнул он и повесил трубку.
– Но вам не удастся погрузить ее в свою машину,– заявила я Полю Гру, когда он явился в Фон-Верт.– Вы не дали мне времени, а то я объяснила бы вам по телефону, что это за громадина. Пойдите взгляните сами.
Колоду он одобрил. Это был великолепный экземпляр, бело-золотистый, из известкового песчаника, отлакированный и временем и долгой своей службой, и ждал он хозяина уже целый год, валяясь в траве в углу нашего огорода. Выдолбленный посередине чуть ли не в длину человеческого роста, он походил на саркофаг, куда еще не успели поставить гроб.
– Ну и что же?.. – сказал Поль Гру.– Багажник у меня достаточно большой. Не буду его закрывать, и все тут.
– Я вам не о размерах толкую, а о весе. Вы даже представления не имеете, какая это тяжесть. Когда я свозила сюда колоды, я всякий раз звала на помощь своего механика с подъемным краном.
Он ничего не ответил и молча разглядывал колоду.
– Поленья у вас есть?
– Поленья? Ах да, чтобы сделать катки? Есть. Рено,– обратилась я к сыну, только что вернувшемуся из лицея,– пойди принеси для мсье Гру пять-шесть небольших кругляков, только выбери совсем ровные и прямые. Но все равно ничего не получится, предупреждаю вас.
– И доску покрепче, если таковая найдется! – крикнул мой клиент вдогонку Рено.
Ладонью он ощупал камень, попытался сдвинуть его с места. Потом выпрямился – я решила было, что отказался от своей затеи,– но он ушел, ничего мне не сказав, и задним ходом подогнал свою старенькую машину. Затем открыл багажник, подпер палкой крышку, чтобы не захлопнулась, и она торчала вверх, как створка огромной раковины.
– Подождите-ка,– сочла я за благо снова вмешаться.– Как-то раз я хотела помочь механику поднять колоду, ровно в половину меньше этой, и заработала себе прострел.
Поль Гру презрел мое замечание, он аккуратно укладывал поленья. Потом зажал конец колоды между колен, обхватил ее обеими руками, качнул один, другой, третий раз так, что низ колоды очутился на крайнем полене, и вдруг она послушно сдвинулась с места, оставив после себя на траве лысый бледный рубец, где копошились насекомые.
– Вот это да!.. – протянул Рено, потрясенный маневрами нашего гостя, и, скинув свитер, бросился ему помогать.
Поль Гру молча поднял голову, молча взглянул на Рено.
– Разрешите? – обратился он ко мне и, не дожидаясь ответа, стянул с себя рубашку и остался голым по пояс.
Я смотрела на все эти манипуляции без особого удовольствия, но и без иронии. Колода, это-то я отлично понимала, не войдет с такой легкостью в багажник, с какой шла она по земле. Но Поль Гру вместе с Рено подкатили ее как можно ближе к машине, поставили вертикально у заднего моста, нагнулись, взялись...
– Ой, осторожнее! Берегитесь прострела!
– Может, ты не будешь нам мешать? – крикнул Рено.
– Отойдите-ка,– посоветовал напарник моему сыну. Он согнулся, уселся верхом на колоду, чтобы ее закрепить. Его голая спина, которая торчала перед моими глазами, вдруг от усилий как бы изменилась в размерах, на самых неожиданных местах заиграли мышцы, явственно проступили под кожей, вздулись, да и сам Поль Гру вроде стал шире. Я смотрела на эту спину, завороженная страхом, близким к дурноте: я боялась, сама не знаю чего, чего-то страшного, и поспешно отвернулась. Когда я снова подняла глаза, я увидела, что колода уже лежит, опершись на край багажника, потом она шатнулась, пошла, полезла. Катки, перемещенные в открытое жерло багажника, помогали ее продвижению, и вот она вошла наполовину, на две трети и остановилась.
Поль Гру, не желая злоупотреблять своим триумфом, распрямился. По-прежнему стоя ко мне спиной, он глубоко вздохнул, перевел дыхание, сетка мышц расслабилась, приняла свои нормальные размеры, и я заметила, что, когда этот торс находится в спокойном состоянии, он чуть полноват, как у древнего римлянина. Рено в пылу уже излишнего сейчас усердия засовывал старые тряпки между стенками багажника и каменной колодой. Более практичный Поль Гру подложил под колоду доску, чтобы защитить камень от острого металлического бортика багажника.
– Должно быть, эти камешки бьются как стекло,– пробормотал он.
Я прикусила губу, как это на меня похоже. Кстати и некстати я давала никому не нужные советы и забыла предупредить о том, как хрупок известняк, а Поль Гру с первого взгляда догадался об этом.
– Может, вы хотите умыться? Или принять душ?
– Да что вы! Из-за таких пустяков. – Он уже натянул на совсем сухой лоб грубый шерстяной берет; потом примял его, приладил, заправил пятерней коротко остриженные, тронутые сединой волосы.
Но в тот день, когда он попросил меня помочь при переезде, я знала, что буду ему полезна. Я не захватила с собой даже своего обойщика, мастера на все руки, он уже достаточно потрудился в Ла Роке. Я выехала сразу же после полудня, и по дороге меня захватил дьявольский мистраль. Когда я спускалась от старого поселка по грейдерной или, вернее, по булыжной дороге, описывающей полукруг, я почувствовала, что от этих лобовых и фланговых атак мою тяжелую машину сносит вбок, как тонущую в море лодку: я испугалась, что автомобиль перевернется. Очутившись наконец под защитой стены, где не так свирепствовали вихри, я вышла из машины, шатаясь, добралась до порога нижней залы, распахнула дверь, запыхавшаяся, растрепанная.
Поль Гру, вскрывавший ящик, поднял голову, увидел перед собой такую растрепу и, к моему великому удивлению, даже не улыбнулся.
– Выпейте-ка. Чтобы прийти в себя.
Он налил мне виски, подошел к радиатору и включил еще одну секцию, а потом проверил, хорошо ли заперта дверь, которая под порывами ветра ходила на петлях. Я отнесла в его актив то, что виски он подал мне без льда. Комнаты были уже прибраны.
– Подходит вам или нет та женщина, что я подыскала в поселке?
– Слишком уж она любит порядок. Настаивает, чтобы стаканы и тарелки хранились вот в этой штуковине.
– И она совершенно права, это горка. Ардешская.
– Возможно, только горка мне не нравится... Какие-то переплеты, похоже на исповедальню. Каждый раз, когда я буду лазить за стаканом, мне все будет казаться, будто я совсем ханжа.
– Можно сдать ее в антикварный магазин. Нет, не стоит, давайте-ка поставим ее вот сюда, так будет лучше.
– Старинная? – спросил он, приглядываясь к горке.
– Все, что я для вас достала,– старинное. Все до девятнадцатого века. Разумеется, деревенское, иногда даже починенное, зато добротное. Не та мебель в сельском стиле, которую выпускают партиями и которая обошлась бы вам вдвойне. А в этих комнатах под сводчатым потолком я как-то плохо представляю себе теперешний марсианский стиль.
– Опять она права! Я так ее ждал, чтобы поругаться из-за этого хламья, а она дает мне уроки декоративного искусства. Ладно, давайте условимся, я в обстановке ничего не смыслю. Оставим эту тему, перейдем к делу.
Я уже успела за это время приглядеться к нему и знала, что ворчит он только ради самозащиты. Очутившись в своей сфере, где он не нуждался в поучениях, он убрал когти. И если я была женщиной, он был всего только мужчиной.
Мы проработали с ним больше трех часов без передышки, отыскивая подходящее место не только для той мебели, что я для него приобрела, но и для всех его вещей, запакованных в ящики; старались как можно выгоднее разместить экзотические ткани, звериные шкуры. Большую часть мы пока что положили прямо на пол у перегородок. Я решила, что попозже велю приделать металлические прутья и стойки, без шлямбура в стену нельзя было вбить ни одного гвоздя, так как сразу же под штукатуркой шел сплошной камень.
Из хаоса чемоданов и ящиков мы извлекали на свет божий самые различные вещи, привезенные из дальних стран, здесь мирно соседствовали ткани Ближнего Востока и Океании. Все это было подобрано умело, со вкусом, чего я никак не ожидала. Пусть этот вечный бродяга плохо разбирается в стилях французской мебели, зато он безошибочно выбирал ковры и старинную колумбийскую керамику. И среди всех этих забавных и неожиданных для меня вещиц дешевки не было: я не обнаружила ни одной из тех безделушек, примелькавшихся пустячков, которые сплошь и рядом слабодушно хранят в качестве сувениров многие путешественники. Были тут носы полинезийских пирог, действительно красивейшие. Я не удержалась и сделала ему комплимент.
Но главное чудо было в том, что все эти чужестранцы сразу прижились здесь; образчики далекого искусства на диво подошли к этим сводам, к этим французским потолкам, к этой сельской мебели. Ла Рок сразу принял в лоно свое Поля Гру и его бутафорию, как некогда принял меня наш Фон-Верт.
Мистраль не унимался, хотя день уже клонился к закату. Мы решили немножко передохнуть.
– Чашечку крепкого чая? – спросил он.– Что вы на это скажете? Вы потрудились на славу.
Я хотела было сама приготовить чай. Но Поль Гру отказался от моих услуг, заявил, что прекрасно умеет заваривать чай, и исчез. Залу на втором этаже, с балками на потолке, где я ждала своего хозяина, он решил превратить в рабочий кабинет. Огромный стол был обращен к западу, и как раз в этой стене я велела пробить рядом два одинаковых окна – единственное мое отступление от классического провансальского зодчества, которое признает лишь малое количество окон, да еще в глубоких нишах,– в качестве защиты как от зноя, так и от мистраля. Рядом с письменным столом, тоже лицом к окнам, мы, пока еще в виде пробы, поставили турецкий диван. Я присела на этот диван. Солнце садилось чисто, мистраль прогнал все облака, и волшебство красок изливало себя на эту гряду каменистых холмов, почти мне не известных.
Когда Поль Гру вернулся, неся в руках поднос, я успела разглядеть термос с горячей водой в виде кувшина и благодаря этой изящной безделушке, свидетельствовавшей о любви к комфорту именно этого человека, моего клиента, мне впервые захотелось присмотреться к нему внимательнее. Как к личности на сей раз, а не как к совокупности тех или иных поступков. До сих пор я только говорила с ним, отвечала ему, выносила его дурное настроение, пыталась его понять. Тогда, в Фон-Верте, при погрузке колоды я отвела от него глаза, а теперь я их от него не отводила. Характер его внешности определялся именно этим контрастом между чуть грубоватой тяжеловесностью его черт и грустным взглядом, между загорелым, почти кирпичного цвета лицом и коротко подстриженными волосами, тронутыми сединой. Но он был, так сказать, изваян из этих контрастов. Этот мужчина лет сорока пяти, а может, сорока восьми двигался с какой-то неожиданной легкостью, словно бы сбросив с себя груз, если можно так выразиться. Будь черты его лица потоньше, он походил бы как две капли воды на одного американского киноактера, которого я видела, уж не помню в каком фильме, специализировавшегося на роли стареющих дон-жуанов; по ходу действия он попадает в компанию молодых людей, они зовут его танцевать, он сначала отказывается, отбивается, потом входит в круг танцующих и танцует, как юный стиляга.
Поль Гру налил мне чаю; вдохнув аромат, подымавшийся от чашки, я успокоилась.
– А вы умеете заваривать чай. Что правда, то правда.
– А вы как думали? Что и чай нужно заваривать в стиле Агнесс?
– Почему вы заговорили о стиле Агнесс?
– Потому что этот стиль уже стал классикой, освящен гласом народным, и вы его силком мне навязали,– проговорил он, обводя комнату широким жестом. – Если бы мне когда-нибудь кто-нибудь сказал!..
– Пожалуйста, не подумайте, что здесь есть хоть капля стиля Агнесс. И запомните, скорее уж это стиль, так сказать, причудливый. Вот, к примеру, стены, они достаточно характерны, и приходилось им повиноваться. А иначе... Если уж говорить начистоту, то я лично считаю просто глупым, чересчур уж дачно-парижским слепо подражать провансальскому стилю просто из принципа, под тем предлогом, что дом-де находится в Провансе.
– Возьмите-ка лучше кусочек кекса, дорогая моя разумница.
– Не подшучивайте над моими словами, все это гораздо сложнее, чем вы воображаете. Вы когда-нибудь задумывались вот над каким вопросом: почему нашим современникам нравится стеганая мебель, керосиновые лампы, тарелки с виньетками? Потому что они тоскуют о прошлом, вздыхают втайне об утерянном стиле ушедших веков.
– Ого, вы мне тут целую теорию изложили. Помолчите-ка лучше, мадам. Уже не принимаете ли вы меня за клиента из Америки? Стиль Агнесс не нуждается в исторических экскурсах и давным давно имеет название: это стиль буржуазный.
– Боже, что за несносный человек! – Он снова заговорил со мной тем тоном, который я терпеть не могла и надеялась, что это уже в прошлом. – Да, да, несносный, с вами невозможно разговаривать, вы и святую из себя выведете,– проговорила я уныло, почти в отчаянии и отвернулась к окну.
Я готова была расплакаться, а ведь я плачу лишь в исключительных случаях, но тут я была не в силах сдерживаться. Полдня я возилась, устраивала ему жилье, вкладывала в работу всю свою изобретательность и терпение: мне удалось установить между нами своего рода трудовое содружество, а теперь вдруг после того, как я с открытой душой... Да и усталость сказывалась.
Мой хозяин замолчал, внимательно следя за тем, как на его глазах в мгновение ока все круто повернулось. Я чувствовала на себе его пристальный взгляд, но избегала смотреть ему в лицо. Мы провели безоблачный день, а теперь я вдруг провалилась в открывшуюся между нами воздушную яму с чувством, близким к головокружению, я откинулась на подушки дивана, закрыв ладонями глаза от больно режущих лучей солнца.
Долго я оставалась в этой позе. От радиатора веяло жаром, и я совсем разомлела. Я не шевелилась, и мне было все равно, что может подумать о моем поведении этот человек. Я достигла высших степеней безразличия, фатализма. Со мной могло случиться любое.
Когда рядом прогнулись диванные подушки, именно благодаря этому, а не настоящему прикосновению, я поняла, что около меня очутилось чье-то тяжелое тело, но я не сделала никакого движения: не выразила ни досады, ни возмущения. Я считала себя вне посягательств. Но умные руки не обхватили меня, а тихонько скользнули по моим плечам, слегка задержались на талии, словно бы затем, чтобы поддержать, остановить на краю головокружительной бездны, хоть я и не предчувствовала ее близости, не дать мне рухнуть туда.
И тогда-то я рухнула.
И чувство, которое постепенно росло в моей душе, возвращало меня к жизни, наполняло меня всю – было удивление, безграничное удивление! Я удивлялась, именно удивлялась себе, ему, дню, который почти не клонился к закату, необъяснимой легкости случившегося. Но у меня все еще не хватало сил подняться, встать, пройти в маленькую комнату, которую я сама оборудовала, где можно освежиться, поправить прическу. Я чувствовала себя на той последней грани бессилия, слабости, когда человек уже не может рассчитывать на себя. Хорошо еще, что я сумела накинуть на мое смятое платье край леопардовой шкуры, покрывавшей диван.
И как только я опустила руку, мужчина, лежавший рядом со мной, обнял меня, и мое удивление еще усилилось, круги его расходились все шире, прорвали рубежи моего сознания, ибо я сделала движение, казалось, совсем забытое в моей жизни, самое далекое от меня: положила голову на мужское плечо.
Мистраль по-прежнему яростно бросался на стены дома, и я радовалась тому, что его волна, разбиваясь о каменную преграду, способна извлечь из нее такой сильный гул. Целую симфонию гиканья и воя. Однако ни одно дуновение не проникало в эту комнату, где рабочие по моему указанию аккуратно законопатили окна и двери. Этот человек и я, мы оба покоились здесь, мы стали как бы частью этого корабля, прочно стоявшего на якоре среди бушующего пространства. Нас, неподвижных, несло вдаль против течения. Я физически ощущала, как угол дома рассекает ветер, словно форштевень, блистательно оправдывая тысячелетнюю традицию здешнего зодчества, придающего домам такие вот очертания. Только рука профана, моя рука, поднялась, чтобы пробить отверстия в этих высоких защитных стенах под тем предлогом, что так, мол, будет светлее.
Солнце вырвалось из рамки окна, оно уже не било мне прямо в лицо, и, когда я подняла свободное веко – другое было прижато к чужому плечу, откуда доходило до меня биение второй жизни,– я увидела лишь океан золота с вкраплением пурпура, что предвещало на завтра опять мистраль. Комната, залитая непрямым источником света, который, казалось, сочится прямо из стен, тоже вся алела. Мой компаньон непринужденным жестом – я только недавно обнаружила в нем это свойство – вылил горячую воду в чайник для заварки, и над ним снова поднялся легкий парок. Он закурил сигарету, и эти смешанные испарения – запах звериных шкур, еще какой-то неизвестно откуда идущий аромат – стали благоухающей душой этого часа.
Она окутывала меня, проникала мне прямо в сердце, в сознание, врезалась в память. Мысленно я видела вокруг нас зияющие пасти чемоданов, этот восточный базар, эти предметы, ждущие часа, когда в доме все образуется. И столько предугаданных присутствий, наслаивавшихся на присутствие этого почти незнакомого и такого близкого мне человека; эти отблески чистого золота, пробегающие в прозрачности мистраля, тепло, нерешительно расползающееся по этому ветронепроницаемому кубу, прилепившемуся к склону горы,– все это словно бы сливалось воедино, облекая меня своим покровом, поддерживая меня, превращая меня в живой цветок, хранивший в себе пыл, и покой, и забвение. А весь прочий мир развеяло ветром.
Я скосила глаза, не поворачивая головы. Он уже не курил, он смотрел на меня. Я видела его со слишком близкого расстояния, то есть видела в укрупненных размерах: и я узнала, что у него есть еще одно лицо, мне не знакомое, со своими особыми пометами. Рубец на лбу, похожий на трещину в глиняной облицовке; густые брови; глубокая борозда, идущая прямо от виска к верхней челюсти; щетина на не бритом со вчерашнего дня подбородке. Я вдыхала обеими ноздрями, я долго принюхивалась. Это пахло от него. Odor di uomo (3апах мужчины (итал.)). Чуть-чуть мускусом, чуть-чуть виргинским табаком и завитками волос на груди, и – еще один оттенок – человеком, явившимся из другого мира, ворвавшимся в мое существование. Словно бы в ответ на мою мысль он моргнул, и вдруг я осознала, что после тех его насмешливых реплик, которые я по глупости принимала всерьез когда-то очень, очень давно, где-то в далекой дали прошлого, ни одно слово еще не сорвалось с его губ. И вдруг губы шевельнулись; улыбнувшись мне глазами, он улыбнулся уже по-настоящему, сейчас он заговорит... Я оробела.
По вполне определенному поводу. Если он обратится ко мне на "ты" по обычной манере мужчин после таких минут, больше я его никогда не увижу, я знала твердо. Подымусь, уеду и в жизни его больше не увижу, просто сбегу. Если я хочу помешать ему произнести это "ты", надо заговорить первой, и как можно скорее. Но что сказать? Я уже набрала воздуха... скажу любое, что подвернется на язык...
– Не говорите.
Это произнес он. Я с трудом расслышала его слова, скорее поняла их по движению губ. Мой взгляд не отрывался от губ, прошептавших эти слова, от этих губ, за которыми отныне я признала иную власть в минуты молчания.
– Не говорите. Я вас и так слышу.
Огромная благодарность затопила меня. Слава богу. Я улыбнулась. Опустила веки.
А когда я их снова подняла, в комнате было уже темно, темно за окнами. И я поняла, что задремала. К вечеру мистраль, как и обычно, затих, зато ночью он разгуляется вовсю. Теперь я уже не боялась ни наших вопросов, ни ответов, не боялась неловкого слова; не чувствовала даже – и, осознав это, удивилась,– что нужно подыскивать какие-то слова, думать, каким тоном их произнести; у меня было такое ощущение, будто все, что произошло, произошло очень-очень давно и уже нет больше необходимости приноравливаться друг к другу. Первоначальное мое удивление растаяло во сне. Сколько я спала, полчаса, целую осень? Я заговорила первая:
– Вам еще не поставили телефон?
– Нет. Когда нужно позвонить, я хожу в поселок... В табачную лавку. Там автомат, открыто до десяти часов вечера. Вам надо позвонить?
– Я должна предупредить своих.
– Вы запоздали?
– Я не успеваю вернуться к ужину.
– Да сколько же езды отсюда до вас? Минут сорок пять?
– Даже меньше. Я успела бы. Но я предпочитаю вернуться сегодня попозже, когда сын уже ляжет.
С минуту он постоял среди комнаты, потом подошел и прижался лицом к оконному стеклу, даже ладони к глазам приставил щитком, как бы вглядываясь в темноту, но на самом деле, чтобы не стеснять меня.
– Ладно, пойдемте позвоним из табачной лавки.
В поселке кабинки не оказалось, телефонный аппарат просто висел на стене в коридоре. Мне уже были знакомы такие кафе, обычно носящие название "Прогресс" или "Будущее" с многочисленными клиентами, сплошь мужчинами, не слишком щедрыми на заказы. К счастью, в Фон-Верте трубку сняла Ирма.
– Меня задержали клиенты, Ирма. Садитесь за стол без меня. Рено вернулся из лицея?
– Вернулся, сейчас я его кликну.
– Нет-нет, не отрывай его. А что он делает?
– Они дотемна с Пирио в прятки играли. Весь вечер вокруг дома носились, а потом оба пошли наверх. Надо полагать, один спит, другой зубрит. Раз ничего не слышно, значит, так оно и есть.
Я молчала. Ирма решила, что нас прервали.
– Нет-нет, я у телефона. Сделай ему ужин повкуснее. Пусть ужинает на кухне, если захочет.
– Открыть паштет из дроздов?
– Чудесно. И не ждите меня, ложитесь спать. У меня есть ключ.
Поль Гру повез меня ужинать куда-то очень далеко, в противоположном от Фон-Верта направлении. К подножию холмов. Ресторан держали его друзья: муж – бывший стюард авиационной компании, жена – бывшая стюардесса; они поселились здесь, в тиши олив и дубов, здесь же родились их дети.
Мои рассуждения о восстановлении провансальских жилищ не прошли мимо ушей моего спутника, и, ставя машину на стоянке, он сказал, что за внутреннее убранство помещения ответственности не несет. И в самом деле, толкнув дверь, я словно бы попала на старинное ночное бдение, вернее, на своего рода имитацию бдения; в очаге пылал хворост, несколько свечей, и то не на всех столиках, темные своды и все прочие аксессуары в том же духе. Электричество, если и есть, то скрытое, музыки никакой, даже из невидимого источника. Только мерное стакатто гудящего пламени под сдержанный аккомпанемент разговора. Но глаза постепенно привыкли к потемкам; стюард со стюардессой оба оказались красавцами; они сами обслуживали клиентов, причем без фартуков, а их детишки – девочка в душегрейке и ее братишка в пижамке переходили от столика к столику и желали посетителям спокойной ночи. Словом, мизансцена весьма удачная и неназойливая.
– Какие красавцы! – сказала я.
– Кто? Дети?
– И родители тоже.
– А как же иначе. Гражданская авиация жестко отбирает свой персонал. И, опустившись на землю, они среди гор и лесов хуже не стали.
– И я уверена, что у них все очень хорошо.
На лице моего соседа по столу – мы сидели наискосок друг от друга – в отблеске свечей заиграла двусмысленная улыбка, хотя и не предвещавшая пока саркастических выпадов. Правда и то, что я чувствовала себя готовой все принять, все одобрить, и думаю, что впервые в жизни отведала здесь – надо признать, меню было обильное, зато единственное в своем роде – такие изумительные колбаски, зажаренные на углях виноградных лоз, таких перепелов, кормившихся в можжевельнике, я даже попросила себе вторую порцию в ущерб запеченной в тесте бараньей ноге – следующему номеру нашей программы.
Мое гурманство развеселило Поля Гру; впрочем, я поспешила ему сообщить, что вообще-то я не такая уж обжора и что обычно... Он сидел слева от меня, упершись локтями в стол, и, видимо, ждал, какой оборот я придам нашему разговору. Кистью руки он чуть прикрывал полоску огня, бьющую от свечи и как бы образующую экран, мешавший нам смотреть друг на друга, но мы и не смотрели и одинаковым движением повернулись к пламени, которое плясало на театральных подмостках камина. Полагаю, мирная атмосфера, царившая в ресторане, объяснялась именно тем, что со всех столиков можно было любоваться игрой огня. Зрелище это сковывало языки самых болтливых. Еще недавно сердце мое переполняла радость, а теперь она наполовину сникла. Все мои предыдущие любовные романы, если только можно применить слово любовь к тому, что было между мной и тем или другим мужчиной, мои предыдущие связи ни разу не дали мне того, что я испытала нынче вечером. Шум в зале доносился как сквозь вату, вокруг свечей дрожали светящиеся нимбы, время как бы застыло. Склонившись к своему соседу – на нем была серая вельветовая куртка,– я, не удержавшись, погладила его по предплечью, пожалуй чересчур мощному, и тут же поняла, что это половодье нежности, подымающееся во мне, идет от него.
– А теперь,– проговорил он,– расскажите о себе.
Наконец-то он, столь страстно жданный конфидент, был у меня под рукой. Мне стоит только заговорить, и он сразу, возможно, откажется от своего мнения обо мне как о буржуазке. Конечно, нравы хищников с Плэн-Монсо не будут для него, исследователя, видевшего и не таких зверей, каким-то откровением. Но еще ни разу в жизни Буссардели не были так далеки от моих мыслей.
Он повторил свой вопрос. Глядя ему в лицо, я несколько раз отрицательно качнула головой.
– Нет, лучше вы. Не думайте, что я вам не доверяю. И возможно, я еще удивлю вас, рассказав о себе и своих. Но сегодня вечером меня больше интересуете вы, чем я.








