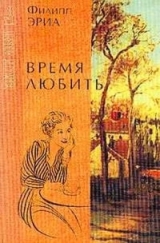
Текст книги "Время любить"
Автор книги: Филипп Эриа
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 16 страниц)
Этот слишком развязный тон не рассеял моих подозрений.
Письменный экзамен должен был первым сдавать мой сын. А через два-три дня – Жюстен. Рено явился после французского сочинения в состоянии крайнего возбуждения, он твердил, что поступил здорово, выбрав тему, которую почти никто не взял, а главное, развил ее так, как наверняка никто не развивал: "Тут я тебе ручаюсь".
– Они все набросились на выигрышную тему. А я взял другую тему и написал все наоборот – в основном о жестокости великих классиков Расина и Мольера. Больше того, две страницы посвятил садизму Мариво, усекла?
Этот отчет меня скорее напугал, но в ответ я услышала, что мои представления о классическом театре ужасно устарели, а их экзаменаторы известны широтой взглядов. Мой сын кичился своим антиконформизмом: "Лично я веду и буду вести беспощадную войну против любых условностей, любых общепринятых мнений",– заявил он со всем пылом житейской неопытности. Но я, прожив жизнь, давшую мне слишком большой опыт, о чем Рено, кстати сказать, знал,– была ли я достаточно подкованной, дабы оспаривать его убеждения? Напротив, я радовалась, что он, находившийся в особом положении, не тянется к благонравию. Но этот антиконформизм был у него лишь одним из способов приспособляться ко мне. По мере того как утверждалась его личность, по мере того как на моих глазах каждые полгода или, вернее, непрерывно он сбрасывал свою предыдущую кожу, подобно животному, проходящему линьку, моя ответственность тоже дробилась, множилась. Уже прошли те времена, когда ответственность эта ограничивалась вопросами гигиены, питания, здоровья, завтрашнего дня.
Жюстен после письменного экзамена проявил меньше оптимизма, хотя, по-моему, это скорее предвещало успех. Рено тем временем допустили до следующего экзамена, но, зная свое слабое место – математику, он боялся устного, и я тоже его боялась. К тому же нам не было известно, какую отметку он получил за сочинение и давала ли она ему преимущество, и какое именно. Можно было, конечно, успокоиться тем, что на устном экзамене по языку он, несомненно, получит отличную отметку, так как, храня верность его американскому происхождению, я приучила Рено с самого раннего возраста говорить со мной по-английски и он фактически одинаково свободно владел двумя языками, но с годами это стало казаться мне столь естественным, что я уже не видела в этом никаких преимуществ в смысле учебы. Словом, сложный механизм чрезмерных страхов, который при приближении экзаменов особенно усиленно заработал в умах юных лицеистов, непомерное значение, придаваемое испытаниям, ложные представления в конце концов взбудоражили и меня, особенно потому, что оба мальчика были все время у меня перед глазами.
В тот день, когда мой сын должен был сдавать математику, свой последний устный экзамен, я решила пораньше удрать со стройки, чтобы быстрее узнать окончательный результат. А как прошел экзамен у Жюстена, мы узнаем только завтра. Я не стала ждать их у выхода из лицея среди лихорадочно возбужденной толпы выдержавших и провалившихся, а присела на придорожную тумбу под платанами у рубежа наших владений, надеясь увидеть их издали. Услышав жужжание мопедов, я вскочила. Наконец они показались из-за последнего поворота грейдерной дороги, идущей среди высокого вереска.
– Ну как?
Оба мальчика стояли передо мной рядком, упершись ногами в землю. Немота Рено свидетельствовала о катастрофе, о провале. Первым заговорил Жюстен.
– Результаты экзаменов сообщат только завтра, слишком большой наплыв.
– Ох, – вздохнула я, одновременно испуганная и уже вновь начавшая надеяться.– Но тебе хоть попался вопрос, который ты знаешь? По-твоему, ты отвечал хорошо?
Рено промолчал. А тот, другой, которого я вопрошала взглядом, пожал плечами, как бы говоря, что сам ничего не знает. Мы двинулись по аллее к дому, мальчики шли рядом со мной, ведя за руль свои мопеды. Обезоруженный моим настороженным молчанием, наш недоверчивый Рено решился: то, чем он отказывался делиться с Пейролем, человеком компетентным, он снизошел объяснить мне, несведущей, и сообщил о том, какие вопросы ему задавали и как он отвечал.
– Но если ты так отвечал, это же прекрасно,– Жюстен даже остановился.
– Давайте поговорим о чем-нибудь другом,– воскликнул Рено.– Хватит и того, что они целый день из меня жилы тянули, эти старые задницы. Хоть здесь-то не будем продолжать.
Впервые я услышала от сына такие грубые слова, но не сделала ему замечания и спросила, боюсь, с некоторым запозданием:
– Ну, а вы как, Жюстен? Как ваши экзамены? Довольны?
– Пока и я тоже ничего не знаю.
Моя тревога перелетела от одного к другому. Мы подошли к дому.
– Вот что, ребятки, я иду к себе в кабинет. Полная свобода. Встретимся за ужином.
Но работала я плохо, то и дело смотрела на часы, прислушивалась. В конце концов мне показалось, что каждый сидит, закрывшись у себя. Отделенная от них запертыми дверями, стенами, сводом, я вся была с ними, с их неотступными мыслями, и эти мысли объединяли нас через все преграды; я-то чувствовала это сообщество, а вот мальчики? Словом, целых три часа я провела в глубоком одиночестве.
Всех троих нас свел час ужина еще задолго до призывного удара колокола. Эти ужины были нашим вечерним сбором после по-разному проведенного дня.
Мы встречались за столом, мы становились настоящей семьей. Когда, пройдя через холл, я вошла под наши шелковицы в уверенности, что явилась первая, я увидела, что справа мимо дома сюда идет Рено, неся в руках овощи, и Жюстен тоже появился из глубины сада, где солнечный свет омывал еще подножие сосен. Каждый из них покинул свою комнату, не интересуясь ни друг другом, ни мною.
– Знаешь, мама, я был в огороде и нарезал артишоков. Будем есть их сырыми с солью. Я вчера и сегодня утром не мог их есть из-за устного экзамена: от сырых артишоков начинаешь мямлить. Но сейчас, когда экзамены кончились...
– Прекрасная мысль – подать их к ужину. Отнеси-ка свои артишоки Ирме, пускай она их хорошенько помоет. Правда, я никогда не слышала о таких особенностях сырых артишоков, ну да ладно, будем мямлить хором. Ох, нет-нет, вы, Жюстен, их не ешьте! У вас завтра утром экзамен.
– До утра я еще успею отмямлиться. Не говоря уже о том, что у нас на устном экзамене рта не открывают – стоят у доски с куском мела в руке.
– Не будем говорить об экзаменах,– бросила ему я, заметив, что Рено возвращается из кухни.– Скажи Ирме,– крикнула я сыну,– пусть приготовит нам томатного сока.
Наши слова как-то удивительно сочетались с дыханием вечера, который, как и всегда в этот час, наплывал к нам снизу, из долины, и я с облегчением убедилась, что Рено немного оттаял. Я чуть ли не с удовольствием услышала его вопрос, есть ли какие известия от "тетушек", хотя, как мне казалось, эта тема уже канула в вечность. Но я хорошо знала своего мальчика: если он о них спросил, как спросил бы о моей работе или еще о чем-нибудь другом, меня касающемся,– то сделал это с целью загладить свою грубость и смягчить мое недовольство, которое не мог не заметить. Я поймала брошенный мне мяч.
– Нет, от тетушек никаких новостей. Полнейшее молчание. Хочу тебе сказать, что после нашего с тобой разговора тогда вечером я велела отнести им в гостиницу мой отказ, изложенный в самой категорической форме. После чего им уже невозможно было вернуться к этому вопросу... Но ведь Жюстен не в курсе дела! Секретов у нас от него нет. Вот о чем идет речь.
Рассказ о демарше моих родственниц не потребовал много слов, но и этого хватило Жюстену, чтобы понять суть дела, поскольку он уже знал о наших прежних распрях. Удивился он их намерению – переложить ответственность с Патрика на родителей – куда больше, чем мой сын, и упирал главным образом на юридический парадокс, что снова убедило меня в правильности моих первоначальных реакций. Не раз я замечала, что мы с нашим лигурийцем почти всегда сходились во мнениях, хоть и принадлежали к разным поколениям и разной социальной среде.
– Славная сцена получится в суде, сцена что надо. Дочь пригвождает свою семью к позорному столбу, указывает перстом на родную матушку... И как начнет разоблачать!
Он представил себе эту картину. Гримаса омерзения скривила юношеские губы, Жюстен, должно быть, мысленно измерял тот поток ужасов, который хлынет из моих уст, и вдруг я заметила, что мы оба попались в ловушку. Рено с серьезным встревоженным выражением лица пристально смотрел на старшего друга, а тот под этим взглядом сразу осекся. Наступило молчание.
– А откуда ты-то знаешь, что она гадости будет говорить? И что это главным образом будет направлено против бабушки?
– Подробностей я, конечно, не знаю,– ответил Жюстен после паузы, которая, надеюсь, показалась длинной только мне одной.– Но, насколько я понял, это именно так. Разве нет? Разве я ошибся?
– Мы с мамой никогда не говорили об этом. Ни при тебе, ни наедине друг с другом.
– Предположим, я догадался. Не могу даже объяснить почему, но догадался, что у вас были неприятности и что вы имеете все основания жаловаться на эту семью.
И, продолжая свои упражнения в гибкости мысли, мой сообщник добавил:
– Пойми, когда очень любишь каких-нибудь людей, ими интересуешься, о многом догадываешься, это же естественно.
– Ах так? – бросил Рено, не спуская с него глаз. Я почувствовала его подозрения, его тревогу насчет тех признаний, которые я могла сделать Жюстену в отсутствие сына, и неизвестно еще, что я такого нарассказа-ла? Сердце сильно заколотилось. Это было у меня уже не в первый раз, и, не решаясь резко переменить тему разговора, я постаралась понезаметнее свернуть на боковую тропинку.
– Но ведь и в самом деле я тебе еще не сказала, почему именно они просили меня пойти на этот шаг.
– Не сказала.
– Из-за Патрика.
– Из-за моего двоюродного брата? Из-за того, который еще в детстве был таким зловредным?
– Да,– подтвердила я смеясь, почти успокоенная тем, что его любопытство так легко сделало оборот на сто восемьдесят градусов.Вообрази, приятели вовлекли его в банду.
– Когда кто-нибудь попадается, всегда валят на приятелей. Чего проще вообще в банду не вступать. Если хочешь, у нас в лицее тоже такие есть, только ты их не знаешь.
– Не то чтобы Патрик был постоянным членом банды. Во всяком случае, так говорят. Но когда его дружки попадали в беду, они просили у него совета. Или помощи. Конечно, это ему льстило, и он не мог им отказать.
– Знаем мы таких парней. Только потому, что родители отваливают им без счета карманные деньги, они фигуряют перед теми, кто победнее. Воображают себя барами.
– А где он учится? – спросил Жюстен.
– В классе философии – ответила я.– Только он отстал. Ему скоро уже восемнадцать. Словом, когда у его дружков не было под рукой машины, Патрик возил их, куда им понадобится. А так как эти вылазки не всегда кончались благополучно...
– Знаю,– отозвался Рено.– Виражи, бешеная гонка. Это уж классика. А еще что-нибудь было? Они грабили, что ли?
– Да. Тетки этого от меня не скрыли.
– Шикарно! Отпрыск Буссарделей – налетчик! Этого только не хватало! Ну если они попались, это еще не так страшно. Только бы убитых не было.
– Не перебивай. Дело этим не ограничилось, мне рассказали все подробности. Как-то ночью, после какого-то налета в пригороде Патрик вез всю банду на "кадиллаке".
– На "кадиллаке"? Вот это да!
– Он упивался тем, что ведет такую шикарную машину, превысил скорость, проехал на красный свет, ему свистели, он не остановился, началась погоня. Полицейские перекрыли дорогу, он врезался прямо в них, в результате трое раненых, один убит.
– Ой!..
Рено застыл с открытым ртом, да и Жюстен тоже, совсем забыв о своей недавней оплошности. Приключения Патрика намного превосходили то, что мог предложить их воображению наш мирный городок.
– Ну, если полицейский загнулся, дело дрянь,– наконец опомнился мой сын.
– А все остальные полицейские выступят свидетелями, если даже ровно ничего не видели,– добавил Жюстен.
– Да будет вам известно, убит человек женатый. Отец семейства. На суд явятся также вдова и сироты. Видите, как все складывается. Адвокаты даже не надеются. Эта корпорация посильнее буссарделевской. Буссарделей я ничуть не жалею, но признаю, что судьба против них.
– Самое ужасное во всем этом деле,– твердил Жюстен,– то, что остались сироты...
– Конечно.
– Одного только я не понимаю,– сказал Рено.
– При чем здесь я, да?
– Да нет. Это я усек. Хоть глупо, но еще куда ни шло. Другое: "кадиллак". Неужели у Патрика есть "кадиллак"? По-моему, это не в стиле нашего семейства – дарить восемнадцатилетнему парню "кадиллак".
– Я и не говорила, что это его машина, я сказала только, он ее вел.
– Значит, не его?
– Ясно, не его. Это-то и осложняет дело. Он ее угнал. Такая уж у него специальность – угонять машины. И надо сказать, по этой части он силен. В лицее сидит по два года в каждом классе, зато может часами говорить о любых моторах, о любых марках автомобилей. У него целый набор всевозможных ключей, и, когда его банде нужно куда-нибудь отправиться, он с превеликим удовольствием добывает им машину ad hoc (На случай (лат.)). Но, желая набить себе цену, угоняет все более роскошные, и в тот день угнал "кадиллак".
– Ого! – крикнул Рено.– В таком случае он вырос в моих глазах, я начинаю его уважать, вот уж не думал, что он на это способен.
– Что? Что?
– Я думал, он просто сноб дурацкий, которого ничего не интересует, и тратит-то он все свои денежки на галстуки да зонтики. Правда, я его уже тыщу лет не видел: должно быть, он здорово переменился. Приношу ему свои извинения.
– Потому что он ворует "кадиллаки"? И убивает полицейских?
– Потому что, раз он помешан на машинах, он в моих глазах приобрел человеческие черты.
Я ничего не сказала и только подумала про себя, какого мнения придерживается на сей счет Жюстен, который поглядывал на Рено, улыбался и молчал.
– Слушай, сынок, я не хочу тебе противоречить, но вряд ли страсть к машинам может оправдать убийство! Или даже воровство.
– Нет, ты только вообрази себе эту сцену! Поставь себя на его место. Ночь, на хвосте мотоциклисты, свистки, сирены, фары, а он за рулем шикарнейшей машины, которая рвет сто пятьдесят – тут действительно все на свете можно забыть! У него все смягчающие обстоятельства.
Редко когда я видела своего сына в таком возбуждении, и, глядя на это восторженное лицо, я обнаруживала другого Рено, который был вовсе не моим. Надеясь обрести душевное равновесие, я снова оглянулась на Жюстена. Он улыбался, и в этой улыбке я не уловила ни капли снисхождения к моему сыну. Заметив, что я смотрю на него, он согнал улыбку с губ. На этот раз взгляды всех нас троих встретились и замкнули треугольник. И вовремя. Рено сам понял, что совершил неловкость, и, быстро поднявшись с места, подошел ко мне с лукавой миной – он знал, что против нее я безоружна,– чмокнул меня, бросив на лету:
– А знаешь, ты очень красивая, когда на меня злишься.
Он опять сел и заговорил как ни в чем не бывало.
– Ты даже представить себе не можешь, мама, что для всех нас значит машина, скорость, что значит ощущать себя повелителем мотора, который отзывается на каждое нажатие твоей ноги.
– Почему же не могу? Вожу я машину подольше, чем ты. И получше.
– Да не в том дело. Тут вопрос поколения. Ты пришла к этому слишком поздно. Ты же сама мне рассказывала, что в детстве видела на улицах Парижа фиакры и лошадей. А мы, мы родились, когда автомобиль уже был. Все наше детство мы мечтали только о том, чтобы водить машину – а их кругом были тысячи,– нестись с бешеной скоростью, стать владыкой дороги. Вспомни-ка наш старый "джип", мне было всего десять, а ты ставила меня между колен и давала мне руль. Я научился вести машину не учась, как научился плавать. Вот такие-то вещи и вырывают пропасть между поколениями. Спроси Жюстена, мы с ним одного поколения.
– Ну-у,– протянул Жюстен, привлеченный в свидетели и старавшийся действовать как можно осмотрительнее.– Я, конечно, не против. И сам хотел бы иметь малолитражку, даже, скажем, "дофина". Но все эти бешеные виражи, как в гангстерских фильмах...
– Потому что ты – человек холодный. И, главное, сейчас не решаешься принять ни ту, ни другую сторону. А я вот отстаиваю свои убеждения. Каждой эпохе свойствен ее романтизм и тот, о котором я говорил,– это наш романтизм. Я же тебе тысячи раз объяснял, мама: теперь существуют новые мифы.
– Ради бога, уволь! Не говори, пожалуйста, о мифах и романтизме в связи со всей этой грязной историей и с золотой молодежью.
– Да все это совсем не так. Ты совсем не о том. Для Патрика это вовсе не грязная история. Тебе рассказывали, что он и сам грабил? Что он участвовал в налетах? А вот и нет, он бескорыстный. И пожалуйста тебе доказательство – он вполне мог бы в тот вечер удовольствоваться машиной достаточно мощной, но поскромнее, и на него никто и внимания бы не обратил. А он нет: угнал машину редкой марки. Из любви к искусству, из любви к приключениям. А теперь против него все общество: понимаешь, почему я говорю о романтизме... Послушай, разве я сказал, что одобряю Патрика?
– Слава те, господи!
– Просто я пытаюсь его понять. Рассматриваю в общей связи со всем...
– Пусть так... Во всяком случае, его ответственность, его казус, то, чем он рисковал, меня не касается. Словом, никакого отношения к нам это не имеет, ты сам запретил мне вмешиваться в эту историю...
– Извиняюсь. Тогда я еще не знал подлинной подоплеки. Теперь узнал, и это все меняет. Теперь мне ясна психология Патрика. Нельзя оставлять его в беде. Ты должна поехать.
– Вот еще новое дело!
– Если нужно, я с тобой поеду.
– К следователю? На разбор дела? К счастью, твои показания не будут учтены: ты, мой мальчик, еще несовершеннолетний.
– А я переговорю с моим опекуном, он ведь из их лагеря. Что, не ожидала? И ты не сможешь мне в этом помешать!
Он бросил эту фразу мне в лицо как вызов. Тон его изменился. Вернее, наш тон. Под моим гневным взглядом мой сын и не подумал сдаться, но тот, другой, посмотрел на меня так, что я поняла – еще одно слово, и он разочаруется во мне.
– Предпочитаю говорить о чем-нибудь другом,– уже спокойнее произнесла я.– Простите, пожалуйста, Жюстен. Ирма! Почему ты до сих пор не накрыла на стол?
Судя по тому, что Ирма сразу же появилась на мой зов со скатертью и с посудой, уже приготовленной на столике на колесах, я догадалась, что она была начеку и, разумеется, слышала наш разговор из кухни. Я избегала смотреть на нее: Ирма явно была на моей стороне, но я не желала выступать общим фронтом против моего сына.
Ужин наконец начался. Мы не разговаривали. Ледяное гаспашо с полагающимся набором пряностей, которые приходилось передавать соседу, отвлекло наше внимание, как бы снова связало нас. Спор не лишил моего сына аппетита, да и меня тоже. Мне хотелось пить, и я нарочно подставила Рено стакан, а не налила сама себе, чтобы он не подумал, будто я на него сержусь; он не торопясь стал наливать вино, в это мгновение мой взгляд упал на его голую руку. Рука эта описала над столом такую гибкую и мягкую дугу, что у меня сердце захолонуло. Тут я вспомнила весь сегодняшний день, и меня охватило отчаяние.
– Мы все немножко нервничаем,– начала я.– И все потому, что ждем завтрашнего дня.
Мой сын, не столь гибкий, как его руки, промолчал.
– Пойми, милый, вовсе еще не доказано, что мое вмешательство пойдет на пользу Патрику.
– Ведь мы о другом решили говорить...
– Ты отлично знаешь, что я не желаю затыкать тебе рот. Или навязывать свою точку зрения.
Он взглянул на меня, и в глазах его неожиданно промелькнула чисто мужская ирония.
– Но, мама, навязывать мне свою точку зрения бесполезно. Впрочем,добавил он, решив больше не дуться или же слишком уверенный в своей правоте,– в этом пункте ты все равно не можешь заставить меня изменить точку зрения. Я вовсе не считаю, что эти две тетеньки такие уж симпатичные, но они ведь не глупенькие девочки, смотри – я объективен. Если бы вся эта махинация была ни к чему, они не стали бы выдумывать ее, да еще вместе с адвокатом. Если не ошибаюсь, тетя Анриетга – это та самая, что все время повторяет: "Не забывайте, что я в своем праве"?
– Как? Ты, оказывается, ее помнишь! – сказала я весело, обрадовавшись его шутливому тону.
– Видишь, значит, эта дама хорошо подкована. Да и другая тоже на свой манер. По-моему, это мать Алена, она приезжала к нам и говорила с тобой. Верно?
– Совершенно верно. Я вижу, ты их хорошо знаешь. Выслушайте, Жюстен, еще одну миленькую историйку. Теперь вы уже по уши влезли в анналы Буссарделей.
– Мне не хотелось бы быть нескромным,– сказал он.
Я поняла, что ему главным образом хотелось соблюсти нейтралитет, но не могла же я пренебречь предоставившимся мне случаем перевести разговор.
– Нескромным? Вы отлично знаете, что это к вам не относится. И ваше беспристрастное мнение может нам очень и очень пригодиться. Рено подтвердит вам, что я больше дорожу мнением молодых, чем своих ровесников. Ну так вот: моя кузина Жанна-Поль, наиболее примечательная из двух дам, которых вы видели здесь, явилась ко мне в качестве mater dolorosa (Скорбящая мать (лат.)) номер один нашего семейства. С целью бросить свою траурную вуаль на чашу весов. Уже лет пять она разыгрывает эту роль. С тех самых пор, как ее сын пошел на верную смерть в Индокитай в том возрасте, когда полагается протирать штаны в Сорбонне. Кстати, неплохой мальчик! Единственный его грех: имел в качестве... даже не друга, а просто соученика одного студента, которого тоже привлекали к судебной ответственности... совсем по другому делу,– добавила я, не пояснив, что тогда речь шла об аборте.– Следователи допрашивали его, Алена, только для проформы, так же как и всех прочих его товарищей по лицею Жансона. Но для отца с матерью это было событием чрезвычайным. Чтобы сын Буссарделей да не был, как жена Цезаря, вне подозрений!.. Короче, в отцовском кабинете разыгралась сцена суда с тремя участниками: "Сын мой, единственное, что тебе остается сделать, это завербоваться в армию!" Бедняге ничуть этого не хотелось, и он прямо об этом заявил. Но ему устроили дома такую жизнь, что он предпочел завербоваться. А через четыре месяца его убили где-то на рисовой плантации.
– Но вы рассказываете нынче вечером истории, относящиеся к прошлому веку...
– Нет, просто к другому миру, к тому, откуда я вышла. Короче, уже на следующий день моя кузина начала репетировать роль матери, у которой родина отняла сына... И, слушая ее здесь, я подумала: может, она сама в конце концов стала верить, что ее сын добровольно пожертвовал собой,– так долго и так много она об этом говорила. И она еще имела наглость сказать мне: "Мы должны делать все, Агнесса, запомните, все, лишь бы спасти наших сыновей, когда они еще, на наше счастье, с нами; я предпочла бы, чтобы мой сын стал бездельником, подонком, лишь бы мне его вернули, лишь бы он был жив!"
Как бы заклиная опасность, я положила руку на руку Рено и, когда опомнилась, все равно руки не отняла. И в то же время я подумала о сходстве между этими двумя случаями, Патрика и Алена, о существующем, видимо, законе, который приводит к одинаковым катастрофам в лоне семьи.
– Да ну их! – заметил Жюстен.– Если даже пойти рассказать судьям всю эту историю про то, что его силком отправили в Индокитай, все равно другому этим не поможешь. Еще возьмут и его тоже пошлют на бойню.
– Я не об этом стала бы говорить. А о том, как они поступили со мной. Тем паче что делалось это все на глазах и с ведома этого самого Патрика, и имя Патрика фигурировало во всех письмах истцов, которыми нас буквально засыпали. Он лично извлек выгоду из того процесса, который нас разорил.
– Да разве в этом дело? – упрямо крикнул Рено. Подперев голову руками, Жюстен сказал:
– А знаешь, все это похоже на кетч в грязи с двенадцатью участниками, который как-то передавали по телеку из Америки. Не могу представить себе вас вышедшей на ринг, чтобы нанести удар кулаком: вы же выберетесь оттуда вся в грязи.
– Прекрасно сказано. Слышал, Рено?
– Но это же не есть решение проблемы.
– Ты же видишь, Жюстен говорит весьма разумно, и он тоже считает, не будучи ни судьей, ни одной из заинтересованных сторон, что мое вмешательство немыслимо.
– Он уже не в первый раз поддерживает твое мнение, просто чтобы за тобой поухаживать.
– Что это ты несешь! – недовольно остановил его Жюстен.
– Возможно, это потому, что он,– начала я и махнула Жюстену, чтобы он успокоился,– потому что он не возводит в культ из голого принципа парадоксы и желание противоречить.
– Вот уж тебе-то не пристало говорить о желании противоречить. В последнее время стоит мне только рот открыть, и ты сразу же начинаешь возражать, что бы я ни сказал. Да и он тоже, впрочем.
– Послушай, Рено,– заговорил Жюстен, который из нас троих держался наиболее спокойно,– уж не воображаешь ли ты...
– Тебе-то что, ты ведь здесь ни при чем, значит, заткнись!
– А ты, пожалуйста, не груби! Жюстен наш гость. Вы, кажется, хотели что-то сказать, Жюстен? Мне интересно вас послушать.
– Да так, ничего. Короче, значит, надо все эти гнусности, которые они на вас обрушили и с которыми вы сумели благополучно разделаться,– надо по той или иной причине снова собрать в одну кучу и публично швырнуть в лицо вашей семье. По-моему, это подло.
– Подло другое,– крикнул Рено,– оставлять в беде Патрика! Более чем подло – это трусость.
Я поняла, что он хочет вывести меня из терпения.
– Ты уже сам не понимаешь, что говоришь.
– Правду,– возразил он, не глядя мне в лицо,– от нее требуется проявить храбрость, а храбрости-то у нее как раз и нет. Твердит, что она, мол, далека от предрассудков, а сама – обыкновенная буржуазка... Да-да, я правильно угадал, видишь, она обозлилась.
Я взяла его за руку и сильно тряхнула, чтобы он взглянул на меня.
– Хватит об этом, ладно? Раз ты не можешь говорить на эту тему спокойно и не грубить. И заруби себе на носу, я не буду выступать свидетельницей на этом процессе, говорю тебе раз и навсегда. Теперешний наш спор только укрепил меня в моем решении. А Жюстен сумел великолепно сформулировать причины, по которым мне не следует выступать.
Чернильно-черный глаз Рено метнул на Жюстена порцию самых ядовитых своих чернил, но никто из нас не тронулся с места.
– Можно встать из-за стола? – сдавленным голосом спросил Рено.
– Если хочешь. Возьми фрукты и съешь их, где тебе будет угодно.
Он захватил целую гору фруктов и побрел прямо к склону, где начиналась сосновая роща.
Жюстен из-за стола не встал.
Когда я поднялась на второй этаж, собираясь ложиться, я потихоньку открыла дверь спальни Рено и неслышно приблизилась к постели. Он спал или притворился, что спит. В окно вливался свет луны и ночной воздух. Через минуту я уже различила черты его лица, пушистую щеточку ресниц, к которой я приглядывалась сотни раз, стараясь угадать еще с его младенчества, спит он или нет, и которая сейчас, как и прежде, скрывала уголки век, наглухо запечатывала его тайну. Мой сын, этот незнакомец... Я нагнулась и, не опираясь о край кровати, чтобы его не разбудить, еле коснулась поцелуем его лба. Я тогда ломала себе голову, да и сейчас еще ломаю, – спал он или нет.
На следующее утро я отправилась на стройку только после того, как дождалась от Рено телефонного звонка из города: он прошел. Отметка довольно хорошая. Точно так же, как и накануне, я не хотела являться к лицею и на людях целовать его; звонил Рено из лицейского автомата, откуда слышно каждое слово, поэтому он на подробности поскупился, хотя именно их я и ждала. В ту же самую минуту, еще не положив трубки, я дала себе слово рассеять неприятный осадок, возможно, оставшийся у Рено после вчерашнего спора. К тому же кое-какой заранее приготовленный сюрприз – награда, ожидавшая только своего часа,– сумеет, я-то знала это, вернуть на его губы улыбку и на чело безоблачную радость.
Когда Рено изложил мне суть дела, оба мы помолчали, разделенные проводом, и мой сын сам ответил на незаданный мною с умыслом вопрос:
– Жюстен тоже прошел. Отметка такая же, как и у меня.
– Тогда браво!
– Он помчался в горы сообщить своим старикам. Вернется домой попозже.
– А ты что будешь делать?
– Охота пойти в бассейн. Знаешь, как в таких случаях кроль помогает.
– Чудесно. А я, очевидно, запоздаю к обеду. Так что не торопись, располагай своим временем, мне нужно заняться новой стройкой, там не все еще в порядке.
Это была чистая правда. Речь шла о той развалюхе, которую я взялась привести в христианский вид для знаменитого путешественника, он же киношник и лектор. Эта самая овчарня лежала ниже и севернее старинного полуразрушенного поселка, охраняемого законом как исторический памятник, и таким образом тоже попадала в зону, подвластную царству искусства: здесь нельзя было ничего строить, не согласовав с соответствующими инстанциями, даже восстанавливать старинные стены, если это нарушало первоначальную архитектуру. А чтобы провести моему клиенту канализацию и поставить бак для мазута, следовало расширить бывший свинарник, вплотную примыкавший к главному зданию, и на это тоже требовалось получить разрешение. Зависело это от мэра и учителя, председателя общества "Друзей древнего поселения", людей культурных и весьма красноречивых, с которыми я договорилась о встрече, и беседа наша могла затянуться.
Но дело стоило труда. На сводчатой арке главного входа красовалась дата 1600 год, и все здание тремя своими сторонами напоминало блокгауз, возведенный против мистраля; зато четвертая – фасад, обращенный к югу и выходивший во внутренний двор, получал свою порцию сладостного тепла, недаром в стене, грубо сложенной из неотесанных камней, были без всякого намека на симметрию пробиты окошки. Единственная уцелевшая часть "ансамбля" в кадастре и по словам старожилов звалась Ла Рок, скала,– и овчарня, превращаемая в жилье, сохраняла это название. И в самом деле, повсюду в ландах проступал камень, и его белесые шероховатые горбы губили чахлую растительность и представляли немалую опасность для пешехода. Подлинное царство голого камня. Как нередко в этих краях, пейзаж был скорее греческий, чем романский, чему способствовало чередование зеленой растительности и скал на заднем плане, игра солнечных бликов, какая-то удивительная свежесть и легкость воздуха, что-то одновременно очень живое и очень суровое.
Но после вчерашнего спора в моей душе, несомненно, остался более горький осадок, чем в душе Рено. Я и всегда-то была чрезвычайно уязвима, подвержена печальной склонности возвращаться мыслью к тому, что сделала, что сказала, что мне сказали. Хотя за последние пять лет я научилась целиком брать на себя всю ответственность за свое дело, достигнутые мною удачи на избранном поприще все равно не избавили меня от этих пут. Все утро, которое я провела в Ла Роке и в соседнем поселке, несмотря на увлеченность делом, я все время слышала слова Рено, его упреки, брошенные мне за ужином. Пусть эти упреки были незаслуженными, но сказанного не сотрешь. Мой сын произнес эти слова вслух, а может быть, и думал так.








