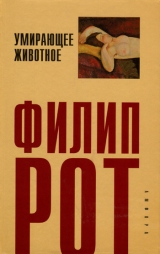
Текст книги "Умирающее животное"
Автор книги: Филип Рот
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 9 страниц)
Однако она не попросила прислать ей фотографии. Позволю себе напомнить, что Консуэлу не назовешь женщиной блистательного ума. Потому что в противоположном случае вся эта история с фотосессией означала бы совершенно другое. Потому что тогда она выглядела бы не более чем тактическим ходом со стороны Консуэлы. А где тактика, там и стратегия, которую следовало бы, как минимум, разгадать. Однако Консуэла порывиста, самые серьезные по своим последствиям поступки она совершает по наитию, совершает на подсознательном уровне, проникшись ощущением собственной правоты, хотя сплошь и рядом не зная ни почему, ни зачем она ведет себя именно так. Приехать ко мне, чтобы сфотографироваться, – как раз такое почти инстинктивное действие для нее чуть ли не само собой разумеется, и никакой задней мысли у нее не было. Вы бы, понятно, как следует призадумались, а вот Консуэла просто-напросто не взяла на себя такого труда. Она сказала, что чувствует себя обязанной запечатлеть свою красоту для меня истинного знатока и ценителя ее телесного совершенства. Однако на самом деле за этим крылось нечто большее.
Я давно подметил, что большинству женщин присуще тревожно-неуверенное отношение к собственному телу, пусть тело это – как у той же Консуэлы – и лишено малейших изъянов. Далеко не все они убеждены в том, что оно и впрямь совершенно. Есть тип женщин, которые, наоборот, ничуть не сомневаются в этом, но они исключение из общего правила. Многие буквально одержимы мыслью о собственных телесных недостатках, причем о недостатках, как правило, мнимых. Например, они часто стесняются собственной груди. Причину этой стеснительности я так и не смог разгадать, но любую из них приходится долго уламывать, прежде чем она разденется перед вами с подлинным наслаждением – и это наслаждение только усилится оттого, что вы ею залюбуетесь. Так дело обстоит даже с теми из них, кого природа наделила прелестью особенно щедро. Лишь очень немногие раздеваются перед тобой достаточно непринужденно, а в наши дни, с их вечными спорами о вопросах пола, как раз эти раскованные девицы чаще всего оказываются плоскогрудыми, причем без малейшего налета пикантности, присущей иным едва ли не мальчишеским соскам.
Но эротическое могущество, которым обладает тело Консуэлы… Нет, не будем об этом. Все уже в прошлом. В ту ночь у меня встал, хотя, строго говоря, как встал, так и опал. Мне повезло: я по-прежнему не испытываю проблем ни с эрекцией, ни с либидо, но, если бы той ночью Консуэла предложила мне переспать с нею, пришлось бы как-то выкручиваться. И еще придется как-то выкручиваться, если она заявится ко мне после операции с подобным предложением. А я думаю, что так оно и случится. Потому что так оно наверняка и случится, не правда ли? Первый заход в новом качестве ей захочется совершить со старым конем, не портящим борозды. Со знакомым конем. Потому что она будет недостаточно уверена в себе, но останется все такой же гордячкой, потому что лучше со мной, чем с каким-нибудь Карлосом Алонсо или братьями Вильяреаль. Старость не столь губительна, как раковая опухоль, но все же она губительна в сопоставимых масштабах.
Часть вторая. Пройдет еще три месяца, и Консуэла приедет ко мне и скажет: «Давай переспим». И тут же разденется. Неужели меня поджидает такая напасть?
У Стэнли Спенсера[26]26
Стэнли Спенсер (1891–1959) – английский художник, представитель магического реализма.
[Закрыть] есть картина, висящая в галерее Тейт, автопортрет с женой, причем оба они, примерно сорокапятилетние, изображены полностью обнаженными. Этот двойной портрет представляет собой квинтэссенцию супружеского симбиоза, над которым, в его прямоте и бесстрашии, не властно время. У меня в библиотеке есть альбом Спенсера с репродукцией двойного портрета. Я покажу вам позже. Спенсер сидит широко расставив ноги, а жена его полулежит рядом. Он задумчиво смотрит на нее в упор сквозь очки в металлической оправе. Мы, в свою очередь, смотрим в упор на них обоих, на два нагих тела, которые – этого от нас ничуть не скрывают – уже далеко не молоды и, мягко говоря, не аппетитны. Да и счастливой эту парочку не назвать. Настоящее просело под грузом прошлого. Особенно у жены: тело рыхлое, дряблое, целлюлитное, и вскоре его ждут еще большие перемены к худшему.
На переднем плане картины – стол, а на нем лежат два куска мяса, баранья нога и одна-единственная миниатюрная отбивная. Сырые. Оба куска изображены с тою же чисто физиологической скрупулезностью, с той же безжалостной прямотой, что и отвисшие груди жены, бессильно и безнадежно поникший член мужа, чья плоть отделена от неприготовленной пищи каким-то десятком сантиметров. Ты словно бы припал к витрине мясной лавки и нежданно-негаданно обнаружил там не только выставленное напоказ съестное, но и асексуальное мясо пожилой супружеской пары. Каждый раз, когда я вспоминаю о Консуэле, мне представляется эта сырая баранья нога, похожая на первобытный посох, и бесстыдно открытые всем взглядам тела мужа и жены. Однако чем дольше смотришь на них, тем менее непотребным становится их присутствие здесь, в непосредственной близости от брачного ложа. Женщина несколько растеряна, но она уже смирилась со своим поражением, отрубленный разделочным топором кусок мяса не имеет ничего общего с полным жизни животным, и вот уже три недели, прошедшие с той новогодней ночи, когда ко мне приехала Консуэла, я не могу избавиться от двойного образа: раздавленная жизнью женщина и отрубленная топором мясника баранья нога.
Мы посмотрели в записи встречу Нового года на всем земном шаре, понаблюдали вживую за лишенной малейшего смысла массовой истерией, в которую вылилось празднование миллениума в Нью-Йорке. Один часовой пояс за другим взрывался тысячами шутих, и ни одна из этих шутих еще не была запущена Осамой бен Ладеном. Лондон рассверкался огнями как ни разу за предыдущие шестьдесят лет – со времени зажигательных бомб «блицкрига». А Эйфелева башня, извергнув пламя, словно бы и сама превратилась в чудо-оружие, в то самое чудо-оружие, которое спроектировал для Адольфа Гитлера Вернер фон Браун, во всеразрушительную ракету ракет, во всеистребительный снаряд снарядов, в убийственнейшую бомбу бомб, сброшенную из древнего Парижа, как из-под днища суперсовременного самолета, на земной шар как на одну-единственную подлежащую уничтожению цель. Весь вечер по всем каналам показывали этот пародийный Армагеддон, которого мы поджидали, роя у себя на заднем дворе бомбоубежище, поджидали с 6 августа 1945 года. Ума не приложу, как светопреставление ухитрилось обойти нас стороной. Даже ночью миллениума – особенно этой ночью – люди ожидали самого худшего, словно весь вечер в воздухе визжала истошная противовоздушная сирена. Вечерняя вигилия целой цепи чудовищных ночных хиросим, по мере смены часовых поясов выжигающих одну земную цивилизацию за другой. Сейчас или никогда. И, как выяснилось, все-таки никогда.
Может быть, именно это и праздновали по всей планете – ненаступление конца света, полное и окончательное ненаступление, раз и навсегда непоправимо и счастливо упущенный шанс. Отныне все земные напасти стали контролируемы, через строгие интервалы прерываемые рекламной паузой. Телевидение занялось тем, что ему удается лучше всего, – превратило трагедию в повседневность. Триумф поверхностного существования, и Барбара Уолтере[27]27
Барбара Уолтерс (р. 1931) – знаменитая американская тележурналистка.
[Закрыть] – пророк его. Но даже разрушение великих городов было бы лучше этого всепланетарного извержения тривиального и поверхностного, этого вселенского взрыва дешевой сентиментальности, равного которому не случалось даже у нас, в Америке. Одни и те же речовки, одни и те же клише распространялись со сверхзвуковой скоростью на всем просторе от Сиднея до Вифлеема и лондонской Таймс-сквер. Не было ночных налетов; не лилась кровь; взлетали не бомбардировщики, а биржевые котировки; наступало не светопреставление, а всеобщее процветание. В нашу эпоху, прельстившуюся величественной иллюзией призрачного величия, малейшая ясность, привносимая в вопрос о всеобщей катастрофе, оборачивается победоносной пошлостью. Наблюдая за этой гиперболизированной карнавализацией самого бытия, я размышлял о том, что наш нежданно-негаданно разбогатевший мир с превеликой радостью вступает в преуспевающее (но, увы, только на свой лад) Средневековье. Ночь всеобщего счастья, заранее возвещенная на сайте barbarism.com. Приветственные спичи в честь грядущего в третьем тысячелетии кича. Будущее под знаком Овна на букву «г». Ночь, которую следует не запечатлеть в памяти, но, напротив, как можно скорее забыть.
Забыть все, кроме дивана, где я сижу, обнимая Консуэлу, обвивая руками ее наготу, согревая в ладонях ее груди, и мы с ней смотрим «по ящику» наступление Нового года на Кубе. Ни один из нас не знал заранее, что сейчас покажут именно это, но вот перед нами внезапно материализовалась Гавана. Тысячи туристов и так называемых ночных гуляк столпились на ступенях некоего амфитеатра как живое воплощение духа былых – и, как принято на Карибах, жарких – времен; духа, который когда-то, во дни «крестных отцов», притягивал сюда, в нынешнее полицейское государство, любителей пожить и погулять на широкую ногу. Ночной клуб «Тропикана» в отеле с тем же названием. Никаких кубинцев, кроме представителей так называемой индустрии развлечений, хотя по любому из них видно, что они пришли сюда отнюдь не развлекаться; множество молодых людей, в том числе девяносто шесть (точную цифру называет комментатор Эй-би-си) красавчиков в ослепительно белых шелковых костюмах, которые не столько поют и не столько танцуют, сколько патрулируют периметр сцены, переговариваясь друг с дружкой по рации. Танцовщицы из здешнего варьете, похожие на длинноногих латиноамериканцев-трансвеститов из Вест-Виллидж и наверняка такие же обкуренные. На головах у них шляпы, больше смахивающие на абажуры (высотой в девяносто сантиметров каждая, по уверениям все того же комментатора), а на спине – белые плюшевые крылья.
– О господи, – вздыхает Консуэла и принимается плакать. – Вот что, – рассерженно продолжает она, – он решил показать всему человечеству на Новый год.
– Несколько гротескно, пожалуй, – осторожно вставляю я. – Но, может быть, у Фиделя Кастро столь своеобразное чувство юмора.
Так ли это на самом деле? Впал ли кубинский деспот в невольную автопародию или, напротив, сознательно смеется над собственной ненавистью к миру «загнивающего капитализма»? Фидель Кастро, решительно осудивший режим своего предшественника Батисты (и свергнувший его) в первую очередь за чиновничью коррумпированность и всеобщую порчу нравов, символом которых как раз и были шикарные отели для иностранных туристов вроде той же самой «Тропиканы», – зачем он затеял этот позорный спектакль, кубинскую версию празднования миллениума? Папа римский на такое не пошел бы: в Ватикане пиар поставлен отлично. Только в Советском Союзе, пока он не рухнул, исповедовали именно такую безвкусицу, именно такую пошлость. У Кастро имелся довольно широкий выбор возможностей из арсенала традиционной пропаганды в духе социалистического реализма: встреча Нового года на сахарной плантации, в родильном доме или на табачной фабрике. Счастливые кубинские рабочие курят гаванские сигары, счастливые кубинские матери кормят младенцев грудью, счастливые кубинские младенцы вбирают вместе с материнским молоком благородный сигарный дым… Но он выбрал пошлейшее варьете для самой невзыскательной публики из числа приезжих! Сознательный вызов, дурацкая ошибка или тщательно продуманная пародия на истерические восторги по поводу ничего не значащей, псевдоисторической круглой даты? Но, какими бы мотивами он на самом деле ни руководствовался, Кастро в любом случае не потратил на это ни гроша. Не потратил ни минуты на размышления. Да и с какой стати великому революционеру Кастро – а впрочем, и кому угодно другому – всерьез ломать себе голову над тем, что, как порой кажется, позволит нам в итоге что-то в этом мире понять, тогда как на самом деле ничего мы не поймем и в третьем тысячелетии, как не поняли ни в первом, ни во втором. Поток времен. Мы плывем, захлебываемся, тонем и окончательно утопаем. Псевдособытие – вот что такое празднование миллениума, псевдособытие, пришедшееся на тот самый момент, когда страдалица Консуэла переживает событие подлинное, величайшее в жизни. Конец Великой Эпохи, хотя никто на самом деле не знает, что кончается, да и кончается ли вообще хоть что-нибудь, а главное, никто не знает, что, собственно говоря, начинается. Абсолютно безумное празднование неизвестно чего.
Известно это одной Консуэле, потому что она теперь знает, что такое старость. Само по себе старение – процесс, который невозможно себе представить, когда не стареешь сам; однако применительно к Консуэле этот неписаный закон уже не работает. В отличие от своих сверстников и сверстниц, она больше не отсчитывает время исключительно от исходной точки. Время для молодого человека измеряется только прожитым, тогда как для Консуэлы вопрос стоит принципиально иначе: а сколько времени мне еще осталось? И ей кажется, что речь идет об исчезающе малой, о пренебрежимо малой величине. С недавних пор Консуэла отсчитывает не прожитое, а предстоящее, и сам этот отсчет производится под знаком смерти. Жертвой пала иллюзия, навеянная метрономом, утешительная мысль о том, что – тик-так – все происходящее с тобой происходит в надлежащее время. Вновь обретенное Консуэлой ощущение времени совпадает с моим; только для нее время летит еще стремительней, еще безвозвратней. Строго говоря, в этом она меня превзошла. Потому что я все еще могу внушать себе: «В ближайшие пять лет я не умру. А может, и в ближайшие десять. У меня ничего не болит, я в прекрасной форме; как знать, не протяну ли я и все двадцать?», а вот она…
Главная, и самая прекрасная, волшебная сказка, которую слышишь в детстве, – это та, что говорит: все в жизни происходит в вековечном, раз и навсегда установленном порядке. Бабушка с дедушкой уходят раньше отца с матерью, а отец с матерью – раньше тебя. А если тебе повезет, все и дальше будет происходить точно так же: люди вокруг тебя состарятся и умрут «строго по расписанию», так что, присутствуя на похоронах, ты каждый раз сможешь найти известное утешение в мысли, что человек, которого провожаешь в последний путь, прожил долгую жизнь. Конечно, сам факт смерти не становится от этого менее чудовищным, чем ты предполагал, знал заранее, однако и здесь, не давая страданию размотаться на всю катушку, срабатывает порожденная метрономом иллюзия: «Имярек прожил долгую жизнь». Но Консуэле в этом смысле не повезло, и вот она сидит со мной, сознавая, что ей уже вынесен смертный приговор, а на экране веселятся и собираются веселиться всю ночь; искусственно нагнетаемая, инфантильная по своей природе истерия; восторженное братание с воистину безграничным будущим людей вроде бы совершенно взрослых, а значит, обладающих безысходным знанием того, что отмеренное каждому из них будущее отнюдь не безгранично, а, напротив, строжайшим образом лимитировано. Но и этой безумной ночью ничье знание не может быть безысходней того, которым наделена Консуэла.
– Гавана, – вздыхает она, и слезы льются из глаз еще пуще. – Я ведь думала, что когда-нибудь побываю в Гаване.
– Ты там еще побываешь.
– Нет. Ах, Дэвид, мой дедушка…
– Что твой дедушка? Я слушаю! Расскажи мне. И вообще не молчи.
– Мой дедушка уселся однажды в кресло в гостиной перед телевизором…
– Продолжай.
Я по-прежнему обнимал ее, когда она начала рассказывать о себе, как не рассказывала никогда раньше, не имея на то причины, начала рассказывать то, что она, не исключено, о себе раньше даже не знала.
– На Пи-би-эс шел вечерний час новостей, – продолжила она сквозь слезы, – и дедушка внезапно вздохнул: «Бедная мама!»
А прабабушка умерла в Гаване уже в его отсутствие. Потому что предыдущее поколение – прабабушек и прадедушек – с Кубы так и не сбежало. «Бедная мама! Бедный папа!» Они остались на острове. Порой на дедушку накатывала печаль, и он начинал тосковать по ним. Чудовищно тосковать, просто-напросто чудовищно. И вот такое чувство владеет сейчас и мной. Только я тоскую по самой себе. Тоскую по своей жизни. Я ощупываю себя, прохожусь руками по всему телу и думаю: это же мое тело! Что же с ним такое? Этого не может быть. Не может быть ни с ним, ни со мною, но почему же эта штука не исчезает? Как мне от нее избавиться? Я не хочу умирать! Дэвид, мне страшно умирать!
– Консуэла, дорогая моя, но с чего ты взяла, будто пришла пора умереть? Тебе тридцать два года. Ты проживешь еще очень долго.
– Я выросла в эмигрантской семье. Поэтому привыкла всего на свете бояться. Ты это знал? Я и на самом деле буквально всего на свете боюсь!
– Ох нет. Мне так не кажется. Боишься всего на свете? Ну, нынешней ночью, допустим, но вообще-то…
– Всего и всегда! Я ведь не виновата в том, что родилась в эмигрантской семье. Может быть, мне такого и не хотелось бы. Но ты растешь, ты становишься старше, а вокруг только и слышно: «Куба… Куба… Куба…» И посмотри только! Посмотри на этих людей. На этот вульгарный сброд. Посмотри-ка на то, что Фидель сделал с Кубой! Но, кроме как по телевизору, я этого никогда не увижу. Я никогда не увижу наш дом. Никогда не увижу фамильный особняк.
– Ну, почему же? Увидишь. Как только Фидель умрет…
– Это я умру, а не он!
– Ты не умрешь. Ты справишься. Только не паникуй. С тобой все будет в порядке, ты останешься жива и здорова…
– А хочешь узнать, что за образ сложился у меня в мозгу? Образ родины? Образ Кубы, преследующий меня всю жизнь?
– Ну конечно хочу. Расскажи мне об этом. Постарайся успокоиться, а потом расскажи мне все. Хочешь, я выключу телевизор?
– Нет, не надо. Нам наверняка покажут что-нибудь получше. Они там, на острове, просто обязаны показать нам что-нибудь получше.
– Расскажи мне, что за образ Кубы сложился у тебя в голове, Консуэла.
– Это не пляж, отнюдь. Вот для моих родителей Куба – это прежде всего песчаные пляжи, на которых они резвились маленькими детьми, а взрослые господа и дамы сидели по всему берегу в шезлонгах, потягивая коктейли. Каждое лето бабушка с дедушкой снимали виллу на берегу, но этими воспоминаниями я, разумеется, обделена. Мой образ Кубы совершенно иного рода. И ныне, и присно, и во веки веков. Ах, Дэвид, они ведь похоронили свою Кубу задолго до того, как им самим пришла пора удалиться в мир иной. Похоронили ее поневоле. Мой отец, мой дедушка, моя бабушка – все они, покидая Кубу, прекрасно понимали, что больше никогда туда не вернутся. И действительно так никогда и не вернулись. А теперь, получается, никогда не вернусь и я.
– Вернешься, – заверил я ее. – Но что же это все-таки за образ? Расскажи мне. Расскажи.
– Мне всегда казалось, что я туда вернусь. Просто чтобы посмотреть на наш дом. Посмотреть на фамильный особняк. Просто убедиться, что он все еще стоит на месте.
– Это и есть твой образ? Мысленный образ дома?
– Нет, это не дом, а дорога. Набережная Малекон. Если тебе встречались снимки Гаваны, на них непременно должен был попасть и Малекон. Это неописуемо красивая набережная прямо над водою. И все сидят на самом краю мола, болтая ногами в воздухе. На любой фотографии. Ты видел «Клуб „Буэна Виста“»?[28]28
«Клуб „Буэна Виста“» — документальный фильм (1999) немецкого режиссера Вима Вендерса о Кубе, отмеченный многими международными наградами.
[Закрыть]
– Видел. Разумеется, я пошел на него из-за тебя. И думал о тебе все время, пока длился сеанс.
– Ну вот, там эта набережная. И волны разбиваются об этот мол. Всего несколько кадров. Вот там мне всегда хотелось бы очутиться.
– Набережная, которая могла быть твоею, – заметил я.
– Набережная, которая должна была быть моею!
И вновь она истерически разрыдалась, а на экране бесцельно маршировали танцовщицы из варьете в своих фантастических «абажурах» (каждый из которых, успели нам меж тем сообщить, весом в шесть кило). Теперь мне стало окончательно ясно: таким образом Кастро показывает средний палец уходящему двадцатому столетию. Потому что вместе с веком заканчивается и его собственная историческая миссия, заканчивается его влияние на ход событий, как случившихся, так и не случившихся[29]29
Очевидный в данном контексте намек на Карибский кризис 1962 г., едва не обернувшийся третьей мировой войной.
[Закрыть].
– Поговори со мной, – сказал я ей. – Ты никогда раньше не рассказывала мне этого. Ты не разговаривала со мной так восемь лет назад. Тогда ты была слушательницей. Была моей студенткой. И я ничего этого так и не узнал. Расскажи мне о том, что должно было быть.
– Набережная и я. Вот и все. Сижу, свесив ноги, болтаю с прохожими. Вот и все. Ты на берегу океана – и все же в большом городе. Такое там место встреч. Такой променад.
– Ну, – не удержался я, – вид у этого променада довольно жалкий. В документальном фильме. Скорее, запустелый.
– Так оно и есть. Но всю жизнь я представляла себе его совершенно по-другому.
И тут ее горе, невыносимая тоска по всему, что она и ее семейство безвозвратно утратили, тоска по отцу и дедушке с бабушкой, умершим в изгнании, по себе самой, собирающейся, увы, умереть в изгнании (а ведь никогда еще не осознавала она свое изгнанничество столь остро), по всей прекрасной Кубе семейства Кастильо, по всей прекрасной Кубе, которую уничтожил Фидель Кастро, тоска по всему, что ей вот-вот предстоит (как ей казалось) навеки потерять, – тут все это с такой силой завладело ею, закрутило Консуэлу (которую я по-прежнему сжимал в объятиях), что на целых пять минут она словно бы лишилась рассудка. Я буквально физически ощутил обуявший ее ужас.
– Что это, Консуэла? Ради бога, скажи, как тебе помочь. Скажи, и я это сделаю. Что тебя так мучает?
И вот что она поведала мне, когда вновь обрела дар речи. Вот что, оказывается, к величайшему моему изумлению, мучило ее сильнее всего.
– Разговаривая с родителями, я всегда отвечала им по-английски. О боже! Почему я не говорила с ними по-испански! Хотя бы изредка.
– С кем?
– С папой. Он так радовался, когда я называла его Papi. Но так я делала, только пока была совсем маленькой. А потом уже никогда. Пала и папа. Да и как же иначе? Мне ведь хотелось стать самой настоящей американкой. Мне не нужна была их креольская грусть.
– Консуэла, милая моя, то, как ты его называла, не имеет ровным счетом никакого значения. Ему и так было известно, что ты его любишь. Ему было известно, как сильно…
Но для нее не находилось утешения. Я никогда еще не слышал от нее подобных речей и никогда еще не становился свидетелем поступка, который она совершила буквально в то же мгновение. Конечно, у каждого разумного, уравновешенного человека имеется теневой двойник, и двойник этот безумно боится смерти; но, когда тебе тридцать два, временной промежуток между Теперь и Тогда кажется, как правило, бесконечным (во всей своей неопределенности бесконечным), так что ты от силы пару раз в год – да и то на мгновение-другое, самое большее на часок-другой темной ночью – сливаешься со своим теневым двойником и входишь в состояние помешательства, в котором он пребывает постоянно.
Итак, она сняла свою шапочку. Точнее, не сняла, а сорвала и отшвырнула прочь. На протяжении всего своего визита ко мне Консуэла оставалась в этой чертовой феске – даже когда позировала мне полностью обнаженной и я фотографировал ее груди. А вот сейчас сорвала ее. С наступлением Нового года сорвала с головы новогоднюю карнавальную шапочку. Сначала фарсовое эротическое варьете, организованное Фиделем Кастро, а сразу вслед за этим – бесстыдное выставление напоказ Консуэлой собственной уязвимости, беззащитности и смертельной болезни.
Зрелище оказалось просто-напросто ужасающим. Такая молодая, такая красивая женщина, а на голове у нее какой-то жалкий пушок, тонкий, редкий, бесцветный… Уж лучше бы она пошла в парикмахерскую и обрилась наголо. Изменилась не она – изменилось мое восприятие Консуэлы: только что она казалась мне живым, полным сил человеком (ничуть не отличающимся в этом плане от меня самого) и вдруг мгновенно превратилась, с этим своим пушком, в существо на пороге небытия, существо, практически уже умирающее. И эта моментальная смена восприятия оказалась для меня не просто шоком: внезапно я почувствовал себя предателем. Да, я предал Консуэлу, предал, когда, узнав об опухоли, не то чтобы сразу же принял ее как данность, но словно бы вполне применился к вновь открывшимся обстоятельствам. Нас обоих травмировало не только то, что случилось нечто страшное, но то также, что это страшное обмануло обоюдные ожидания: отныне, как себя ни поведи, что ни сделай, какую комедию ни ломай, судьбу не обманешь; твоя подруга уйдет из жизни раньше тебя, а если тебе самому повезет, то и намного раньше.
Вот оно. В чистом виде. Весь ужас происходящего – в этом жалком пушке на полуголой макушке. О, я осыпал его поцелуями. Я целовал его без конца. Да и что еще оставалось мне делать? Чертова химиотерапия. Во что только превратила она тело Консуэлы! Во что превратила разум! Консуэле всего тридцать два, а она уже чувствует себя изгнанницей. Она уже чувствует себя изгнанной отовсюду. И воспринимает все как в последний раз. Как в самый последний раз. А что, если она ошибается? Что, если…
Звонят! Это телефон! Это, должно быть… Который час? Третий ночи? Значит, это… Прошу прощения!
Я не ошибся. Это была она. Она мне позвонила. Наконец-то позвонила. Мне надо ехать. Она в панике. Операция уже назначена. Через две недели. Она прошла последний сеанс химиотерапии. Она попросила меня описать ей красоту ее тела. Вот почему я так долго отсутствовал. Вот о чем ей захотелось послушать. Вот о чем она сама говорила со мной битый час. О ее теле. Как ты думаешь, спрашивала она у меня, сможет ли мое тело показаться мужчине желанным после операции? Она задавала этот вопрос вновь и вновь. Потому что, знаете ли, правую грудь ей решили ампутировать полностью. Сначала планировали удалить немного мышечной массы под правой грудью и часть самой груди. Но сейчас считают, что этого будет мало: дело зашло слишком далеко. Так что правую грудь ампутируют полностью. Десять недель назад речь шла о частичной ампутации, а сейчас уже – полная. А это ведь, знаете ли, грудь. Вещь, что ни говори, немалых размеров. Сегодня утром Консуэлу поставили об этом в известность; сейчас глубокая ночь; она совершенно одна; ей страшно… Я должен ехать. Ей хочется, чтобы я был рядом. Ей хочется, чтобы мы заснули в одной постели. Весь день у нее во рту и крошки не было. Ей необходимо поесть. Ее нужно покормить. А вы? Оставайтесь, если хотите, здесь. Хотите – оставайтесь, хотите – езжайте… Послушайте, у меня нет времени! Мне надо бежать!
– Не надо.
– Что такое?
– Вам к ней не надо.
– Но я обязан! Должен же кто-нибудь быть с нею рядом!
– Кто-нибудь найдется. Но только не вы.
– Но она в ужасе. Нет, я еду!
– Подумайте хорошенько. Подумайте – и одумайтесь. Потому что, если сейчас вы поедете к ней, вы пропали.








