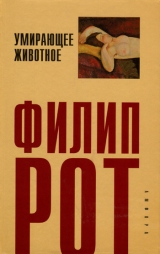
Текст книги "Умирающее животное"
Автор книги: Филип Рот
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)
Так или иначе, перед нами Кэролайн Лайонс, двадцатью пятью годами позже и на двадцать килограммов тяжелее. Мне она нравилась в своих прежних объемах, но достаточно быстро я сумел оценить ее новую кубатуру, по-прежнему статный и стройный мраморный торс на воистину монументальном постаменте. Я позволил этим статям послужить для меня источником вдохновения, как какой-нибудь Гастон Лашез[14]14
Гастон Лашез (1882–1935) – американский скульптор французского происхождения.
[Закрыть]. Обширное седалище нынешней Кэролайн, ее тяжелые бедра говорили мне о том, сколько же истинной женственности упаковано в эту обильную плоть, как в мешки с мукой. А ее изящные телодвижения при соитии и тонкий трепет в предвкушении восторга поневоле подсказывали еще одно сельскохозяйственное сравнение: мне казалось, будто я возделываю холмистое поле. Первокурсницу Кэролайн я засевая, сорокапятилетнюю юристку Кэролайн сейчас пожинаю. Внешнее несоответствие между сохраняющей знакомую стройность верхней половиной ее тела и неожиданно пышной нижней самым интригующим образом соотносилось с моим восприятием Кэролайн как таковой, тоже, вынужден признаться, несколько раздвоенным. Для меня она представляла собой волнующий гибрид: с одной стороны, умная, начитанная, пытливая и дерзкая студентка, то и дело вскидывающая руку на университетских семинарах, красивая сексуальная диссидентка, намеренно наряжающаяся в жалкие лохмотья, ближайшая помощница и верная соратница Дженни Уайт, иначе говоря, девица, уже тогда, в 1965 году, знавшая ответы на все истинно важные вопросы, а с другой – шикарная и чрезвычайно успешная бизнесвумен, какой она стала, наверное, к сорока, то есть женщина с потенциалом, превосходящим, скорее всего, мой собственный.
Вы, наверное, предположите, что, по мере того как вторичная новизна возобновленных (и некогда табуированных) отношений преподавателя и ученицы мало-помалу сошла на нет в атмосфере полной легальности, чтобы не сказать легитимности, неизбежно должна была выдохнуться и наша ностальгическая страсть. Однако за целый год с начала рецидива этого так и не произошло. Тому было две причины: во-первых, взаимоотношения бывших членов одной «команды» и сейчас сохраняли легкость и простоту, основанные на телесном доверии чуть ли не игрового свойства; а во-вторых, Кэролайн отличал реализм в лучшем смысле этого слова; некогда настроенная более чем романтически представительница привилегированного класса сумела с годами выработать настолько трезвый взгляд на вещи, такое чувство пропорции, что задеть ее за живое, а тем более оскорбить было просто-напросто невозможно, что и позволяло мне брать своеобразный реванш за вечное унижение, в котором я пребывал из-за своей роковой одержимости великолепными грудями Консуэлы. Наши гармоничные, без излишних прелиминарий вечерние свидания в постели (договаривались мы о них по мобильному, на ходу; Кэролайн звонила мне из аэропорта Кеннеди, возвращаясь из своих бесчисленных деловых поездок) стали для меня теперь единственной отдушиной, вернее, единственным лазом в прошлое, прошлое до встречи с Консуэлой, мое полное самоуважения прошлое до встречи с ней. Мне никогда еще в такой мере не требовалось простое физическое и психологическое удовлетворение, которое с великой охотою предоставляла мне Кэролайн, и то обстоятельство, что ей удалось сделать успешную карьеру и вместе с тем сохранить женскую привлекательность, изрядно обостряло мои чувства. Каждый из нас получал в точности то, чего ему (или ей) хотелось. Наша связь походила на успешно работающее совместное предприятие, совладельцы которого делят доходы поровну, и властные (вне постели) манеры Кэролайн это только подчеркивали. Мы балансировали на трапеции наслаждения, ухитряясь ни разу не оступиться.
И вот наступил вечер, когда Консуэла вытащила тампон и встала, полураздвинув ноги, у меня в ванной комнате в позе святого Себастьяна с картины Мантеньи[15]15
Мантенья, Андреа (1431–1506) – итальянский художник эпохи раннего Возрождения.
[Закрыть] и по внутренней стороне ее бедра побежала струйка крови, а я весь ушел в углубленное созерцание. Я разволновался? Завелся? Был загипнотизирован? Разумеется, но прежде всего я почувствовал себя маленьким мальчиком. Я потребовал у нее предъявить мне самое сокровенное, а когда она ответила бесстыдным согласием, мне понадобилось все мое мужество, чтобы не испугаться. Чтобы не показать Консуэле, насколько меня потряс и обезоружил ее экзотически деловитый эксгибиционизм. Мне не оставалось ничего другого, кроме как, рухнув на колени, вылизать ее дочиста. Чем она и позволила мне заняться, не произнеся при этом ни единого слова. Вследствие чего я почувствовал себя уже даже не мальчиком, а просто-напросто малышом. С таким характером, как у меня, жить просто невозможно. Какой же я идиот! Да что же я такое из себя строю? Каждая новая выходка не прибавляет мне сил, а, напротив, отнимает последние, а я все не унимаюсь, по-прежнему хорохорюсь.
Выражение ее лица? Я стоял перед ней на коленях. Мое лицо уткнулось в ее разверстую плоть, как утыкается в материнскую грудь лицо младенца, поэтому ее лица я просто не видел. Однако могу сказать вам: я не верю, будто она испугалась. В конце концов, для Консуэлы не было в моей выходке ничего ошеломляющего своей новизной.
Едва мы с ней в первый раз покончили с любовными прелюдиями, она с неизменной легкостью приспосабливалась к любым экстравагантным чудачествам, на которые вновь и вновь провоцировала меня ее нагота. Ее возмущало, что женатый мужчина вроде Джорджа О'Хирна в восемь часов утра целуется у всех на глазах в общественном месте с одетой молодой женщиной, да, вот такое оскорбляло ее нравственность! А это-то… Это было всего-навсего элементом новизны в нашем любовном дивертисменте, эдаким впервые опробованным танцевальным па. Это ее вполне устраивало – телесная неизбежность, которой она без лишних раздумий покорялась. И, разумеется, ей льстило, что известный знаток и ценитель прекрасного ласкает ее столь изощренным способом, это, безусловно, придавало ей значимости. Консуэла всю свою сознательную жизнь кружила голову ровесникам, купалась в отеческой и материнской любви, так что внешнее самообладание, сдержанность и невозмутимость статуи вошли, если можно так выразиться, в ее сценический образ, причем, скорее всего, инстинктивно. По какой-то причине Консуэла с самого начала оказалась избавлена от неуклюжести, в том числе и душевной, присущей едва ли не каждому из нас.
Произошло это на исходе четверга. А вечером в пятницу ко мне прямо из аэропорта приехала Кэролайн. И вот субботним утром, когда я уже уселся за кухонный стол, собираясь позавтракать, она, в моем купальном халате, торжественно промаршировала на кухню из ванной, держа в руке окровавленный тампон, наполовину завернутый в туалетную бумагу. И тут же запустила своей находкой мне в лицо.
– Ты трахаешься на стороне, – сказала мне Кэролайн. – Не вздумай отпираться! Ты трахаешься на стороне, и я тебя теперь брошу. Потому что мне это не по вкусу. У меня было двое мужей, которые трахались на стороне. Мне и тогда это было не по вкусу, тем более я не хочу терпеть такое сейчас. И уж в последнюю очередь от тебя. Ты сам выстроил наши отношения такими, каковы они есть, и вдруг это! А ты ведь получил от меня все, чего хочешь, и в той форме, которая тебе более всего по душе. Мы трахались как животные. Ни обязательств, ни малейшей романтики. И все равно ты решился на это. Я, Дэвид, дама недюжинная. И меня привлекает в точности то же самое, что и тебя. Я исповедую ту же веру – гармонический гедонизм. Да ведь таких, как я, одна на миллион. И все равно, идиот, ты решился на это!
Говорила она отнюдь не рассерженно – не как убежденная в законности своих притязаний супруга, но как избалованная мужским вниманием великолепная куртизанка. Говорила в полном сознании своего неоспоримого эротического превосходства. И у нее имелись на то все основания: в отличие от подавляющего большинства людей, которые, укладываясь с кем-нибудь в койку, прихватывают с собой под одеяло худшую часть своего жизненного опыта, Кэролайн брала с собой на ложе любви только лучшее. Нет, она не рассердилась; она была унижена и растеряна. Далеко не в первый раз в ее жизни щедрая, бьющая через край сексуальность Кэролайн оказалась вопреки всему недостаточной для недостойного и ненасытного самца.
– Скандалить с тобой я не собираюсь, – объявила она. – Сейчас ты выложишь мне все как на духу, после чего я раз и навсегда исчезну из твоей жизни.
Стараясь не утратить самообладания и вместе с тем напуская на себя кроткое изумление, зиждущееся, разумеется, на мнимой невинности, я задал ей вопрос:
– Ну и где ты эту дрянь раздобыла?
Тампон лежал в это время на кухонном столе, между открытой масленкой и заварным чайником.
– В ванной. В корзинке для мусора.
– Вот как. Что ж, я понятия не имею, чье это и откуда взялось.
– А почему бы тебе не сделать с ним сэндвич? – любезно предложила Кэролайн. – И не слопать этот сэндвич у меня на глазах?
– Я бы так и поступил, будь я уверен, что тебя это порадует, – не без труда нашелся я с ответом. – Но я действительно не знаю, чей это тампон. И прежде чем его, как ты выразилась, лопать, хорошо бы в этом разобраться.
– Хватит плести всякую чушь, Дэвид! Меня это просто бесит.
– Погоди-ка минуточку! Я кое-что вспомнил. Мой друг Джордж… У него есть ключи от этой квартиры. Он получил Пулицеровскую премию, он проводит публичные чтения, преподает в Университете Нью Скул; он встречается с женщинами, имеет дело с девками, не пропускает ни одной юбки, а поскольку он лишен малейшей возможности приводить их к себе домой, ведь он женат и у него четверо детей… а в нью-йоркских гостиницах далеко не всегда найдется свободный номер… и к тому же он вечно сидит без гроша… а с женщинами он имеет дело замужними, по меньшей мере часть из них замужем, и привести его к себе они тоже не могут… – Все, что я до сих пор произнес, было сущей правдой. – Вот он время от времени и приводит их сюда. – А вот это уже было неправдой. Это была ложь во спасение, причем ложь именно того свойства, к какой я время от времени прибегал на протяжении многих лет, если какая-нибудь из регулярных подружек припирала меня к стенке обвинениями в измене, осознанной или случайной, правда, ни разу еще в руки им не попадали настолько неопровержимые доказательства моей неверности. Типичная ложь пойманного с поличным распутника. Хвастать тут нечем.
– Вот, значит, как!.. – протянула Кэролайн. – И Джордж прет всех этих баб у тебя в постели.
– Не всех, – поспешил я с утешением. – Но да, бывает, что и прет. Только не у меня в постели, а в гостевой комнате. Джордж – мой друг. Его брак не назовешь счастливым. Джордж напоминает меня самого в ту пору, когда я еще был женат. Он обретает отдохновение только в своих маленьких сексуальных эскападах. От супружеской верности его давным-давно тошнит. Неужели же я имею моральное право дать ему от ворот поворот?
– Ты для этого слишком щепетилен, Дэвид. Слишком педантичен. Слишком брезглив. Я не верю ни единому твоему слову. Ведь вся твоя жизнь устроена совершенно по-другому: все взвешено, все измерено, все сосчитано…
– Тем самым ты поневоле свидетельствуешь в мою пользу..
– Кого-то ты сюда приводил, Дэвид?
– Никого, – решительно возразил я. – Я сюда никого не приводил. И я действительно знать не знаю, чей это тампон.
Сцена разразилась опасная, бурная, чреватая самыми непредсказуемыми последствиями, однако, нагло солгав Кэролайн в лицо, я тогда все уладил, и она не рассталась со мной в ту пору, когда я в ней прямо-таки отчаянно нуждался. Расстались мы позже – и по моей инициативе.
Прошу прощения, мне нужно подойти к телефону. Действительно нужно. Еще раз прошу прощения…
Извините меня, пожалуйста, за столь долгое отсутствие. Строго говоря, это был не тот звонок, которого я жду. Простите, что пришлось оставить вас в одиночестве столь надолго, но это был мой сын. Он позвонил сообщить, как сильно оскорблен словами, сказанными мною ему при нашей последней встрече, и какой неожиданно живучей оказалась его обида, а также ему хотелось удостовериться в том, что я уже получил гневное письмо, написанное им по этому поводу.
Послушайте, я ведь никогда не думал, что все будет просто, и, насколько могу судить, он так и так возненавидел бы меня, даже не предоставь я ему ни малейшего повода. Я ведь с самого начала знал, что бегство окажется трудным и что перемахнуть стену я смогу – если вообще смогу – только в одиночку. Возьми я его с собой, даже если бы мне представилась подобная возможность, это, так или иначе, не обернулось бы ничем хорошим, потому что ему было тогда восемь и с ним на руках я не смог бы вести жизнь, которую навоображал себе заранее. Мне пришлось предать его, а он этого так и не простил и никогда не простит.
В прошлом году ему исполнилось сорок два; именно с тех пор он и повадился приходить ко мне без приглашения, даже не предупредив заранее о своем визите. В одиннадцать часов, в полночь, во втором часу, даже в третьем он звонит у входа и говорит в домофон: «А вот и я. Давай жми на кнопку!» Ругается с женой, выбегает из дому, садится в машину и, проклиная себя за это, едет ко мне. После его совершеннолетия мы, бывало, не виделись годами и перезванивались не чаще одного раза в несколько месяцев. Поэтому можете представить себе мое изумление, когда он нанес мне первый полуночный визит. «Чего ради ты сюда приперся?» – спросил я. А у него, видите ли, беда. У него, видите ли, душевный кризис. Он, видите ли, страдает. Да с какой стати? А у него интрижка. С двадцатишестилетней женщиной, с недавних пор его наемной работницей. Он владеет маленькой мастерской, в которой реставрируют произведения искусства. Художником-реставратором была и его мать – до тех пор, пока не удалилась на покой. Получив степень доктора философии в Нью-Йоркском университете, сын решил пойти по материнским стопам; поначалу они трудились вдвоем, потом дела пошли в гору, и сейчас у него в мастерской, в Сохо, работают восемнадцать человек. Они сотрудничают с художественными галереями и с частными коллекционерами, проводят предпродажную подготовку произведений искусства, выставляемых на торги, консультируют «Сотбиз» и так далее, одним словом, не сидят без дела. Кении – красивый рослый мужик, одет с иголочки, манеры у него властные, речь – и устная, и письменная – культурного человека, он бегло говорит по-французски и по-английски; в своем антикварном мирке он, безусловно, производит на людей самое выигрышное впечатление. Но только в мое отсутствие. Мои совершенно очевидные недостатки являются истинной причиной его страданий. Как только он оказывается в непосредственной близости от меня, его затянувшиеся было раны начинают кровоточить. В своей профессиональной сфере Кении – человек активный, выдержанный, солидный; он ни в коем случае не выглядит неудачником; но стоит мне заговорить, стоит мне раскрыть рот, и его буквально парализует. И даже если я всего-навсего молча стою рядом, пока говорит он, само мое молчание подрывает основы его – вроде бы для всех несомненной – удачливости. Я отец, которого он так и не сумел одолеть, отец, в присутствии которого сын чувствует себя совершенно бессильным. Почему так происходит? Возможно, потому, что, пока он рос и взрослел, меня рядом не было. Я был фигурой незримой и устрашающей. Фигурой незримой и оттого исполненной слишком глубокого смысла. Я заранее обрек его на поражение. И одного этого вполне хватило бы, чтобы раз и навсегда исключить на будущее малейшую возможность взвешенно-безмятежных взаимоотношений между отцом и сыном. Ничто в нашей семейной истории не препятствует сыновнему инстинкту сваливать к отцовским ногам все препятствия, с которыми он сталкивается на жизненном пути.
Я отец Кенни Карамазова, я источник низменной по своей природе, чудовищной силы, который вызывает в нем, созданном для богобоязненной и благодатной любви, заведомо порочную, кощунственную жажду отцеубийства, как если бы он был всеми братьями Карамазовыми сразу. Любой отец является для сына некоей мифологической фигурой, а в нашем случае семейная мифология была почерпнута у Достоевского, о чем я узнал в самом конце семидесятых, получив по почте копию курсовой работы, которую Кенни написал на втором курсе в Принстоне, курсовой работы, естественно посвященной роману «Братья Карамазовы». Из этой курсовой вычитывалось главным образом то, что Кенни изрядно перемешал описываемые в романе положения с собственными фантазиями на тему нашей распавшейся семьи и моей пагубной роли во всем, что с нами произошло. Кении был тогда одним из тех сумасбродных книгочеев, для которых аллюзии на свой личный опыт, отыскиваемые практически в любой книге, куда важнее ее содержания, да и литературной формы тоже. К тому времени наша с ним взаимная отчужденность стала для него навязчивой идеей, и со всей неизбежностью в фокус курсовой о романе попала фигура отца. Старого сладострастника. Развращенного до мозга костей себялюбца и гедониста. Дряхлого старца, на которого почему-то так и вешаются девицы. Злого шута, заведшего у себя в доме целый гарем вечно пьяных баб. Отца, который, если вы помните, игнорировал всех своих сыновей, спроваживая их на попечение дворового человека, «так как ребенок, – пишет Достоевский, – все же мешал бы ему в его дебоширстве». Вы что же, не читали «Братьев Карамазовых»? Эту книгу стоит прочесть – хотя бы ради потрясающего портрета старого интригана, пьяницы и распутника.
Подростком Кении обращался ко мне за советом и утешением каждый раз, когда попадал в затруднительную ситуацию, и все эти его трудности имели практически один и тот же источник. Да и сейчас дело обстоит точно так же: кто-то или что-то ставит под сомнение его представление о себе как об исключительно порядочном, исключительно «правильном» человеке. И каждый раз я не мытьем, так катаньем пытаюсь заставить его отказаться от этой ложной (не только потому, что она завышена) самооценки, и это неизменно приводит его в такую ярость, что он тут же поворачивается на сто восемьдесят градусов и мчится к мамочке. Припоминаю, как однажды, когда ему исполнилось тринадцать и он перешел в старшие классы, а значит, в его внешности, голосе и повадках начал проглядывать уже не совсем ребенок, я поинтересовался у него, не хочется ли ему провести лето в Кэтскилле, в небольшом домике, который я снял неподалеку от родительской гостиницы. Стоял майский день, мы с ним отправились на бейсбол – болеть за «Нью-Йорк мете». Одно из мучительных воскресений, отведенных на общение с ушедшим из семьи отцом. Мое приглашение настолько потрясло и расстроило мальчика, что он, с трудом сдерживая рвоту, тут же бросился в мужскую уборную под трибуной. В былые дни в Старом Свете отцы устраивали сыновьям сексуальную инициацию, беря их с собой в бордель, и Кении отреагировал на мои слова так, словно я предложил ему именно это. Его вырвало, потому что, отправься он со мной на лето, при мне там непременно ошивалась бы какая-нибудь девица. Или две. А то и все три. Потому что в его представлении дом, в котором я поселюсь, как раз и станет борделем. Но то, что его стошнило, значило, что ему отвратительны не только мои слова, но и собственное отвращение к ним. Отвратительны, а почему? Потому что мои слова втайне соответствовали его ожиданиям, потому что при всем гневе на отца и при всем омерзении, которое тот внушал сыну, Кении все равно чувствовал мою власть над ним и желание вновь и вновь подчиняться моей воле.
Потому что прежде всего он был маленьким мальчиком в безвыходной ситуации. Разумеется, до тех пор, пока не научился прижигать душевную рану и не превратился благодаря этому в самодовольную посредственность.
На последнем курсе в колледже он уверовал, имея, впрочем, на то все основания, будто от него залетела одна из сокурсниц. Кенни слишком перепугался, чтобы поведать об этом матери, и поэтому обратился ко мне. Я поспешил заверить сына в том, что, даже если девица и впрямь от него беременна, жениться на ней ему совершенно не обязательно. В конце концов, на дворе не 1901 год. И если ей действительно хочется оставить ребенка, о чем она уже успела наплести ему с три короба, то это исключительно ее дело, а вовсе не его. Конечно, я принципиальный сторонник свободы выбора, но не такой свободы, когда один человек свободно выбирает за другого. Я посоветовал Кенни внушить ей, как можно убедительней и настойчивей, что в двадцать один год, едва окончив колледж, он не хочет обзаводиться ребенком, не может полностью или частично содержать его и не намерен нести за него хоть малейшую ответственность. И если ей, его ровеснице, так или иначе невтерпеж взвалить на себя подобное бремя, то флаг ей в руки. Но на помощь с его стороны ей в таком случае рассчитывать не приходится. Я предложил ему денег на оплату ее аборта. Я сказал ему, что он может рассчитывать на мою поддержку и ни в коем случае не должен капитулировать. «А что, если она все равно не передумает? – спросил он у меня. – Что, если она будет стоять на своем?» Если она будет стоять на своем, ответил я сыну, если она не одумается, то ей придется в дальнейшем считаться с последствиями собственного добровольно и сознательно принятого решения. Я напомнил сыну, что никто не может заставить его поступать вопреки собственному желанию. Мне жаль, сказал я, что в мое время, когда я был на грани того, чтобы совершить аналогичную ошибку, у меня не нашлось такого мудрого и многоопытного советчика, каким я стал нынче. «Живя в такой стране, как наша, – сказал я сыну, – в стране, Основной закон которой гарантирует всеобщее равенство и провозглашает гарантии полной индивидуальной свободы для каждого, живя в свободной стране, сама свобода которой зиждется на полном безразличии к разнообразию форм и видов человеческого поведения, пока ни одна из этих форм и ни один из этих видов не нарушает закона, живя в такой стране, с неприятностями вроде твоей нынешней сталкиваешься, только если и сам готов с ними смириться, более того, только если сам их себе и придумаешь. Другое дело было бы, живи ты в оккупированной нацистами Европе, или в так называемой социал-демократической Европе, или в социалистической России, или в коммунистическом Китае. Там о неприятностях для тебя обязательно позаботились бы, там малейший шаг в сторону считается побегом и влечет за собой убийственные последствия. А у нас, в Америке, никакого тоталитаризма, и человеку вроде тебя приходится самому изобретать для себя всяческие несчастья. Более того, ты человек умный, культурный, у тебя завидная внешность, у тебя прекрасные манеры, у тебя отличное университетское образование; одним словом, у тебя есть все необходимое, чтобы добиться в нашей стране успеха. Ты просто обречен на преуспеяние. Единственный здешний деспот – предрассудки, хотя, я готов согласиться, от них не так-то просто отделаться. Почитай Токвиля[16]16
Токвиль, Алексис де (1805–1859) – французский историк, социолог, общественный деятель; лидер консервативной Партии порядка; министр иностранных дел Франции (1849).
[Закрыть], если ты, конечно, не читал его раньше. Он ничуть не устарел, по меньшей мере в своих рассуждениях о „мужчине, вечно наступающем на одни и те же грабли“. Для того чтобы вырваться из плена предрассудков, совершенно не обязательно превращаться в битника, или в хиппи, или в какого-нибудь насквозь порочного представителя артистической богемы – вот в чем фокус. Для того чтобы вырваться из плена предрассудков, совершенно не обязательно чудить, прикидываться кем-то другим, одеваясь и ведя себя не так, как тебе на самом деле свойственно в силу твоего происхождения и натуры. Совершенно не обязательно. Единственное, что от тебя требуется, Кен, это почувствовать себя сильным. Ты ведь сильный человек, я знаю, что сильный, просто сейчас тебя обескуражила и обезоружила новизна происшедшего. И если тебе и впрямь хочется подняться над шантажом вековых предрассудков и прочих неписаных жизненных правил, тебе достаточно сделать над собой элементарное усилие…» И так далее, и так далее… Декларация независимости. Билль о правах. Геттисбергская речь Линкольна. Воззвание о всеобщем равенстве. Четырнадцатая поправка. Все три поправки, принятые по итогам Гражданской войны[17]17
Кроме Четырнадцатой поправки к Конституции США (ратифицирована в 1868 году), провозглашающей равенство всех граждан США, по итогам Гражданской войны были приняты Тринадцатая поправка, запрещающая рабство (1865), и Пятнадцатая поправка, налагающая запрет на преследование по расовому или религиозному признаку (1870).
[Закрыть]. Я проработал все это с ним самым тщательным образом. Я разыскал для него том Токвиля. Я решил, что, раз уж ему исполнился двадцать один год, с ним можно разговаривать как с взрослым человеком. В своей казуистике я перещеголял гамлетовского Полония. В конце концов, все, что я внушал ему, не было такой уж натяжкой, по меньшей мере в 1979 году. Да и раньше, в ту пору, когда мне следовало бы вдолбить те же истины в голову самому себе. Человек рождается свободным – вот о чем нельзя забывать, живя в Америке! Но как он отреагировал на мой исполненный отеческой мудрости монолог? Принялся перечислять мне неописуемые достоинства своей залетевшей подружки. «Ну, а как насчет твоих собственных достоинств?» – спросил я у него, но он, пропустив мое возражение мимо ушей, вновь стал рассуждать о том, какая она умная, какая хорошенькая, какая веселая; он рассказал мне о том, что у нее совершенно чудовищные родители, и пару месяцев спустя на ней, разумеется, женился.
Мне знакомы все гипотетические возражения высоконравственного молодого мужчины, возражения на провозглашаемый мною суверенитет личности. Мне знакомы все ярлыки, которые можно наклеить на суверенную личность, все слова, которыми можно ее гневно клеймить, особенно если за дело возьмется человек во всех отношениях замечательный. Беда Кенни как раз и заключается в том, что он стремится быть человеком во всех отношениях замечательным, причем любой ценой. Он живет в вечном страхе перед тем, что какая-нибудь женщина упрекнет его в несовершенстве. «Эгоизм» – вот слово, буквально парализующее его. «Эгоистичный ублюдок!» – говорит или думает она, и он заранее этим устрашен. А поскольку он боится такого приговора, то и живет под его проклятием. Да уж, мой Кенни – человек во всех отношениях замечательный, за ним как за каменной стеной, вот почему, когда Тодд, мой старший внук, уже оканчивал начальную школу, невестке стоило всего-навсего сказать, что она хочет еще детей, и мой сын за шесть лет настругал их целых три! Причем как раз в ту пору, когда от жены его уже буквально тошнило. Будучи человеком замечательным во всех отношениях, он не может бросить жену ради любовницы, и любовницу ради жены он бросить тоже не может; и, разумеется, он не в силах расстаться с детьми, особенно с тремя младшими. Не говоря уж о том, что и с матерью он не способен хотя бы разъехаться. Единственный человек, с которым он был бы в силах порвать, это я. Но он вырос терзаемый вечными горестями, и в первые несколько лет после развода на воскресных свиданиях с сыном – в зоопарке, в кино или на стадионе – мне приходилось категорически отстаивать собственную точку зрения на самого себя, чтобы внушить сыну, что на самом деле я отнюдь не такое чудовище, каким кажусь его матери.
Я давно уже оставил эти попытки, потому что его мать, конечно, права. А он плоть от плоти ее, поэтому к тому времени, как Кенни поступил в колледж, мне смертельно надоело переубеждать человека, у которого я вызываю отвращение, и только отвращение. Я сдался, потому что мне самому было бы противно разыгрывать ту карту женской слабости, перед которой неизменно пасует Кенни. Мой сын жесточайшим образом повернут на униженных женских мольбах о помощи. Вырос-то он в материнском доме, а моя бывшая жена неукоснительно придерживалась этой архаической традиции, которая, кстати говоря, в те дни, когда женщина и впрямь зависела от мужчины, порабощала самых лучших из нас. И на протяжении всего этого времени мы с ним ежегодно проводили по две недели в июле или в августе в маленькой гостинице, принадлежавшей моим родителям. Что меня более чем устраивало, потому что они, разумеется, брали на себя все заботы о Кенни. Они отчаянно скучали по сыну и внуку, так что деваться нам все равно было некуда. Но когда мои родители покинули этот мир, когда сын поступил в университет и окончил его, когда он женился и стал отцом… Правда, он звонил мне каждый раз, когда появлялся на свет очередной его отпрыск. Делился, так сказать, семейным счастьем. Которое сам я утратил черт знает когда. Но и Кенни его наконец утратил. Дала о себе знать наследственность по отцовской линии. Этакая династия потерпевших крушение на рифах законного брака.
И вдруг он повадился приезжать ко мне – раз в месяц, раз в полтора месяца, – приезжать и выкладывать все, что накипело. В его взгляде – страх, в его сердце – злость, в его голосе – усталость и слабость; даже элегантные костюмы сидят на нем теперь кое-как. Жена его расстраивается и бесится из-за любовницы; любовница жалуется и злится на жену; а дети настолько напуганы происходящим в семье, что плачут во сне. Что же касается супружеского секса, который он называет супружеским долгом и который платит с всегдашней своей пунктуальностью, то это постепенно становится не по силам даже ему. Отсюда ссоры, отсюда медвежья болезнь как симптом его вечных страхов, отсюда недолгие примирения, угрозы и обвинения, отсюда, естественно, ответные угрозы и обвинения. Но, когда я интересуюсь у него, какого же черта он, как минимум, не съедет от жены, Кенни отвечает, что это уничтожило бы его семью. И в результате погибли бы все – и те, кто нанес смертельную обиду, и те, кому ее нанесли. И хорошо, если бы дело ограничилось нервным срывом, причем у всех сразу. Надо все-таки считаться друг с другом, утверждает мой сын, и тогда все рано или поздно наладится.
При этом Кенни имеет в виду, что он куда порядочнее собственного отца, который ушел из семьи, когда его сыну было всего восемь лет. Поэтому его жизнь, в отличие от моей, исполнена высшего смысла. Это его главный козырь. Пуская его в ход, мой сын всякий раз надеется меня обыграть.
«Кенни, – говорю я ему, – почему бы тебе не принять наконец собственного отца как данность? Принять как данность хотя бы отцовский хуй, потому что он-то как раз главная данность и есть. Маленьким детям мы о таких вещах, понятно, не говорим. Да и как откровенно поговоришь с ребенком об отцовском хуе? И то, что многие отцы регулярно ходят на сторону, это, знаешь ли, тоже от маленьких детей обычно скрывают. Но ты же взрослый человек. Ты мужчина. Ты знаешь правила игры. Ты насмотрелся на то, какие ходоки все твои художники. Да и арт-дилеры в этом смысле ничуть не лучше. Ты ведь имеешь представление о том, что взрослые люди ведут себя сплошь и рядом далеко не по-детски. И что же, уход из семьи по-прежнему представляется тебе вселенскою катастрофой?»








