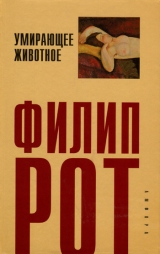
Текст книги "Умирающее животное"
Автор книги: Филип Рот
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 9 страниц)
Намерения его были совершенно ясны: Джордж стремился ее раздеть. Стремился раздеть женщину, к которой не прикасался в постели годами, о чем мне было доподлинно известно, да и детям их наверняка тоже; стремился раздеть женщину, к которой годами старался не прикасаться вообще.
– Уступи ему, мама, – попросила Бетти, и Кэт снова ее послушалась.
Она завела руку мужа себе под блузку. На этот раз их страстный поцелуй сопровождался другими ласками: непарализованная рука Джорджа вовсю теребила матерчатую объемистую чашку лифчика. И тут же все кончилось. Силы покинули Джорджа мгновенно, и добраться до обвислых грудей жены ему так и не удалось. Прошло еще двенадцать часов, прежде чем он покинул нас окончательно, но все это время Джордж вновь пребывал в беспамятстве, чуть ли не в коме, откинувшись на подушки, раскрыв искривленный рот, сомкнув веки и тяжело дыша, как человек, только что чудом спасшийся от погони. Прошло еще двенадцать часов, но уже прямо тогда, в спальне, мы все поняли, что стали свидетелями последнего – и, может быть, самого удивительного – соития (или события?) в его жизни.
Позже, когда я уже собрался домой, Кэт вышла проводить меня на крыльцо и даже прогулялась со мной по подъездной дорожке до того места, где была припаркована моя машина. Взяв обе мои руки в свои, она поблагодарила меня за визит.
– Я рад тому, что видел все своими глазами, – сказал я.
– Да, это было удивительно, не правда ли? – откликнулась Кэт. А затем, с этой ее всегдашней усталой улыбкой, добавила: – Интересно, однако, за кого это он меня принял?
И вот всего через пять месяцев после смерти Джорджа, когда Консуэла, позвонив, наговорила на автоответчик: «…мне хочется тебе кое-что сообщить. Хочется сообщить тебе об этом самой, пока не рассказали общие знакомые. Или пока ты сам не узнал случайно», я, выслушав это, решил, будто что-то стряслось уже с нею. Такая штука, как вещий сон, тут же оборачивающийся явью, достаточно неприятна, даже если он сбывается во сне, что чаще всего и происходит, но если это случается наяву?.. Я не знал, как быть. Перезвонить ей немедленно? Я размышлял над этим добрую четверть часа. И не позвонил в первую же минуту только потому, что мне стало страшно. С какой стати она мне звонит? Что с нею стряслось? Я живу достаточно беспечально и давно уже сам себе хозяин. Смогу ли я восстановить душевное равновесие, если Консуэла обрушится на меня с агрессивными притязаниями? Мне ведь уже не шестьдесят два – мне все семьдесят. В этом ли возрасте вновь впадать в состояние томящей неопределенности? Могу ли я позволить себе еще один длительный душевный кризис? Как это отразится на моем долголетии с подразумеваемым добрым здравием?
Я вспомнил о том, как три первых года после нашего разрыва только о ней и думал, даже встав посреди ночи по малой нужде, даже стоя в четыре утра около унитаза и на семь восьмых еще не проснувшись; одна восьмая профессора Кипеша все равно начинала ни с того ни с сего бормотать ее имя. Как правило, старик, справляя малую нужду ночью, вообще ни о чем не думает. А если и думает, то лишь о том, как бы поскорее вернуться в постель. Но только не я; во всяком случае, только не в те годы. Консуэла, Консуэла, Консуэла – это имя звучало у меня в мозгу каждый раз, без исключения и без пощады. И, знаете ли, ведь она сама учинила расправу надо мною с такой безжалостностью, расправилась без слов, без раздумий, без тени коварства или злобы и без малейшего желания причинить мне боль. Подобно великому спортсмену, или прекрасному мраморному изваянию, или грациозному животному, мелькнувшему перед тобой в лесной чаще, подобно Майклу Джордану, подобно Аристиду Майолю[24]24
Аристид Майоль (1861–1944) – французский скульптор, мастер декоративного искусства.
[Закрыть], подобно сове, подобно рыжей рыси, она добилась своего невзначай, добилась исключительно благодаря своему внешнему великолепию. Потому что Консуэла, разумеется, ни в малейшей мере не была садисткой. В ней не было даже того садистского по природе и воздействию равнодушия к ближнему, какое так часто ходит рука об руку с подлинным величием и истинным совершенством. Она была слишком справедлива для такой жестокости, да и чересчур добра тоже. Но представьте себе, каким посмешищем могла бы она меня сделать, не будь Консуэла слишком благоразумной девицей для того, чтобы, подобно древнегреческой амазонке, обрушивать на мужчину всю мощь своего телесного снаряжения и оснастки; представьте себе, что и совесть у нее как у той же амазонки, что она и мыслит как амазонка, коварно сознавая свое могущество, и вообразите неизбежные последствия ее повторного вмешательства в мою жизнь! К счастью, подобно большинству представителей рода человеческого, Консуэла вовсе не стремилась продумывать все от начала до конца и, хотя, если так можно выразиться, отделала меня по полной программе, не осознала полностью, что, собственно, между нами произошло. А если бы осознала, если бы вдобавок имела бы малейший вкус к тому, чтобы мучить сходящего по ней с ума мужчину, я бы давным-давно пропал, я бы потерпел крушение, как капитан Ахав, в погоне за своим Моби Диком.
И вот она вновь. Нет, ни за что! Никогда больше я не подвергну такому риску собственный душевный покой!
Но потом я подумал: она меня ищет, она во мне нуждается, и наверняка не в качестве любовника, не в качестве наставника, наверняка не затем, чтобы расцветить нашу эротическую палитру новыми красками. И я позвонил ей на мобильный и солгал, будто выходил в магазин и только минуту назад вернулся домой. А она ответила:
– Я сейчас в машине. Оставляя тебе сообщение, я была у твоих дверей.
– А почему ты колесишь по Нью-Йорку в новогоднюю ночь?
– Сама не знаю.
– Консуэла, ты плачешь?
– Нет еще. Но вот-вот расплачусь.
– А в дверь ты не позвонила? – осведомился я.
– Нет. Да я бы и не осмелилась.
– Ты всегда можешь позвонить в мою дверь, – сказал я. – Всегда. И сама это знаешь. А что у тебя случилось?
– Ты мне нужен.
– Так приезжай.
– А я тебе не помешаю?
– Ты мне никогда не помешаешь. Приезжай.
– Дело и впрямь важное. Я приеду прямо сейчас.
Я положил трубку, толком не зная, чего ожидать. Примерно через двадцать минут возле дома затормозила машина, и с того момента, как я, увидев Консуэлу у входа, отпер дверь, мне стало ясно: с ней что-то не так. Потому что на голове у нее была диковинная шляпка, скорее даже феска. А такой головной убор она бы при нормальных обстоятельствах ни за что не надела. У Консуэлы роскошные черные волосы, пышные и гладкие, и она всегда за ними следила – каждый день мыла, расчесывала и укладывала, а раз в две недели ходила к дамскому мастеру в салон. А сейчас на голове у нее была феска. На ней было отличное пальто, черная персидская дубленка чуть ли не до пят, а когда она расстегнула пояс, я увидел, что под дубленкой – шелковая юбка со смелым разрезом, что ж, очень мило. И вот я обнял ее, а она меня, и она позволила мне снять с нее пальто, и я спросил:
– А как же твоя шляпка? Или, вернее, феска?
– Лучше не стоит, – ответила Консуэла. – Ты сильно удивишься. Сильно и неприятно.
– Но почему же?
– Потому что я очень серьезно больна.
Мы прошли в гостиную, и здесь я вновь ее обнял, а она прижалась ко мне всем телом, и я почувствовал груди, ее великолепные груди, а глянув через ее плечо, увидел великолепные ягодицы. И все ее великолепное тело. Она уже разменяла тридцатник, ей тридцать два, но, пожалуй, Консуэла еще больше похорошела, а ее лицо (как мне показалось, несколько удлинившееся) стало куда более женственным.
И тут-то она меня и огорошила:
– У меня нет волос. В октябре мне поставили диагноз. У меня рак. У меня рак груди.
– Какой ужас! – воскликнул я. – Нет, это и на самом деле чудовищно. Как ты себя чувствуешь? Как вообще чувствует себя человек, которому поставили такой диагноз?
В начале ноября Консуэле назначили химиотерапию, и она практически моментально облысела.
– Давай я расскажу тебе все с самого начала, – произнесла она, и мы опустились на диван.
– Да, – согласился я, – давай. С самого начала. И ничего не скрывая.
– Хорошо. У моей тети по женской линии, у родной сестры моей матери, был рак груди, и ее лечили, и грудь ей ампутировали, так что я всегда знала: над нашей семьей витает такая опасность. Всегда знала и всегда этого смертельно боялась.
И на протяжении всего ее горестного рассказа меня преследовала мысль о том, что за груди на сей раз поразила роковая болезнь, самые великолепные, самые роскошные буфера на всем белом свете!
– Однажды утром, – продолжила Консуэла, – принимая душ, я нащупала что-то не то под мышкой и сразу же поняла, что мое дело плохо. Я отправилась к своему врачу, он сказал, что мне, скорее всего, не о чем беспокоиться, и я отправилась к другому врачу, потом – к третьему, сам знаешь, как это бывает, и как раз третий доктор подтвердил мои опасения.
– И ты запаниковала?
– А ты, дружочек, на моем месте разве не запаниковал бы? Я была просто потрясена. Да, я запаниковала. Безумно запаниковала. Я чуть с ума не сошла от страха.
– Дело было ночью? – уточнил я.
– Да, ночью. И я всю ночь прометалась по квартире. Места себе не находила. Я словно бы совершенно спятила.
Услышав это, я не удержался от слез, и мы вновь бросились друг другу в объятия.
– Но почему же ты не позвонила мне? Почему ты не позвонила мне сразу?
– Я не осмелилась, – вновь повторила она.
– А кому ж ты надумала позвонить?
– Маме, конечно. Но мне было ясно, что она тоже ударится в панику – потому, что я как-никак ее дочь, ее единственная, горячо любимая дочь, а еще потому, что она такая чувствительная, и потому также, что все умерли. Да, Дэвид, все они умерли.
– Как это все? И кто это умер?
– Мой отец.
– Но как так?..
– Он попал в авиакатастрофу. Летел в Париж. Как всегда, по делам.
– Ах ты, господи.
– Да, вот именно.
– И дедушка? Твой любимый дедушка?
– Он умер. Шесть лет назад. С этого все и началось. Умер от инфаркта.
– А твоя бабушка с ее непременными четками? Твоя бабушка-герцогиня?
– Тоже умерла. Сразу вслед за дедушкой. Просто от старости.
– Но неужели и твой младший брат?..
– Нет-нет, с ним все в порядке. Но позвонить ему я все равно не могла. Заставить себя не могла. Да ему с этим было бы и не справиться. Вот когда я вспомнила о тебе. Но я не знала, не занят ли ты.
– Занят или нет, не имеет значения. Пообещай мне, пожалуйста, одну вещь. Если тебя вдруг охватит паника – ночью там, или днем, или в любое другое время, – ты немедленно позвонишь мне. Немедленно. И я буквально сразу же к тебе приеду. Вот, – сказал я, – тебе бумага и ручка, запиши мне свой адрес. Запиши мне все свои телефоны – домашний, служебный и все остальные.
И я думал при этом: она умирает прямо у меня на глазах, вот и она умирает. Вполне предсказуемая смерть хорошо пожившего любимого дедушки лишила равновесия уютную жизнь этого замечательного семейства, положив начало целому каскаду несчастий, достигшему кульминации, когда рак поразил мою Консуэлу.
– А вот прямо сейчас тебе страшно?
– Очень. Мне все время страшно. Я могу забыться, могу отвлечься на пару минут, но не больше, а потом у меня начинают трястись поджилки, и я сама не верю в то, что происходит.
Это как дорожный каток, и он на меня накатывает. Он не остановится, пока не остановится рак, – проговорила Консуэла. – Расклад таков: шестьдесят процентов за то, что я выживу, и сорок – за то, что умру.
И тут она сбилась с темы, пустившись в пространные рассуждения о том, как ей жилось все это время, как ей жаль маму, и тому подобном; банальные разговоры подобного рода просто-напросто неизбежны. Я так много хотела сделать, у меня были такие планы на будущее, и прочее, и прочее. Потом она начала рассказывать, какими ничтожными кажутся ей теперь волнения и тревоги трех-четырехмесячной давности: служебные проблемы, отношения со знакомыми, покупка новых платьев… Это страшное заболевание, сказала Консуэла, обозначает подлинные масштабы всего. А я подумал: она заблуждается; ничто не обозначает подлинных масштабов – ничто и ничего.
Я смотрел на нее, внимал ее речам, а когда почувствовал, что больше не могу слушать, спросил у Консуэлы:
– Ты не против, если я потрогаю твои груди?
– Если тебе этого хочется…
– Но ты и в самом деле не против?
– Нет. Хотя мне и не хочется тебя целовать. Потому что я против чего бы то ни было сексуального. Но я знаю, как тебе нравятся мои груди, поэтому изволь потрогай.
И вот я прикоснулся к ним – невольно затрясшимися руками. И у меня, разумеется, встал.
– Опухоль в левой груди или в правой?
– В правой.
И я положил руку на ее правую грудь. Желание и нежность – вместе они возбуждают тебя и заставляют таять; именно так все и было: я возбудился и растаял. Стоячий болт в штанах и слезы на глазах. Какое-то время мы так и просидели – ее правая грудь покоилась в моей руке, – просидели, беседуя как ни в чем не бывало, а потом я повторил свой вопрос:
– Ты и в самом деле не против?
– Мне даже хочется много большего, – ответила Консуэла. – Потому что я знаю, как тебе нравятся мои груди.
– А чего тебе хочется?
– Мне хочется, чтобы ты прощупал мою опухоль.
– Хорошо, но не сейчас. Немного погодя.
Для меня все и впрямь произошло слишком быстро. Я не был готов. Поэтому мы еще немного поговорили, потом заплакала уже Консуэла, а я принялся утешать ее, и вдруг она полностью пришла в себя и проявила неожиданную энергию, неожиданную решимость.
– Дэвид, – объявила она, – честно говоря, я приехала к тебе с одним-единственным вопросом и одной-единственной просьбой.
– И в чем же заключается твоя просьба?
– После тебя у меня не было ни постоянного любовника, ни разового партнера, который восхищался бы моим телом в той же мере, что и ты.
– А у тебя были любовники? (Опять ты за старое. Забудь о своей ревности! Но как же мне было о ней забыть?) Так что же, Консуэла, у тебя были любовники?
– Да, но не много.
– А ты регулярно спала с мужчинами?
– Нет. Не регулярно. Время от времени.
– А как обстояли дела на работе? Неужели не нашлось сослуживца, который влюбился бы в тебя?
– Да все они были в меня влюблены.
– Это я как раз прекрасно могу понять, – кивнул я. – Но, если так, тогда в чем же дело? Неужели они все оказались голубыми? И ни одного нормального мужчины ты так и не встретила?
– Встретила, встретила. Но они были ни на что не годны.
– Почему же?
– Потому что они не любили меня, а всего-навсего мастурбировали на мое тело.
– Какая жалость. И какая, кстати, глупость. Это, знаешь ли, просто извращение.
– А вот ты – ты любил мое тело. И я гордилась этим.
– Но ты гордилась этим только тогда.
– И да, и нет. Ты любовался моим телом в пору его наивысшего расцвета. Вот мне и хочется, чтобы ты посмотрел на него еще раз, прежде чем его окончательно обезобразят, а может быть, и уничтожат врачи. А ведь именно это мне и предстоит.
– Не говори глупостей! Не говори и не думай. Никто не собирается обезобразить тебя, и уж подавно никто не собирается тебя уничтожить. Что, собственно, предписывают тебе доктора?
– Ну, курс химиотерапии я уже прошла. Вот почему я ношу на голове эту шапочку.
– Это я как раз понял. Но я могу вынести что угодно, если это касается тебя. Так что поступай, как тебе захочется.
– Нет, голову я тебе не покажу. Потому что с моими волосами и впрямь произошло нечто странное. Сразу же после начала курса химиотерапии они стали выпадать клочьями. И голова поросла этаким младенческим пушком. Просто удивительно.
– А в том месте волосы у тебя тоже вылезли? – спросил я.
– Нет. А вот с ними-то как раз ровным счетом ничего не случилось. И это тоже более чем удивительно.
– А врача ты об этом спрашивала?
– Спрашивала. И он, вернее, она – мой лечащий врач женщина – тоже не смогла этого объяснить. Сказала мне только: «Это положительный симптом». А вот посмотри на мои руки, – продолжила Консуэла. У нее были длинные, изящные руки с ослепительно белой кожей, и, действительно, с них не сошел очаровательный пушок. – Только представь себе: на руках у меня волосы растут, а на голове – нет.
– Ну так что же? – ответил я ей. – Лысых мужчин я видывал, почему бы для разнообразия не посмотреть на лысую женщину?
– Нет, – подвела черту Консуэла. – Я не хочу, чтобы ты это видел.
Последовала пауза, а потом она продолжила:
– Дэвид, могу я попросить тебя об одолжении? О великом одолжении?
– Разумеется. Проси что хочешь.
– Не мог бы ты попрощаться с моими грудями? Сказать им последнее «прости»?
– Девочка моя дорогая, милая моя, – ответил я, – этого не произойдет; никто не тронет твоего тела, просто-напросто не осмелится.
– С грудью мне, знаешь ли, повезло; она у меня большая и пышная; предполагается, что мне удалят примерно треть общей мышечной массы. Мой врач делает все возможное, чтобы свести хирургическое вмешательство к минимуму. Она, знаешь ли, гуманистка. И вообще чудесная женщина. Ни в коем случае не мясник. Не бессердечный робот. Сначала она попыталась сдержать развитие болезни курсом химиотерапии. А когда это не сработало, предписала мне частичную маммотомию. Но в минимальных масштабах.
– Но можно же ее потом восстановить, нарастить, надставить – как это у них называется?
– Да, мне могут вживить силиконовый имплантат. Но я не уверена, что пойду на это. Потому что сейчас это мое тело, а с имплантатом будет уже не мое. И вообще не тело.
– И как же я должен, по-твоему, сказать им последнее «прости»? Что нужно сделать? Чего ты от меня ждешь, Консуэла?
И она подробно объяснила мне, что и как.
Я взял свою камеру («лейку» с телескопическим объективом), а Консуэла поднялась с места.
Мы задернули шторы и включили все освещение; я нашел подходящую музыку Шуберта и поставил ее; а Консуэла принялась не столько танцевать, сколько – на экзотический, восточный лад – неторопливо раздеваться под музыку. Чрезвычайно изящная и невероятно хрупкая. Я сидел на диване, а она раздевалась под музыку. Зрелище было чарующим: Консуэла медленно скидывала с себя покровы, один за другим. Мата Хари. Шпионка, соблазняющая офицера. И невероятно, прямо-таки немыслимо хрупкая. Сначала она сняла блузку. Потом туфли. Это стало для меня неожиданностью: почему они были скинуты сразу вслед за блузкой? Затем она сняла лифчик. Но выглядело это немного нелепо, как если бы догола раздевшийся мужчина позабыл снять носки. Женщина в юбке, но с обнаженной грудью не вызывает у меня эротического волнения. Юбка путает карты. Женщина с обнаженной грудью и в брюках выглядит чрезвычайно эротично, а вот с юбкой это почему-то не срабатывает. Если уж не сняла юбку, то и лифчик лучше оставь, потому что подобная половинчатость поневоле наводит на мысль о кормлении грудью.
Однако Консуэла и не думала останавливаться на полдороге. И вот уже она осталась в одних трусиках.
– Ну, а теперь потрогай мои груди.
– Значит, этого ты хотела? Чтобы я потрогал твои обнаженные груди?
– Нет-нет, не этого. Но сначала потрогай.
Так я и поступил.
– А теперь сфотографируй их! – велела она. – Спереди, сбоку и сверху, когда я поддержу их руками.
Я сделал около тридцати снимков. Консуэла сама выбирала позы, не упуская ни одного ракурса. Вот она поддерживает груди руками. Вот сильно сжимает их. Вот свешивает их влево, вправо, подается в полупоклоне вперед, и я должен запечатлеть ее. В конце концов она скинула трусики, и я убедился в том, что срамные волосы у нее и впрямь не выпали; более того, они остались точно такими же, какими я их запомнил и описал вам, – тонкими и гладкими, как у азиатки. Мне показалось, что она и сама неожиданно возбудилась – и оттого, что разделась полностью, и оттого, что не могла не заметить, с каким восхищением я на нее смотрю. Все произошло буквально мгновенно. Я увидел, что у нее торчат соски. Хотя у меня самого в эту минуту уже ничего не торчало. И все же я спросил ее:
– А тебе не хочется остаться на ночь? Провести эту ночь со мной?
– Нет, – ответила Консуэла. – Переспать с тобой мне не хочется. Хотя я не прочь побывать в твоих объятиях.
Я был полностью одет, как сейчас, а она уселась мне на колени, полностью обнаженная; она ко мне прильнула, а затем взяла мою руку за запястье и завела себе под мышку, чтобы я смог нащупать опухоль. На ощупь та оказалась как камень. Вернее, как камешек. Как два камешка, один побольше, другой поменьше, и тот, что поменьше, отмечал начало уходящих в грудь метастазов. Но в самой груди не прощупывалось ничего.
– А почему я ничего не чувствую у тебя в правой груди?
– Потому что груди у меня слишком большие и слишком полные. Но он уже засел там, в глубине.
Да я бы все равно не смог переспать с нею, я. когда-то слизывавший ее менструальную кровь! После стольких лет неудержимой тоски по ней мне было бы трудно увидеться даже с прежней Консуэлой, не то что с нынешней, в ее гротескно искаженном образе. Так что я ни в коем случае не смог бы с ней переспать, хотя продолжаю думать об упущенной мною возможности, думать не переставая. Потому что ее груди и впрямь неописуемо прекрасны. Мне никогда не надоест это повторять. Какая подлость, какая жалость, какой позор, что удар судьбы пришелся именно по ним! – так сокрушался я мысленно вновь и вновь. Они не могут быть уничтожены ни в коем случае! Как я уже говорил вам, мне доводилось мастурбировать на эти груди – и мастурбировать непрерывно – все долгие годы нашей разлуки. Я ложился в постель с другими женщинами, и думал о ней, и думал о них, о том, как хорошо мне было, когда я зарывался в них лицом. Как они гладки, как нежны, как упруги, как мне нравилось взвешивать их в руке, ощущая податливую тяжесть, – так думал я не раз, уткнувшись носом в нечто совершенно иное… Но при этой встрече я понял, что секс для нее уже в прошлом. На карту было поставлено кое-что посерьезнее.
И вот я спросил у нее:
– А может быть, в день операции мне поехать с тобой в больницу? Если хочешь, я так и сделаю. Нет, я сделаю это в любом случае. Я настаиваю. У тебя ведь, кроме меня, никого нет.
– Это чрезвычайно великодушное предложение, – ответила Консуэла, – но я, право же, сама не знаю. И мне, пожалуй, не хочется видеться с тобой сразу же после того, как меня прооперируют.
Уехала она от меня примерно в половине второго, а приехала в начале девятого. Она даже не поинтересовалась тем, как я собираюсь распорядиться фотографиями, для которых она позировала. Прислать ей снимки она меня, во всяком случае, не попросила. Да я еще и не проявил пленку. Хотя мне страшно интересно на нее посмотреть. Я проявлю, увеличу и отпечатаю снимки. И, разумеется, пришлю ей полный набор. Но сначала нужно найти надежного человека для этой работы. Потому что фотограф я страстный, а ни проявлять, ни печатать так и не сподобился научиться. А зря. Такое умение мне сейчас пригодилось бы.
Теперь ее могут отправить на операцию буквально в любую минуту. Я жду от нее известий круглыми сутками изо дня в день. Но с тех пор как она приехала ко мне три недели назад, Консуэла не дает о себе знать. Интересно, даст ли? А вы как думаете? Мне она наказала не искать с ней встреч самому. Больше ей от меня ровным счетом ничего не нужно – именно это она сказала мне на прощание. А я не отхожу от телефона из страха невзначай пропустить заветный звонок.
После ее визита я сам принялся названивать знакомым, прежде всего врачам, с целью разузнать побольше о раке молочной железы и методах его лечения. Потому что по невежеству своему всегда представлял дело так: сначала маммотомия, а уж потом химиотерапия. И, даже когда Консуэла еще оставалась у меня, я лихорадочно размышлял, пытаясь обмозговать эту нестыковку. Сейчас мне уже известно, что химиотерапия перед операцией – вещь довольно распространенная в практике врачей, которым нравится полагать, будто они находятся на переднем крае науки, но это, разумеется, не отменяет вопроса, а правильно ли было подобное назначение в случае с Консуэлой. И что она имела в виду, говоря о шестидесяти процентах шансов на выживание? Почему только шестьдесят? Сказали ей об этом врачи, или она это где-то вычитала, а может, поддавшись панике, просто навоображала… Или доктора так блефуют из тщеславия? А может быть, это всего лишь шоковая реакция, причем достаточно типичная, – беспрестанно думать, будто в ее истории что-то осталось недосказанным, будто Консуэла что-то от меня утаила или что-то утаили от нее самой… Так или иначе, моя история на этом заканчивается, но пока мне больше ничего не известно.
Она уехала от меня примерно в половине второго – как раз когда Новый год приходит в Чикаго. Мы с нею попили чаю. Выпили по бокалу вина. По ее просьбе я включил телевизор, и мы посмотрели в записи новогоднее беснование сначала в Австралии, а потом в Азии и в Европе. Консуэла была настроена чуточку сентиментально, самую малость. Рассказывала мне разные истории. Из своего детства. О том, как отец очень рано начал брать ее с собой в оперу, буквально малюткой. О флористе из цветочного магазина.
– В прошлую субботу мы с мамой покупали цветы на Мэдисон-авеню, а флорист возьми да скажи: «Какая на вас миленькая шапочка!» А я ему говорю: «Это, знаете ли, не совсем шапочка», и он тут же все понял, смутился, покраснел, пробормотал какие-то извинения и подарил дюжину роз вдобавок к нашей покупке. Так что, сам видишь, столкнувшись с чужим несчастьем, люди приходят в замешательство. Они просто не знают, как им себя вести. Никто не знает ни что сказать, ни что сделать. Вот поэтому я тебе особенно признательна.
Как я все это воспринял? Величайшую муку мне тогда доставляла мысленная картина: Консуэла у себя дома, в постели, одна, трясется от ужаса. Панически боится умереть. И что нам с ней теперь предстоит? Как вам кажется? Не думаю, что она попросит меня проводить ее в больницу. Она была польщена тем, что я это предложил, но, когда настанет пора, она, конечно же, поедет в больницу с матерью. Понятно, что новогодней ночью она просто-напросто психанула, потому что на душе у нее было слишком тяжело и на вечеринку, куда ее пригласили, она ехать не хотела, чтобы не портить другим настроения, но и сидеть дома в одиночестве не хотела тоже. Не думаю, что, психанув в следующий раз, она мне позвонит. Выслушать мое предложение ей было приятно, а вот воспользоваться им она, наверное, не захочет.
Если только я не заблуждаюсь на сей счет. Если месяца через два-три она не нагрянет с категорическим заявлением, что решила со мной переспать. Лучше уж со мной, чем с каким-нибудь молодым человеком, потому что я стар, а значит, и сам далек от физического совершенства. Потому что, несмотря на все ухищрения пластических хирургов, которые, несомненно, постараются сгладить ущерб, нанесенный коллегами-онкологами, разрушение и омертвение тела оттолкнут меня куда меньше, чем моих знакомцев по тренажерному залу, которым, в отличие от меня, не выпало родиться еще до того, как Франклин Делано Рузвельт впервые вошел в Белый дом.
А вот окажусь ли я на высоте? Не дам ли слабины? Ни разу в жизни мне не доводилось спать с женщиной, отмеченной такого рода увечьем. Припоминаю только один более-менее похожий эпизод. Несколько лет назад, пригласив к себе женщину, я услышал от нее: «Должна предупредить тебя – у меня только одна грудь. Вторую мне ампутировали. Не хочется, чтобы это стало для тебя сюрпризом». Ну, знаете ли, каким бы бесстрашным и небрезгливым человеком ты себя ни считал, если начистоту, переспать с одно-грудой женщиной – перспектива не из самых заманчивых. Я разыграл легкое замешательство, постаравшись сделать вид, что смущен не самим ее признанием, а только тем, что оно прозвучало как недвусмысленный призыв. «Да брось ты! – сказал я ей. – Мы с тобой ведь не собираемся спать. Мы добрые друзья и, скорее всего, таковыми и останемся».
Однажды мне довелось переспать с женщиной, у которой было огромное красно-коричневое родимое пятно над грудью и частично на самой груди. Добавьте великанский рост – под метр девяносто. В первый и последний раз, желая поцеловать женщину, я вставал на цыпочки, да еще и задирал голову. У меня потом долго болела шея. А когда мы надумали наконец переспать, она для начала сняла юбку и спустила трусики – практика, как я понимаю, далеко не стандартная. Как правило, женщина сначала снимает блузку и все, что под ней, заголяя верхнюю половину тела, а уж потом дело доходит до нижней. Эта, однако, так и осталась в лифчике и в свитере.
– А что, ты их вообще снимать не собираешься? – поинтересовался я у нее.
– Собираюсь, но сначала мне нужно предупредить тебя, что там у меня не все в порядке.
Я улыбнулся, вернее, состроил хорошую мину при плохой игре.
– Ну и что же у тебя не в порядке?
– Да, знаешь ли, кое-что с грудью. Тебя это напугает.
– Да брось ты! Давай показывай.
Ну, она мне и показала. И я тут же начал лицедействовать, в чем явно переусердствовал. Я поцеловал чудовищное родимое пятно. Потрогал его. Поиграл с ним. Отвесил ему – и ей – несколько комплиментов. Сказал, что она вправе этим пятном гордиться. Что я от него без ума. Такой барьер не перемахнешь без разбега. Однако тебе приходится брать всю ответственность на себя, не впадать в истерику и относиться к партнерше с надлежащим тактом. Никакие сюрпризы, которые способно преподнести тебе ее тело, не должны тебя отпугнуть. Красно-коричневое пятно. Для нее это было сущей трагедией. Метр девяносто. Не одного меня, должно быть, заставил добиваться ее внимания этот восхитительный рост. И с каждым мужиком одна и та же песенка: «Мне нужно предупредить, что у меня не все в порядке».
Фотографии. Никогда не забуду о том, как Консуэла попросила меня сделать эти снимки. Загляни к нам в окошко (хотя шторы я, разумеется, задернул) какой-нибудь любитель пип-шоу, он наверняка нашел бы это зрелище откровенно порнографическим. Хотя, конечно же, к порнографии оно не имело ни малейшего отношения.
– А фотоаппарат у тебя еще есть? – спросила она.
– Есть.
– А ты не мог бы поснимать меня? Потому что мне хочется, чтобы мое тело сфотографировали таким, каким ты его знал. Каким любовался. Потому что в скором времени оно станет уже совсем другим. И я не знаю, к кому еще могла бы обратиться с такой просьбой. Я просто не могу довериться ни одному другому мужчине. Иначе не стала бы досаждать тебе такой просьбой.
– Разумеется, – ответил я ей, – я сделаю все. Все, чего ты захочешь. Только назови мне свое желание. Можешь просить о чем угодно. Ничего не утаивая.
– Поставь музыку, – сказала Консуэла, – и принеси аппарат.
– А какой музыки тебе хочется?
– Шуберта. Какой-нибудь камерной музыки Шуберта.
– Договорились, – кивнул я, а мысленно возразил Консуэле: «Ну уж нет! Не какой-нибудь! К такому случаю подойдет только „Смерть и Дева“[25]25
«Смерть и Дева» – название струнного квартета ре минор Шуберта, который звучит, в частности, в одноименном фильме Романа Полански.
[Закрыть]».








