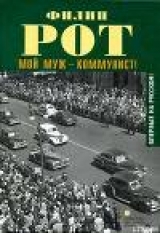
Текст книги "Мой муж – коммунист!"
Автор книги: Филип Рот
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 25 страниц)
– А если бы суд не восстановил вас? Вы до сих пор считали бы, что это помогает познавать жизнь?
– Если бы я проиграл суд? Полагаю, сумел бы честно сводить концы с концами. Не думаю, что существенно пострадал бы. Может, о чем-то я бы и сожалел. Но не думаю, чтобы это сказалось на моем характере. В открытом обществе, как бы плохо ни становилось, всегда есть куда спрятаться. Потерять работу, оказаться на острие внимания газет, называющих тебя предателем, – все это вещи весьма неприятные. Но эта ситуация не фатальна, не безвыходна, как было бы при тоталитаризме. Меня не бросали в тюрьму и не пытали. Моего ребенка не лишали никаких прав. Ну да, лишили заработка, кое-кто перестал со мной здороваться, зато другие мной восхищались. Моя жена мной восхищалась. Дочь восхищалась. Многие из бывших учеников восхищались мной. Открыто это высказывали. И я мог бороться через суд. Не был лишен свободы передвижения, мог давать интервью, собирать средства, нанимать адвокатов, выступать в суде. Я все это делал. Конечно, можно было расстроиться, впасть в депрессию и заработать инфаркт. Но можно и побочный заработок найти, и это я тоже сделал.
Вот если бы профсоюз потерпел неудачу, это бы на мне точно сказалось. Но так не случилось. Мы боролись и в конце концов победили. Уравняли зарплату мужчин и женщин. Уравняли зарплату учителей начальной и средней школы. Сделали так, чтобы вся внеклассная работа была, во-первых, добровольной, а во-вторых, оплачиваемой. Боролись за повышение оплаты больничного листа. Потребовали, чтобы человеку давали пять дней отпуска, если таковой ему понадобится по причинам личного характера. Добились, чтобы продвижение по службе производилось по результатам экспертной оценки, чтобы исключить фаворитизм, и, кстати, это сразу дало справедливый шанс всем меньшинствам. Мы привлекли в профсоюз чернокожих, и, как только их численность увеличилась, они продвинулись к руководящим постам. Но это все было много лет назад. Нынче наш профсоюз меня очень и очень не радует. Стал просто организацией, собирающей взносы. Плати, и все тут. Что делать, чтобы лучше учить детей, никого не интересует. Я этим очень разочарован.
– А что, в те шесть лет тяжко приходилось? – спросил я. – Сильно натерпелись?
– Да не так уж натерпелся. Ночи не спал, конечно, сплошь и рядом, это да. Много ночей провел без сна. Непрестанно думал, думал – как сделать то, и что делать после этого, и к кому стоит наведаться и так далее. Все время то мысленно перебирал сделанное, то пытался предугадать, что произойдет дальше. Но потом наступало утро, я вставал и шел делать то, что должен.
– А как воспринял происходящее с вами Айра?
– Как воспринял… Страдал. Можно сказать, это бы его доконало, если бы его уже не доконало все остальное. Я-то всю дорогу был уверен в победе, так ему и говорил. У них не было никаких законных оснований увольнять меня. Он только кривился, твердил: «Ты занимаешься самообманом. Им и не надо никаких законных оснований». Он знал слишком много историй о тех, кого уволили, и все, точка. В конце концов я победил, но он чувствовал свою ответственность за то, через что мне пришлось пройти. Носил это в себе всю оставшуюся жизнь. И насчет тебя, между прочим, тоже. Насчет того, что произошло с тобой.
– Со мной? – удивился я. – Так со мной ничего не произошло. Я же был мальчишкой.
– Ну, кое-что с тобой все-таки произошло.
Разумеется, тому, что в твоей жизни случилось нечто (и даже нечто важное), а ты об этом и понятия не имеешь, чересчур удивляться не стоит: о собственной жизни человек и сам по себе не может быть осведомлен всесторонне.
– Если ты помнишь, – продолжил Марри, – когда ты закончил колледж, Фулбрайтовскую стипендию тебе не дали. Это из-за моего брата.
1953/54 учебный год был завершающим периодом моей жизни в Чикаго; я тогда обратился за Фулбрайтовской стипендией, чтобы писать дипломную работу по литературе в Оксфорде, но мою кандидатуру отвергли. Я был чуть не лучшим на курсе, рекомендации имел – песни, а не рекомендации, и, как я сейчас вспоминаю – в первый раз, кстати, вспоминаю об этом с тех самых пор, – меня главным образом поразило не то, что мне отказали, а то, что Фулбрайтовская по литературе для стажировки в Англии досталась парнишке, который учился гораздо хуже меня.
– Неужто правда, Марри? Я чувствовал, что меня вроде как надули, но приписывал это превратностям судьбы. Не знал, что и думать. Надо же, поражался я, как меня мордой об забор угораздило – но тут подоспел призыв в армию. А откуда вы про все это знаете?
– Айре агент сказал. Из ФБР. Он вокруг Айры годами увивался. То носом к носу столкнется, а то и в гости зайдет. Все клинья подбивал, чтобы Айра имена называть начал. Говорил, что таким образом Айра сможет облегчить свою совесть. Тебя принимали за его племянника.
– Племянника? Какого такого племянника?
– Это не ко мне вопрос. В ФБР не всегда все понимают правильно. А может быть, и не хотят всегда все правильно понимать. Тот парень сказал Айре: «Вы знаете, что ваш племянник обратился за Фулбрайтовской стипендией? Ну, тот, который в Чикаго. Он ее не получил, потому что вы коммунист».
– Думаете, это правда?
– Ни секунды не сомневаюсь.
Слушая Марри, я смотрел и поражался, насколько во внешности этого человека материализовалась его внутренняя самосогласованность и красной нитью прошедшая через годы неотступная и отметающая все остальное устремленность к свободе в ее наиболее строгом и сухом понимании… Я подумал, что Марри – это же прямо эссенциалист какой-то, готовый от всего отказаться, все отбросить, опершись на вещи основные, незыблемые и жестко между собою связанные… что даже его характер безусловен и не зависит ни от чего, так что, где бы он ни очутился, пусть даже став торговцем пылесосами, он все равно обретет твердую почву самоуважения… что Марри (которого я не любил, да и не должен был: с ним у нас был просто контракт – ученик – учитель) – это тот же Айра (которого я как раз любил), но в более умственном, более разумно обоснованном варианте, Айра, преследующий практические, ясные, вполне определенные общественные цели, Айра без его героически-преувеличенных амбиций, без страстного, чересчур кипучего отношения ко всему, Айра, взгляд которого не затуманен импульсивной потребностью спорить со всеми подряд…
Перед глазами у меня при этом стоял он, Марри, голый по пояс и по-прежнему (хотя ему на тот момент было уже сорок два) наделенный всеми атрибутами молодости и силы. Эта картина запала мне в память осенью 1948 года, когда как-то вечером во вторник я увидел, как Марри Рингольд, далеко высунувшись наружу, снимает маркизу с одного из окон квартиры на втором этаже дома по Лихай-авеню, где он жил с женой и дочерью.
Он снимал и устанавливал навесы, сгребал снег, посыпал солью лед, подметал тротуар, подстригал живую изгородь, мыл машину, собирал и жег листья, дважды в день с октября и чуть не по апрель спускался в подвал раскочегаривать котел, согревающий дом: загружал уголь, шуровал кочергой в огне, выгребал золу, ведрами выносил ее по лестнице во двор и на помойку – жилец, квартиросъемщик, вынужденный непрестанно помнить все это занудство, отнимающее время и до, и после работы; муж, которому положено бодро и неустанно тащить свою ношу домашних хлопот, подобно тому как женам положено высовываться из открытого кухонного окна и при любой мыслимой наружной температуре (прямо как морякам, ставящим паруса) вывешивать влажное белье на веревку, крепить его прищепками простыню за простыней, отпуская их от себя по веревке вдаль, пока вся мокрая семейная постирушка не будет вывешена, и, когда белье подсохнет, хлопая на ветру индустриального Ньюарка, затем вновь вытягивать веревку, простынку за простынкой чистое белье снимать и, сложив, укладывать в бельевую корзину, а потом на кухне, чистое и сухое, гладить утюгом. Конечно, чтобы семья не погибла, главное – заработать деньги, приготовить еду и научить подопечных послушанию, но требуется и эта тяжкая, малоприятная, почти матросская работа – все это лазанье, подъем тяжестей, натягивание веревок, тасканье сумок, проворачивание тугих валов кривой рукоятью (то в двигателе автомобиля, то в мясорубке) – и все это коловращение ни шатко ни валко тикало возле меня, пока я на своем велосипеде ездил за две мили от дома до библиотеки и обратно: тик-так, тик-так, метроном повседневной жизни, зубчатые колеса бытия старого американского городского квартала.
Через дорогу от дома на Лихай-авеню, где жил учитель, находилась больница «Бейт Исраэль» – там, как мне было известно, до рождения дочери работала лаборанткой жена мистера Рингольда, а за углом было районное отделение библиотеки, куда я, бывало, ездил на велосипеде за недельной порцией книг. Больница, библиотека и школа, к тому же представленная учителем лично, – как славно и уютно все необходимые мне институции сплелись к моим услугам практически в границах одного микрорайона! Что ж, городской быт и впрямь был замечательно налажен, и все шло как по маслу тем вечером 1948 года, когда я увидел, как мистер Рингольд по пояс перегнулся через подоконник, снимая навес от солнца.
Лихай-авеню в этом месте спускается с крутого холма, и я затормозил, глядя, как он продевает веревку в угловой люверс козырька, а потом он крикнул вниз: «Отпускаю!» – и ткань навеса заскользила вдоль фасада вниз, где стоял мужчина, который отвязал веревку и уложил навес на кирпичном крыльце. То, как мистер Рингольд справился с задачей одновременно атлетической и повседневной, произвело на меня впечатление. Чтобы с таким изяществом выполнить эту работу, надо быть очень сильным.
Подъехав к дому, я увидел в саду великана в очках. Это был Айра. Тот самый его брат, что приходил к нам в школу и в нашем конференц-зале изображал Эйба Линкольна. Он вышел на сцену в старинном сюртуке и, стоя там в одиночестве, произнес Геттисбергскую речь, а потом и Вторую инаугурационную, закончив выступление, как потом объяснил нам брат выступавшего, учитель Рингольд, благородным и прекрасным периодом прозы, когда-либо написанным хоть президентом, хоть вообще кем бы то ни было из американских писателей. (Длинное, как товарный состав, пыхтящее и громыхающее на стыках предложение, обремененное целою гроздью прицепленных к хвосту тяжких платформ, – а он потом заставил нас еще разбирать, анализировать и обсуждать его в классе в течение целого урока: «Злобы не тая ни на кого, на всех распространяя милосердие и твердо стоя в правде, поколику Бог сподобил нас правду сию различать, сосредоточим же усилия на завершении начатого, да и врачеванием народных ран пора заняться: пришло время позаботиться о том солдате, которому предстоит еще принять на себя тяжесть сражения, о его вдове и о сироте его, дабы, сделано было все, что поможет нам завоевать и бережно сохранить справедливый и прочный мир – как между собой так и в отношениях со всеми другими народами»?) Все оставшееся до конца представления время Линкольн, снявши свою схожую с паровозной трубой цилиндрическую шляпу, употребил на дебаты с сенатором-рабовладельцем Стивеном А. Дугласом, на чьи особенно предательские и расистские реплики некая группа учеников (то были мы – члены факультативной дискуссионной группы, называвшейся клубом «Современник») отзывалась улюлюканьем и воем, текст же за Дугласа читал учитель Марри Рингольд, который и организовал выступление Железного Рина в нашей школе.
А тогда, при снятии маркизы, будто мало мне было шока от того, что мистер Рингольд предстал на публике без рубашки и галстука (да и без майки даже), Айрон Рин и вовсе одет был, как боксер на ринге. Трусы, кроссовки и больше ничего – чуть не голый; зато это был не только самый могучий мужчина из всех, кого мне приходилось видеть вблизи, но и самый знаменитый. Каждый четверг по вечерам Железного Рина можно было слушать по радиоточке в программе «Свободные и смелые» – популярной еженедельной радиопостановке, воскрешающей героические эпизоды американской истории. В ней появлялись такие персонажи, как Натан Хейл и Орвилл Райт, Дикий Билл Хикок и Джек Лондон. В реальной жизни Айра был женат на Эве Фрейм, ведущей актрисе труппы, занимавшейся еженедельными постановками на радио «серьезной» драмы. Труппа называлась «Американский радиотеатр». О Железном Рине и Эве Фрейм моя матушка знала все, потому что посещала парикмахерскую и читала там журналы. Она бы никогда не стала покупать их: не одобряла – ни боже мой! – так же как и отец, стремившийся, чтобы его семья была образцовой; однако, сидя под феном, она читала их, а журналы мод она просматривала, когда субботними вечерами помогала своей подруге миссис Свирски, которая на пару с мужем держала модный магазин на Берген-стрит по соседству со шляпным салоном миссис Унтерберг – ей моя матушка по субботам и во время предпасхальной горячки тоже иногда помогала.
Однажды вечером, прослушав постановку «Американского радиотеатра» (эти передачи мы слушали с незапамятных времен), мать рассказала нам про то, что Эва Фрейм вышла замуж за Железного Рина, и про всех тех деятелей радио и театра, что были у них на свадьбе гостями. На Эве Фрейм был бледно-розовый шерстяной костюм из юбки с жакетом, с двойной опушкой лисьего меха по рукавам, а на голове шляпка из тех, которые никто в мире не умеет носить с таким изяществом, как она. Матушка называла эти шляпки «Иди ко мне»; они вошли в моду, по всей видимости, после выхода немого фильма «Иди ко мне, дорогой!», где Эва Фрейм, играя в паре с идолом домохозяек Карлтоном Пеннингтоном, превосходно изобразила балованную цацу из высшего общества. Все кругом знали, что в «Американском радиотеатре» перед микрофоном и с ролью в руке она стоит всегда в такой «Иди ко мне», хотя на некоторых фотографиях она там же, перед тем же микрофоном, но – представьте! – в мягкой фетровой шляпе со свисающими полями, а то вдруг в шляпке вроде крышки от коробки с монпансье или в панаме, а однажды, будучи гостем шоу Боба Хоупа, оказалась в черной плоской соломенной шляпке с обольстительно-прозрачной шелковой паутинкой. Мать сообщила нам, что Эва Фрейм на шесть лет старше Железного Рина, что у нее волосы растут по дюйму в месяц, и она их высветляет для работы на бродвейской сцене, что ее дочь Сильфида играет на арфе, окончила Джульярдскую музыкальную школу, а отец Сильфиды – бывший муж Эвы Фрейм Карлтон Пеннингтон.
– Ну кому все это интересно? – скривился, помню, отец.
– Здрасьте! А Натану? – не растерялась матушка. – Железный Рин – брат мистера Рингольда. А мистер Рингольд – это же у него настоящий идол!
Мои родители видели Эву Фрейм в немых фильмах в те времена, когда она была юной красоткой. Она была по-прежнему красива, о чем я знаю, потому что четырьмя годами ранее, на мой одиннадцатый день рождения, меня в первый раз повели смотреть бродвейскую постановку (давали пьесу Джона П. Марканда «Покойный Джордж Эпли»), и в спектакле играла Эва Фрейм, а мой отец, чьи воспоминания об Эве Фрейм как о юной актрисе немого кино были, по всей видимости, с большим налетом эротизма, потом сказал: «Как эта женщина говорит по-английски! – королева, или вам надо какую-то еще?», на что матушка, то ли понимая, то ли не понимая причину его восторга, ответила: «Таки да, но она распустилась. Говорит прекрасно и прекрасно играет, а как идет ей эта стрижка под мальчика! – но маленькую женщину жирок не красит, нет-нет-нет, тем более в белом пикейном летнем платье, длинном или коротком, но всегда облегающем».
Когда наступала мамина очередь принимать у себя подруг по клубу игры в маджонг во время их еженедельных посиделок, неизменно разгоралась дискуссия о том, кто эта Эва Фрейм – не еврейка ли, причем особенно остро встал этот вопрос после того, как несколько месяцев спустя однажды вечером я оказался у Эвы Фрейм за обеденным столом в качестве гостя Айры. Весь помешанный на звездах мир вокруг помешанного на звездах мальчишки без устали обсуждал, правда ли, что ее настоящая фамилия Фромкин, а то, может, люди зря говорят? Хава Фромкин. А то в Бруклине были такие Фромкины, говорят, ее родственники, так она взяла от них да и отреклась – фьюить, понимаешь ли, удрала в Голливуд и сменила имя.
– Ну кому все это интересно? – по-прежнему кривился мой серьезный отец, когда во время их игры в маджонг ему приходилось пройти через гостиную, а там как раз опять обсуждали все ту же тему. – В Голливуде все имена меняют. А этой женщине стоит только рот открыть, и ты уже чувствуешь, как тебе ставят дикцию. На сцену выйдет, станет даму изображать, так ты сразу видишь – это дама!
– Говорят, она из Флэтбуша, – в таких случаях обязательно рано или поздно вставляла миссис Унтерберг, владелица шляпного салона. – А папаша у нее, говорят, кошерный резник, вот и думайте!
– Да ведь и про Кэри Гранта говорят, что он еврей, – напоминал дамам мой отец. – А фашисты? Они утверждали, что Рузвельт был евреем! Мало ли что люди говорят! Какое мне до этого дело! Мне важно, как она играет, а играет она, как что-то особенное!
– Коне-ечно! – отзывалась миссис Свирски, у которой на пару с мужем модный магазин. – У мужа Руфи Тьюник есть брат, так у его жены девичья фамилия была Фромкин – из наших Фромкиных, которые в Ньюарке живут. А у нее родственники в Бруклине, так они пяткой в грудь стучат, будто бы Хава Фромкин их кузина.
– А что говорит Натан? – вступает миссис Кауфман, домохозяйка, мамина подруга детства.
– А ничего не говорит, – отвечает мать.
Это я добился, чтобы она так за меня отвечала. Как добился? Да легко. Когда она по просьбе подруг как-то спросила, не знаю ли я, действительно ли Эва Фрейм из «Американского радиотеатра» на самом деле Хава Фромкин из Бруклина, я сказал ей: «Религия – это опиум для народа! Такие вещи не имеют значения; мне на них наплевать. Не знаю и знать не хочу!»
– А как там было? В чем она была? – Это опять миссис Унтерберг, причем спрашивает она об этом почему-то мою мать.
– Что подавали на стол? – интересуется миссис Кауфман.
– Какая у нее была прическа? – не унимается миссис Унтерберг.
– А он действительно два метра ростом? Что говорит Натан? У него правда ботинки сорок шестого размера? Некоторые говорят – это все так, для красного словца.
– А на лицо рябой, как на фотографиях?
– А что Натан говорит о дочери? Что за имя такое – Сильфида? – спрашивает миссис Шессель, работавшая, как мой отец, мозольным оператором.
– Это ее настоящее имя? – спрашивает миссис Свирски.
– Какое-то не еврейское, – хмурится миссис Кауфман. – Сильвия – это да, еврейское. А это французское, должно быть.
– Но папа-то у нее не француз, – замечает миссис Шессель. – Ее отец Карлтон Пеннингтон. Он вместе с Эвой Фрейм в тех фильмах снимался. Помните, был такой фильм, где она еще сбежала с ним. Где он был стариком-бароном.
– Это в том, где она в этакой шляпке?
– Ах, никому в мире так не идут шляпки, как этой женщине, – качает головой миссис Унтерберг. – Наденьте на Эву Фрейм кругленький беретик, шляпку с букетиком, как для званого обеда, да пусть хоть из соломенной плетенки или с огромными полями и вуалью – наденьте на нее что угодно, тирольскую с пером, накрутите ей белый шелковый тюрбан, заставьте капюшон поднять – такой мохнатый, с мехом, – все равно будет одно слово прелесть, и хоть ты тресни!
– На одной фотографии на ней был – ах, никогда не забуду, – закатив глаза, вспоминает миссис Свирски, – такой вышитый золотом белый костюм и белая горностаевая муфточка. Такого изящества я за всю жизнь не видывала. А еще одна пьеса была – ну, девочки, мы же вместе ее смотрели, как она называлась? Там на ней было бордовое шерстяное платье, и сверху такое пышненькое, и снизу, и с очаровательной вышивкой – все завитушки, завитушки…
– Ну конечно! И такая же шляпка с вуалью. Бургундский бордовый фетр, – уточняет миссис Унтерберг. – И вуалька мятая. Она, конечно, гофрированная, но называется «мятая».
– А помните ее в оборочках – тоже какая-то была пьеса, но другая, – вступает миссис Свирски. – Никто так не носит оборочки, как она. Белые двойные кружевные оборочки на черном платье для коктейлей!
– Только вот что за имя – Сильфида? – вновь вопрошает миссис Шессель. – Сильфида. Это откуда ж такое взялось?
– Это Натан знает. Натана надо спросить, – озирается миссис Свирски. – А Натан-то здесь, нет?
– Он уроками занят, – объясняет мать.
– Спроси его. Что за имя такое – Сильфида.
– Я потом его спрошу, – хмурится мать.
Она понимала: спрашивать не следует – при том, что втайне я с тех самых пор, как вошел внутрь заколдованного круга, просто разрывался от желания рассказывать о том, что там видел, всем и каждому. Что они носят? Что едят? О чем говорят за едой? Как оно там вообще? То есть просто: обалдеть!
Тот вторник, когда я впервые встретил Айру (во дворе, перед домом мистера Рингольда), пришелся на 12 октября 1948 года. Если бы только что, вчера, в понедельник, не закончилась Всемирная серия,[4]4
Всемирная серия – традиционная серия из семи игр между лучшими в сезоне бейсбольными командами Американской лиги и Национальной лиги.
[Закрыть] я, может быть, из робости или из уважения к тайне частной жизни учителя промчался бы со свистом мимо дома, где они с братом снимали эти навесы, и, не махнув даже рукой, без всяких «здрасьте-до свидания» свернул бы за угол налево на Осборн-террас. Однако случилось так, что за день до того «Индейцы» победили «Бравых бостонцев» в финальной игре серии, а за этой игрой я следил, слушая радио у мистера Рингольда в учительской. Утром он принес с собой приемник и пригласил тех, у кого дома еще не было телевизора (то есть подавляющее большинство ребят), перейти после школы из кабинета литературы, где он вел последний, восьмой урок, в тесную учительскую отделения языка и литературы, чтобы по радио послушать репортаж об игре, которая уже вовсю разворачивалась на поле «Бравых бостонцев».
Так что с моей стороны было бы просто неучтиво, если бы я не затормозил и не обратился к нему: «Мистер Рингольд, спасибо за вчерашнее!» Вежливость требовала, чтобы я кивнул и улыбнулся также и великану, стоящему во дворе. А затем с пересохшим ртом одеревенело встал бы и с поклоном представился. После чего он совершенно сбил меня с толку, сказав: «А! Как дела, старик?», и я вдруг понес форменную ахинею, принявшись в ответ рассказывать, что в тот день, когда он выступал у нас в конференц-зале, я был одним из тех мальчишек, которые выли и улюлюкали, когда Стивен А. Дуглас в лицо Линкольну объявлял: «Я против того, чтобы неграм предоставлять гражданство в какой бы то ни было форме. (Ухухуу!) Я полагаю, это государство создано на базе белой расы. (Ухухуу!) Убежден, что оно создано белыми (Ухухуу!), на благо белых (Ухухуу!) и ради их потомков. (Ухухуу!) Считаю, что предоставлять гражданство следует только белым людям… Гражданством не следует жаловать негров, индейцев и представителей других неполноценных рас. (Ухухуу! Ухухуу! Ухухуу!)»
Что-то, коренящееся глубже, нежели просто вежливость (амбиции? желание, чтобы восхитились моей высокой убежденностью?), побудило меня перебороть смущение и рассказать ему – то есть всей воплощаемой им троице: во-первых, его персонажу – патриоту-мученику Аврааму Линкольну, во-вторых, отважному рыцарю радиоволн Железному Рину и, в-третьих, когда-то знаменитому на весь Первый околоток Ньюарка, но потом исправившемуся хулигану Айре Рингольду, – что это именно я был заводилой тех ребят, что устроили улюлюканье.
Мистер Рингольд, мокрый от пота, в одних защитного цвета штанах и мокасинах спустился из своей квартиры на втором этаже в подъезд дома. Сразу за ним спустилась его жена; прежде чем вновь уйти к себе наверх, она выставила на кирпичное крыльцо поднос с графином охлажденной воды и тремя стаканами. Вот так и вышло – до одури жарким осенним днем в четыре пополудни 12 октября 1948 года начался самый удивительный вечер за всю мою юность; я завалил велосипед набок и сел у своего учителя на крылечке рядом с мужем Эвы Фрейм Железным Рином из «Свободных и смелых», и мы запросто болтали о Всемирной серии, за время которой Боб Феллер – невероятно! – профукал два гейма, а Ларри Доуби, первый за всю историю Американской лиги чернокожий игрок, которым мы все восхищались (хотя и не так, конечно, как Джеки Робинсоном), взял семь из двадцати двух.
Потом говорили о боксе: как Джо Луис нокаутировал Джерси Джо Уолкотга, хотя Уолкотт его здорово опережал по очкам; как прямо здесь, у нас в Ньюарке, в июне Тони Зейл вновь отобрал титул чемпиона в среднем весе у Роки Грациано, сокрушив его ударом левой, а потом проиграл французишке Марселю Сердану – но это уже там, в Джерси-Сити, пару недель назад, в сентябре… Потом, с минуту поговорив со мной о Тони Зейле, Железный Рин переключился на Уинстона Черчилля и речь, произнесенную им несколько дней назад, от которой Железного Рина до сих пор трясло: в ней британский премьер советовал Соединенным Штатам не уничтожать свой запас атомных бомб, потому что атомная бомба – это, дескать, единственное, что удерживает Советский Союз от того, чтобы поработить весь мир. Он говорил об Уинстоне Черчилле так же, как о Марселе Сердане или Лео Дьюрочере. Величал Черчилля реакционным ублюдком и поджигателем войны с той же неколебимой уверенностью, как Дьюрочера обзывал болтуном, а Сердана – болваном. Рассуждал о Черчилле так, словно тот заведовал бензозаправкой на Лайонс-авеню. Мои родители говорили о Черчилле в несколько другом тоне. Так говорить у нас было принято, скорее, о Гитлере. Как и его брат, в своих речах Айра не соблюдал тех невидимых рамок, что определяются общепринятыми табу. Все у него мешалось в одну кашу: спорт, политика, литература, обо всем судил дерзко и задиристо, привлекал себе на помощь неизвестно откуда взявшиеся цитаты и тут же продолжал спор с позиции отвлеченной морали и высоких идеалов… Что-то в этом было поразительно захватывающее и бодрящее, перед тобой раскрывался некий новый, опасный мир – требовательный, прямодушный, напористый, свободный от пустопорожней вежливости. И свободный от школы. Железный Рин был не просто радиозвездой. Это был человек извне, не имеющий отношения к пространству классной комнаты и не боящийся говорить что вздумается.
А я как раз только что прочитал про такого – про Тома Пейна, человека, который не боялся говорить что вздумается, и книга о нем, исторический роман Говарда Фаста «Гражданин Том Пейн», как раз лежала среди других в багажной корзинке моего велосипеда – я вез ее возвращать в библиотеку. Пока Айра разоблачал передо мною Черчилля, мистер Рингольд подошел к книжкам, которые, выпав из корзины, рассыпались у крыльца по мостовой, и оглядывал их корешки. Половина книжек была про бейсбол, все одного автора – Джона Р. Тьюниса, а другая половина – по истории Америки, эти все Говарда Фаста. Мои политические взгляды (как и вообще мое представление о человечестве) развивались по двум параллельным линиям – одна нарисовалась под влиянием книжек о чемпионах бейсбола, которым трудно давались победы, и они прокладывали к ним дорогу вопреки напастям, унижениям и неудачам, а другую прочертили романы о героях-американцах, которые боролись против тирании и несправедливости, воюя за свободу для Америки и всего человечества. Героизм и страдание. Я на этом собаку съел. «Гражданин Том Пейн» был не столько романом в общепринятом смысле, замешанным на интриге, сюжете и т. д., а, скорее, нагромождением условно между собою сцепленных помпезных сцен и высказываний, призванных удостоверить тот факт, что трудно быть серым мужланом, если у тебя голова все-таки что-то варит, а в груди сердце, полное высочайших социальных идеалов, – ну, то есть трудно быть одновременно и писателем, и революционером. «Никто в мире не вызывал к себе такую ненависть, но и такую любовь, если уж находились те, кто любил его». «Это был ум, который сжег себя так, как немногие в истории человечества». «На своей шкуре он чувствовал плеть, которой прошлись по спине народной массы». «Уже тогда его мысли были куда ближе к чаяниям простого рабочего, чем когда-либо могли сделаться идеи Джефферсона». Таким Фаст изображал Пейна – свирепым маньяком раз и навсегда избранной цели, до смешного воинственным нелюдимым брюзгой, то есть фигурой эпической и чуть ли не фольклорной: оборванный, грязный, в нищенском рубище, этот ожесточенный, все поливающий сарказмом человек с мушкетом одиноко слонялся, согласно Фасту, по раздираемым беззаконием улицам воюющей Филадельфии, время от времени напиваясь и то и дело посещая бордели, а по пятам за ним следовали наемные убийцы. Друзей у него не было, все делал сам. «Моя единственная подруга – революция!» Ко времени, когда я дочитал эту книгу, у меня уже не было сомнения, что другой дороги, кроме дороги Пейна, для мужчины нет – так надо жить и так умирать, если негасимое чувство свободы в тебе требует добиваться переустройства общества, не давая спуску ни порфироносным правителям, ни грубой толпе.
Он все делал сам, один. Ничто в Пейне не привлекало так, как это, при том что Фаст довольно равнодушно обрисовывал эту его изоляцию, порожденную как вызывающим стремлением к независимости, так и бедами в личной жизни. Что ж, Пейн и последние свои дни провел так же – один, сам по себе, сделавшись старым, больным и нищим изгоем; одинокого и всеми брошенного, более всего его ненавидели за последнее из им написанного – за его духовное завещание «Век разума»: «Я не доверяю ни доктрине, которую проповедует религия евреев, ни символу веры Римской католической церкви, ни православным догматам; не верю я ни туркам, ни протестантам и ни одной известной мне церкви». Читая про него, я чувствовал, как становлюсь дерзким и злым, а главное, свободным, готовым драться за свои убеждения.
Книга «Гражданин Том Пейн» как раз и оказалась в руках мистера Рингольда, именно ее он извлек из опрокинутой велосипедной корзинки и принес туда, где мы сидели.
– Читал? – кивнув на нее, спросил он брата.
Железный Рин взял мою библиотечную книжку в огромные эйб-линкольновские ладони и начал перелистывать страницы.
– Н-нет. Никогда не читал Фаста, – проговорил он. – А надо бы. Удивительный человек. Большого мужества. С самого начала был Уоллесом. Когда читаю «Уоркер», каждый раз проглядываю его колонку, но для романов у меня уже времени нет. Когда служил в Иране, бывало, почитывал – Стейнбека, Эптона Синклера, Джека Лондона, Колдуэлла…
– Если соберешься почитать Фаста, именно эту книгу и бери, здесь он в зените, – сказал мистер Рингольд. – Верно я говорю, Натан?
– Потрясающая книга, – отозвался я.
– А ты читал когда-нибудь «Здравый смысл»? – спросил меня Железный Рин. – Самого-то Пейна книги читал?








