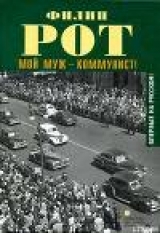
Текст книги "Мой муж – коммунист!"
Автор книги: Филип Рот
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 25 страниц)
После обеда пришли еще, наверное, человек пятьдесят. Несмотря на необычайную высоту, на которую вознес меня своими похвалами Айра, я никогда бы не отважился остаться среди набившихся в гостиную людей, если бы вновь мне не пришла на выручку Сильфида. В толпе были актеры и актрисы, режиссеры, писатели, поэты, были адвокаты и литературные агенты, были театральные продюсеры, был там Соколоу и была Сильфида, которая не только называла всех гостей уменьшительными именами, но знала и могла карикатурно изобразить каждый их изъян. Обо всех она рассказывала дерзко и забавно, всегда очень зло, проявляя талант, присущий повару, который сперва отбивает, потом обваливает в сухарях и лишь потом принимается жарить кусок мяса, а у меня, поставившего себе целью стать храбрым, бескомпромиссным глашатаем правды на радио, аж дух захватывало от того, что она не делала ни малейших попыток как-то смягчить, не говоря уже о том, чтобы скрыть свое к ним ко всем насмешливое презрение. Вот тот – самый тщеславный человек в Нью-Йорке… а этому надо всегда быть главнее других… что ж, такой лицемер, как он… кто – вон тот? – да он ни о чем подобном и понятия не имеет… а, это тот, который в прошлый раз напился так, что… нет, только не ему, его талант такой микроскопический… о, этот обижен, ну конечно… да уж, порочнее его и свет не видывал… что самое смешное в этой чокнутой, так это ее претенциозность…
Как приятно бывает размазывать людей по стенке – или смотреть, как это делают другие. Особенно мальчишке, который только что всем своим существом готов был всех здесь собравшихся чтить благоговейно. Начиная уже волноваться, что к сроку не успею вернуться домой, я все-таки не мог не задержаться ради такого первоклассного урока злобного ехидства. Прежде я никогда не встречал людей, подобных Сильфиде: в столь молодом возрасте и так всех ненавидеть! – такая вроде неглупая, даже искушенная и в то же время, судя по этим ее балахонам – длинным и цветастым, как у цыганки-предсказательницы, явно девушка со сдвигом. Как она смакует свое отвращение ко всем и вся! Я и понятия не имел, насколько я был ручным, стреноженным, как лез из кожи вон ко всем подольститься, пока не увидел, как рвется Сильфида оттолкнуть, вызвать вражду; я и не знал, какая открывается свобода, какой простор, когда дашь слабину своему эгоизму, чтобы он взял да и вырвался из-под гнета социальных страхов. И ведь что странно: черна, но прекрасна, а еще и грозна, как полки со знаменами. В Сильфиде я увидел бесстрашие, увидел, как она смело культивирует в себе это свойство – нести угрозу для окружающих.
Были там два человека, которых, по ее признанию, она вообще на дух не переносила, – это супружеская чета, чьи воскресные утренние передачи больше всех других любила моя мать. Регулярную программу, называвшуюся «Ван Тассель и Грант», вела из загородного дома на реке Гудзон (округ Дюшес в штате Нью-Йорк) модная писательница Катрина ван Тассель-Грант на пару с мужем, театральным критиком и постоянным обозревателем газеты «Джорнал Америкэн» Брайденом Грантом. Катрина – пугающе-тощая жердь под два метра с длинными темными локонами, которые когда-то давно, видимо, считались пленительными, – держалась так, чтобы всем было понятно: о том, как она влияет на Америку посредством своих романов, ей известно, и она не склонна таковое влияние преуменьшать. То немногое, что я знал о ней до вечеринки у Айры – например, что в доме Грантов время обеда принято посвящать обсуждению с четырьмя ее красивыми детьми их обязательств по отношению к обществу, а также что ее друзья в богатом традициями, старинном Стаатсбурге (где ее предки ван Тассели, местные аристократы, поселились еще в семнадцатом веке, задолго до прибытия англичан) – все до единого люди с высшим образованием и безупречные в моральном отношении, – я почерпнул случайно из передач цикла «Ван Тассель и Грант», которые моя мать неукоснительно слушала.
Прилагательное «безупречный» было любимым словцом Катрины, постоянно мелькавшим в ее монологе, посвященном ее же собственной богатой и во многом образцовой жизни, протекающей как в шумном городе, так и на фоне буколических пейзажей. Кстати, она и других заражала этим своим любимым прилагательным «безупречный»: послушав час, как Катрина ван Тассель-Грант (которую моя мать уважала за «образованность») прославляет всех, кому выпало счастье так или иначе вступить в контакт с семейством Грант (будь то врач, лечивший ей зубы, или слесарь, чинивший унитаз), мать тоже начинала щеголять этим словцом. «Ах, он оказался безупречным водопроводчиком, Брайден, просто безупречным!» – однажды изрекла по ходу передачи Катрина ван Тассель, после чего многомиллионная аудитория, в том числе и моя мать, битый час слушала обсуждение дефектов канализации, которые, как выяснилось, в домах у родовитых американцев тоже случаются, причем слушала в совершеннейшем упоении, тогда как отец, обеими ногами стоявший на позициях Сильфиды, отозвался на это так: «Да выруби ты наконец эту дурынду, я тебя умоляю!»
Это как раз о ней, о Катрине Грант, Сильфида прошептала тогда мне на ухо: «Что самое смешное в этой чокнутой, так это ее претенциозность», а характеристика «Это самый тщеславный человек в Нью-Йорке» относилась к ее мужу, Брайдену Гранту.
– Мама иногда ходит с этой Катриной на ленч и домой возвращается от ярости аж белая вся. Говорит: «Эта женщина – увижу и немею. Она рассказывает мне про театр, рассказывает про последние новинки литературы и думает, будто знает все, а ведь она ничегошеньки не знает». И это истинная правда: за ленчем она постоянно читает маме лекции о том, о чем как раз маме-то все вдоль и поперек известно. Книг Катрины она тоже терпеть не может. То есть вообще не может их читать. Как попытается, тут же хохочет, а Катрине потом нахваливает, какие они замечательные. У мамы для каждого, от кого у нее мороз по коже, придуманы прозвища, и Катрина у нее «Шиза». Например, говорит мне как-то: «Ты бы послушала, что Шиза сморозила про ту пьесу О'Нила! Она превзошла себя». На следующий день эта Шиза в девять утра звонит, и мамочка с ней час висит на телефоне. Мамочка своим возмущением сперва швыряется, как транжира деньгами, а потом делает разворот кругом и начинает изо всех сил подлизываться – и все из-за этого «ван» в ее фамилии. Ну, и из-за того, конечно, что, когда Брайден упоминает маму в своей колонке, он называет ее «Сарой Бернар радиоволн». Бедная мамочка с ее нацеленностью в высшие круги! Катрина – самая претенциозная аристократка из всех богатых и претенциозных аристократов, живущих в шикарных предместьях Стаатсбурга, а ее муженек якобы прямой потомок Улисса С. Гранта.
– Вот, смотри, – заозиравшись, вдруг сказала Сильфида. Вечеринка была в полном разгаре, гостей столько, что все были друг к другу притиснуты так, что еле уворачивались, чтобы носом не попасть в бокал соседа; с трудом пробившись между ними к книжному шкафу, Сильфида принялась искать какой-нибудь роман Катрины ван Тассель-Грант. По обе стороны камина стены гостиной от пола до потолка были целиком уставлены книгами, полки доходили до такой высоты, что добраться туда можно было только с помощью специальной библиотечной лесенки.
– Вот, – сказала она. – «Элоиза и Абеляр».
– Моя мать это читала, – сказал я.
– Экая бесстыдница! – хмыкнула в ответ Сильфида, отчего у меня на миг подкосились колени, но тут же я понял, что это была шутка. Ведь не только моя мать, но и еще полмиллиона американок и американцев купили эту книгу и прочли. – Вот, открой на любой странице, ткни пальцем в любое место и готовься: будешь потрясен, Натан из Ньюарка!
Я сделал, как сказано, а Сильфида увидела, куда указывает мой палец, улыбнулась и говорит:
– Ну вот, я же сказала: долгих поисков не потребуется, В. Т. Г. сразу обнаружит свой поразительный талант. – И стала вслух читать: – «Обвив руками тонкую талию, он привлек девушку к себе, и она почувствовала мощные мышцы его ног. Ее голова запрокинулась. Губы раскрылись, чтобы принять его поцелуй. Настанет день, когда за страсть к Элоизе его постигнет жестокая и бесчеловечная кара – ему придется претерпеть кастрацию, но пока что он отнюдь не был калекой. Чем крепче он прижимал ее к себе, тем больше росло давление на ее чувствительные зоны. О, как он был возбужден, этот мужчина, чей гений перекроит и наполнит новою жизнью традиционную христианскую теологию. Ее соски отвердели и заострились, и в животе у нее все напряглось, когда она подумала: «Я целую величайшего писателя и мыслителя двенадцатого столетия!» – «Какая прекрасная у тебя фигура, – шептал он ей на ухо. – Налитые груди, узкий торс! Даже все это множество широких шелковых юбок не может скрыть от глаза прелесть твоих бедер и ляжек». Известный своим решительным подходом к вечным проблемам Вселенной и своеобразным использованием диалектики, он даже сейчас, на вершине интеллектуальной славы, нисколько не утратил умение растопить сердце женщины… К утру они друг другом насытились. Наконец она улучила момент, чтобы сказать канонику и настоятелю собора Нотр-Дам: «Теперь, пожалуйста, учи меня. Учи меня, Пьер! Учи меня так, чтобы я постигла диалектический анализ тайны Бога и Святой Троицы!» И он учил ее, то с нежной постепенностью, то бурно и сурово входя во все тонкости рационалистической интерпретации догмата Троицы, а затем он взял ее как женщину в одиннадцатый раз».
– Вот: одиннадцать раз, – сказала Сильфида, в наслаждении от услышанного обхватив себя руками за плечи. – Ее-то муженек не знает, что такое два. Да этот гомик небось и что такое раз не представляет. – И тут ее такой смех разобрал, что она долго не могла остановиться – впрочем, и я тоже. – О, пожалуйста, учи меня, Пьер! – вскричала напоследок Сильфида и ни с того ни с сего вдруг громко чмокнула меня в нос.
Когда Сильфида отправила «Элоизу и Абеляра» обратно на полку и мы более-менее пришли в себя, я наконец набрался храбрости, чтобы задать ей вопрос, который весь вечер вертелся у меня на языке. То есть один из вопросов. Не о том, что значит вырасти в Беверли-Хиллз, не о том, как это – жить по соседству с Джимми Дюранте, и не о том, как себя чувствуешь, когда твои родители кинозвезды. Нет, этого я не спросил – боялся, что она меня подымет на смех; я задал тот вопрос, который мне казался серьезнее других.
– А что чувствуешь, – сказал я, – когда играешь в «Радио-сити мюзик-холле»?
– О, это ужас. Дирижер – вообще кошмар. «Голубушка, я понимаю, вам очень трудно в этом такте считать до четырех, но, если вы не возражаете, вы уж, пожалуйста, постарайтесь». И чем он вежливее, тем, значит, больше сердится. А уж когда по-настоящему разозлен, говорит: «Голубушка, душенька…» И это его «душенька» так и сочится ядом. «Умоляю, голубушка, душенька, взгляните в ноты, там же арпеджио». А в нотах черным по белому обычный аккорд. А попробуй скажи ему: «Извините, маэстро, но знак арпеджиандо тут не напечатан». Прослывешь спорщицей, да еще скажут, время тянешь. Все будут смотреть на тебя, как на полную идиотку: ты что, мол, сама не знаешь, как должно быть, тебе дирижер должен все разжевать и в рот положить? А дирижер он худший в мире. Ничем, кроме стандартного репертуара, никогда не занимался, и все равно думаешь: господи, неужели он ни разу эту вещь хотя бы не слышал? А, вот: еще оркестровый подъемник. Это в концертном зале. Там, знаешь, платформа, на которой располагается оркестр, – она может двигаться. Вверх, вперед, назад, вниз, и каждый раз, когда она движется, отчаянно дергается – она на гидравлической тяге, а ты сидишь, что есть силы вцепившись с арфу, а у нее от этого еще и настройка страдает. Арфистки полжизни арфы настраивают и полжизни играют на расстроенных. Как я все эти арфы ненавижу!
– Да ну, в самом деле? – переспросил я и снова засмеялся – отчасти потому, что она очень смешно рассказывала, а отчасти потому, что, передразнивая дирижера, она и сама смеялась.
– Играть на них невероятно трудно. И все время они ломаются. На арфу стоит дохнуть, и она расстроена. Пытаться держать свою арфу в совершенном порядке – это такое занудство! Да ее даже сдвинуть с места все равно что сдвинуть с места авианосец.
– Почему же вы тогда на ней играете?
– Да потому, что прав дирижер: я дура набитая. Гобоисты – ребята шустрые. Да и скрипачи тоже себе на уме. Но не арфистки. Арфистки все просто куклы слабоумные. Ну о каком уме может идти речь, если ты выбираешь себе инструмент, который ломает тебе жизнь, а потом правит ею как хочет? Да я бы никогда в жизни, не будь мне тогда семь лет, не будь я тогда слишком глупа, чтобы хоть что-то понимать, – никогда бы я не начала учиться играть на арфе, не говоря уже о том, чтобы играть на ней до сих пор. У меня и воспоминаний-то связных нет о том времени, когда у меня не было арфы.
– А почему вы начали так рано?
– Большинство девочек, которые учатся играть на арфе, делают это потому, что в свое время мамочка подумала: ах, как это будет прелестно. Со стороны это выглядит так красиво, и музыка так чертовски мила, ее играют тихо, в тихих, небольших уютных залах для тихих вежливых людей, которым она нисколько не интересна. А как красиво-то: колонна с золотыми листиками – без темных очков аж глаза слепит. Благороднейший инструмент. И вот он стоит у тебя и все время о себе напоминает. Вдобавок такой огромный, что его никуда не деть. Куда его спрячешь? Его и в угол даже не затолкнуть. Спасу нет – стоит и издевается над тобой. И не сбежишь от него, не скроешься. Все равно как от мамочки.
Тут рядом с Сильфидой вдруг появилась молодая женщина почему-то в пальто и с небольшим черным футляром в руке и принялась извиняться за опоздание, обнаружив в речи явственный британский акцент. С нею были еще двое: полноватый темноволосый молодой человек, элегантно одетый и словно в корсет затянутый от ощущения своего особого высшего статуса: выступая по-военному прямо, он горделиво предъявлял миру свои юношески пухлые щечки и свою даму – девически знойную молодку (как будто бы немного даже перезрелую, чуть-чуть впадающую в полноту), чей бледный лик удачно оттенялся каскадом вьющихся золотисто-рыжих волос. Эва Фрейм бросилась к ним навстречу. Она обняла девушку с черным футляром, которую звали Памела, после чего Памела представила ей блистательную чету; уже помолвленные, молодые люди вскоре должны были сочетаться браком, а звали их Розалинда Халладей и Рамой Ногуэра.
Через несколько минут Сильфида была уже в библиотеке с арфой между колен. Она обняла ее рукой и занялась настройкой; Памела, расставшаяся с пальто, рядом с Сильфидой трогала клапаны своей флейты, а позади них сидела Розалинда, настраивая струнный инструмент, который я поначалу принял за скрипку, но вскоре понял, что это нечто другое, большего размера, и называется альт. Постепенно все в гостиной повернулись ко входу в библиотеку, где в ожидании, когда установится тишина, стояла Эва Фрейм в белом одеянии, которое я потом с наивозможнейшей точностью описал матери, и та сказала, что это было плиссированное шифоновое платье-манто с пелеринкой и изумрудно-зеленым шифоновым пояском. Когда я по памяти описал матери прическу Эвы Фрейм, мать сказала, что она называется «стрижка перьями» – длинные локоны по периметру, а сверху гладкий венчик. Эва Фрейм, благодаря легкому намеку на улыбку особенно красивая (а для меня так и вообще гений красоты), просто стояла и ждала, но уже явно было видно, как вздымается в ней радостное предвкушение. А когда заговорила, когда сказала: «Сейчас… сейчас нас ждет встреча с прекрасным», казалось, от ее элегантной сдержанности вот-вот не останется и следа.
О, это было целое представление, особенно для подростка, которому хочешь не хочешь, а через полчаса предстояло бежать на сто седьмой автобус и прямиком в Ньюарк к родителям, чей присмотр становился совсем уже несносен. Эва Фрейм появилась и через минуту опять исчезла, но тем, как она в этом своем плиссированном шифоновом платье с пелериной величаво сошла из библиотеки в гостиную, она всему вечеру придала новый смысл: вот-вот начнется некое действо, ради которого стоило жить.
Я не хочу, чтобы показалось, будто Эва Фрейм выступала как в какой-то роли. Отнюдь нет: в этом была ее свобода, ее непринужденность и безыскусственность, в этом была Эва Фрейм как она есть в состоянии безмятежного ликования. Если на то пошло, то уж скорее нам она отводила не больше и не меньше как роль нас самих в этой жизни – роль счастливчиков, чьи заветные мечты ее мановением вот-вот сбудутся. Реальность уступила художественному колдовству; будто волной скрытой магии окатило вечер, отмыв его от функциональной прозаической сущности, очистив полупьяное «гламурное» сборище от злых инстинктов и низменных помыслов. Причем иллюзия возникла практически из ничего – всего из нескольких слов, безукоризненно произнесенных со ступеньки, ведущей в библиотеку, как с подмостков, и все абсурдное своекорыстие манхэттенской светской вечеринки растворилось, уступив место романтическому позыву взлететь, воспарить в эстетическом экстазе.
– Сильфида Пеннингтон и молодая лондонская флейтистка Памела Соломон сыграют нам два дуэта для флейты и арфы. Первый – Форе, называется «Колыбельная». Второй – Франца Доплера, его «Фантазия Касильды». А третьим и последним номером программы будет исполнена прелестная вторая часть, интерлюдия, из Сонаты для флейты, альта и арфы Дебюсси. Альтистка – Розалинда Халладей, в Нью-Йорке она с кратким визитом из Лондона. Розалинда – уроженка Корнуолла, Англия, и выпускница Лондонской Гилдхолльской школы музыки и драмы. В Лондоне Розалинда Халладей играет в оркестре Королевского Оперного театра.
Флейтисткой была стройная темноглазая девушка с печальным удлиненным лицом, и чем больше я глядел на нее, чем больше ею пленялся – и чем больше я глядел на Розалинду, чем больше я пленялся уже ею, тем с большей беспощадностью бросалось в глаза отсутствие в моей приятельнице Сильфиде чего бы то ни было, что могло пробудить в мужчине желание. С этим ее квадратным торсом, толстыми ногами, да еще и неким странным избытком плоти в верхней части спины – ну точно как у бизона! – на мой взгляд, Сильфида, играя на арфе (несмотря даже на классическую элегантность рук, перебирающих струны), словно бы с нею боролась, выглядела как борец – я бы даже сказал, как японский борец сумо. И поскольку я сам этой мысли стыдился, чем дольше длилось исполнение, тем больше она во мне утверждалась.
В музыке я был, что называется, ни ухом ни рылом. Подобно Айре, я был глух ко всему, кроме самых расхожих мелодий – в моем случае тех, что передавали по утрам в субботу в программе «Танцуем вместе» и в субботу же по вечерам под рубрикой «Ваш хит-парад», – но я видел, как серьезно подпадала Сильфида под власть той музыки, которую она выпутывала из частокола струн, видел, с какой страстью она играла – одни ее глаза, полные сгущенного огня, чего стоили! – к тому же эта страсть была свободна от обычного для нее язвительного отрицания, и это пробуждало мысль о том, какою властью она могла бы обладать, если бы к музыкальному дарованию ей еще и лицо столь же нежное и манящее, как у ее изящной мамаши.
Лишь много десятилетий спустя, после визита Марри Рингольда, я понял, что только так и могла Сильфида в этом своем обличье чувствовать себя человеком: ненавидя мать и играя на арфе. Ненавидя раздражающую слабость своей матери и извлекая из арфы чарующие, неземные звуки, ибо Форе, Доплер и Дебюсси были тем единственным каналом, через который мир позволял ей осуществлять с ним любовный контакт.
Покосившись на Эву Фрейм, сидевшую в первом ряду слушателей, я увидел, что она смотрит на Сильфиду взглядом таким искательным, будто это Сильфида породила Эву Фрейм, а не наоборот.
Затем все, что приостановилось, закрутилось снова. Аплодисменты, крики «Браво!», поклоны; Сильфида с Памелой и Розалиндой сошли с подмостков, в которые на время была превращена библиотека, и каждая по очереди сразу попадала в объятия Эвы Фрейм. Я был довольно близко и слышал, как она говорила Памеле: «Моя голубушка, знаешь, на кого ты была похожа? На древнееврейскую принцессу!» А Розалинде: «Ах, как ты была прелестна, как прелестна!» И наконец, дочери: «Сильфида, Сильфида! – говорила она. – Сильфида Джульетта, ты никогда, никогда не играла прекраснее! Чудо мое! А Доплер – это было нечто особенное».
– Доплер, мамочка, – это салонная дребедень, – ответствовала Сильфида.
– Ах, я люблю тебя! – вскричала на это Эва. – Твоя мамочка так тебя любит!
К троице музыкальных дев начали подходить с поздравлениями и другие, и не успел я оглянуться, как Сильфида, обняв за талию, добродушно представила меня Памеле, Розалинде и Розалиндиному жениху.
– Это Натан из Ньюарка, – сказала Сильфида. – Натан – политический протеже Чудовища.
Поскольку она сказала это с улыбкой, я тоже улыбнулся, стараясь уверить себя, что это не обидное прозвище, а просто семейная шутка по поводу габаритов Айры.
Я обежал глазами комнату в поисках Айры и обнаружил, что его поблизости нет, однако, вместо того чтобы извиниться и пойти искать его, я позволил себе остаться, поддавшись борцовскому захвату Сильфиды и обволакивающей любезности ее друзей. Я никогда прежде не видел, чтобы такой молодой парень, как Рамон Ногуэра, так шикарно одевался и был бы так вальяжен и учтив. Что касается смуглой Памелы и бледноликой Розалинды, то они так ослепили меня своей красотой, что открыто коснуться каждой из них взглядом я осмеливался всякий раз не более чем на долю секунды, хотя в то же время не мог и отказаться от того, чтобы с деланной непринужденностью стоять всего в каких-то считанных сантиметрах от их цветущих тел.
Свадьба Розалинды и Рамона должна была состояться через три недели в имении семейства Ногуэра неподалеку от Гаваны. Ногуэра были табачными плантаторами – дед Рамона оставил его отцу тысячи акров угодий в провинции под названием Партидо; все эти земли должен был унаследовать в свою очередь Рамон, а со временем и дети Рамона и Розалинды. Рамон по большей части внушительно помалкивал, видимо, чувствуя значительность своей судьбы и решив должной серьезностью облика и повадки соответствовать тяготам сана, в который возвели его курильщики сигар всего мира, тогда как Розалинда – это надо же, пару лет назад она была всего лишь бедной лондонской студенткой, приехавшей из дальнего уголка сельской Англии, а теперь конец всех ее страхов столь же близок, сколь близко начало свадебных трат, – о, Розалинда становилась все более веселой и оживленной. И говорливой. Рассказала нам о дедушке Рамона – самом знаменитом и почитаемом из всех Ногуэра: мало того что крупный землевладелец, так он еще и губернатором провинции был, причем лет тридцать, пока не вошел в правительство президента Мендиаты (в котором военным министром, как я вдруг припомнил, был мерзавец Фульхенсио Батиста); рассказала о красоте табачных плантаций, где, прикрытый тканью, произрастает табачный лист, из которого сворачивают кубинские сигары; затем рассказала нам о том, какую грандиозную, в испанском стиле, свадьбу готовит им семейство Ногуэра. Памела, подруга детства, за счет семьи Ногуэра прилетит из Нью-Йорка в Гавану, и ее разместят в гостевом домике на территории поместья; кстати, Сильфиду, если у нее найдется время, спохватилась распираемая бьющим через край восторгом Розалинда, там тоже ждут – а что? – пусть едет вместе с Памелой!
О громадном богатстве семьи Ногуэра Розалинда говорила с горячностью и простодушием, радуясь ему и гордясь тем, что она теперь тоже к нему причастна (это ли не достижение?), а я все думал: как насчет кубинских крестьян, которые там выращивают табак, – кто им купит билет на самолет Нью-Йорк – Гавана и обратно, когда в их семье будет свадьба? В каких «гостевых домиках» размещают их на прекрасных табачных плантациях? Что скажете о болезнях, недоедании и невежестве среди ваших табачных рабочих, а, мисс Халладей? Вместо того чтобы бесстыдно сорить деньгами на вашей испанской свадьбе, почему не начнете как-то возмещать народным массам убытки от того, что семья вашего жениха беззаконно владеет землей Кубы?
Но я был столь же молчалив, как и Рамон Ногуэра, хотя внутренне, видимо, далеко не так собран и бесстрастен, – он с таким начальственным видом смотрел прямо перед собой, будто инспектировал войска. Все, что говорила Розалинда, претило мне, но в обществе, при всех сказать ей об этом – нет, это было бы неприличием невозможным. Точно так же не мог я найти в себе довольно силы, чтобы высказать в лицо Рамону Ногуэре, как выглядят такого рода богатства и источники их происхождения с точки зрения Прогрессивной партии США. Но и отойти от Розалинды, добровольно отдалиться от ее английских прелестей я тоже был не способен – ну как же так, такая красивая молодая дама, к тому же такая музыкально одаренная, и не понимает, что ради сомнительных соблазнов, которыми подкупает ее Рамон, она предает свои идеалы – ну, пусть не свои, но мои-то точно, – входя в семью кубинских олигархов, помещиков и угнетателей, она не только пагубно компрометирует достоинство артиста, но, на мой взгляд, унижает себя, соединяясь с человеком, куда менее достойным ее таланта (и ее золотисто-рыжих кудрей, и ее ослепительной, для поцелуев созданной кожи), чем – ну хотя бы я.
Как оказалось, у Рамона был заказан в «Сторк-клабе» столик для Памелы, Розалинды и себя; пригласив туда Сильфиду, он повернулся, чтобы заодно, широким жестом, с тем беззаботным апломбом, который у богатых служит заменой внимания к людям, пригласить и меня.
– Пожалуйста, сэр, – сказал он, – я буду рад, если вы также будете моим гостем.
– Ах нет, я не могу, – начал я, но затем, ничего не объяснив (о, я знал, что следовало сказать ему, что я должен, обязан был ему сказать… что сказал бы ему Айра: «Нет, потому что я не одобряю вас и вам подобных!»), я добавил лишь: – Спасибо. Я, тем не менее, весьма вам признателен. – После чего повернулся и, будто от чумы, кинулся прочь, отринув соблазн, которым пытался завлечь меня первый в моей жизни настоящий плутократ, а ведь мог бы над приглашением подумать и сообразить, что начинающему писателю неплохо было бы обогатиться впечатлениями от знаменитого «Сторк-клаба» Шермана Биллингсли, да еще и своими глазами увидеть столик, за которым сиживал сам Уолтер Уинчелл!
В одиночестве я поднялся на второй этаж в гостевую спальню, где с трудом отыскал свое пальто под грудой других, набросанных на сдвоенные кровати, и там же столкнулся с Артуром Соколоу, который, по словам Айры, будто бы читал мою пьесу. Заговорить с ним в кабинете Айры, после того как Айра зачитал из нее краткие выдержки, мне не хватило смелости, он же, занятый перелистыванием книги о Линкольне, похоже, не испытывал большого желания говорить со мной. Несколько раз за вечер я, впрочем, слышал его голос. Какому-то соседу по гостиной он напористо втолковывал: «Этим они довели меня до белого каления, я в ярости сел и за одну ночь все написал от начала и до конца». В другой раз я услышал: «Возможности открывались неограниченные. Была такая атмосфера свободы, желание раздвинуть рамки»; а потом он усмехнулся и говорит: «Меня решили как таран использовать против самой успешной программы на всем нашем радио…» Помню, слушая его, я чувствовал себя так, словно присутствую при откровениях пророка.
Ярчайшая картина того, какой мне бы хотелось видеть свою жизнь, явилась, когда, нарочно болтаясь от него поблизости, я услыхал, как Соколоу рассказывает каким-то двум женщинам о пьесе, которую он собирался написать для Айры, – это должен был быть спектакль одного актера, и пьесу следовало основывать, не на речах, а на всей жизни Авраама Линкольна от рождения и до смерти.
– Первая инаугурационная, Геттисбергская речь, Вторая инаугурационная – это не драматургия. Это риторика. Я хочу, чтобы Айра рассказал повесть, историю. Рассказал о том, как это чертовски было трудно: никакого образования, глупый отец, жуткая мачеха, партнеры-адвокаты, выступление против Дугласа, поражение, истеричка-жена, трагическая потеря сына, проклятия со всех сторон, ежедневные политические наскоки с того самого момента, как он вступил в должность. Жестокости войны, некомпетентность генералов, Декларация об отмене рабства, победа, спасение Соединенных Штатов и освобождение негров, а затем убийство, которое навсегда изменило эту страну. Актеру тут будет где разгуляться. На три часа. Без всяких антрактов. Чтобы никто потом встать не мог, так и сидели бы с открытыми ртами. Скорбели бы по Америке, какой она могла стать, по тому союзу черных и белых, каким она была бы, если бы он пробыл в должности до конца второго срока и руководил восстановлением хозяйства. Я много думал об этом человеке. Которого убил актер. Конечно, кто же еще? – Он усмехнулся. – Кто еще мог быть столь глуп и тщеславен, чтобы убить Авраама Линкольна? А интересно, сможет Айра продержаться один в эфире три часа? Просто витийствовать – о, это он смог бы точно. Тут кое-что другое, но мы бы вместе поработали над этим, и он бы понял: мятущийся лидер, мощный ум, стратег и интеллектуал, личность, подверженная взлетам энтузиазма и падениям в тяжелую подавленность, а главное, – тут Соколоу снова усмехнулся, – еще не осознавшая тот факт, что он – это тот самый «Линкольн» из Линкольновского мемориала.
Теперь Соколоу тихо улыбался и голосом, поразившим меня мягкостью, вдруг сказал:
– А, юный мистер Цукерман! Я смотрю, сегодня ваш вечер.
Я кивнул, но вновь язык прилип у меня к гортани, и я не сумел спросить, нет ли у него для меня какого-нибудь совета и не может ли он что-нибудь сказать по поводу моей пьесы. Неплохо развитое (для пятнадцатилетнего) чувство реальности подсказывало мне, что Артур Соколоу моей пьесы не читал.
Покинув гостевую спальню с пальто в руках, я увидел Катрину ван Тассель-Грант – выйдя из уборной, она двигалась мне навстречу. Для своих лет я был довольно рослым, но на высоких каблуках она возвышалась надо мной, как башня, – впрочем, возможно, я просто был подавлен ее самомнением, чувствовал, что самое себя она считает столь недостижимо великой, что я все равно был бы пигмеем, будь я длиннее даже на добрый фут. Все вышло так спонтанно, что я не успел даже задуматься: как эта особа, которую мне положено было не любить (причем не любить с полным на то основанием), вблизи оказалась столь импозантна. Дрянная писательница, сторонница Франко и враг СССР, но где же, куда подевалась моя антипатия? Когда я услышал, как мой голос произнес: «Миссис Грант! Вы не дадите мне автограф? – для моей мамы…», я даже удивился: что это вдруг со мной такое, я бодрствую или сплю? Я повел себя еще хуже, чем с кубинским табачным магнатом.








