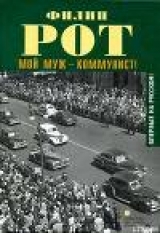
Текст книги "Мой муж – коммунист!"
Автор книги: Филип Рот
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 25 страниц)
«Баттс, – подумал я, – Баттс. Гарвич. Солак. Бекер».
На его лице было написано крайнее бешенство. Животная ярость. Злость, которая наряду со страхом действует на уровне инстинктов. Всё, кем он был, читалось на его лице; и кем он не был – тоже. С таким лицом, подумал я, и на свободе! Везет человеку. Довольно странная, надо сказать, даже пугающая мысль для мальчишки, в течение двух лет поклонявшегося своему герою, который служил для него воплощением добродетели; тогда я ее отбросил, едва лишь вышел из состояния крайнего волнения, но потом, через сорок восемь лет, Марри Рингольд дал ей очень весомое подтверждение.
Эва расставалась с прошлым, подражая Пеннингтону; для Айры выход был в грубой силе.
Когда мы с Реем возвратились, оба Эллиных близнеца лежали на покрывале в маминых объятиях – они сбежали с берега пруда в самом начале спора.
– Знаешь, повседневная жизнь может оказаться суровее, чем ты себе представляешь, – сказала мне Элла.
– А что, она всегда такая?
– Везде и всегда, сколько себя помню, – сказала она. – Ну, давай. Продолжай, что ты там говорил про Говарда Фаста.
Я старался как мог, но меня не покидала неприятная мысль, что, если бы не присутствие рабоче-крестьянской жены Артура Соколоу, бойцы сошлись бы врукопашную.
Когда я закончил, Элла расхохоталась. Через смех проявлялась ее естественность, а также то, как много всякого пришлось ей в жизни вытерпеть. Она смеялась как другие краснеют: внезапно и неудержимо.
– Ух ты! – наконец сказала она. – Я теперь не уверена даже, ту ли книгу читала. Я книгу «Мои прославленные братья» понимаю просто. Может, я, конечно, недостаточно глубоко вдумывалась, но в моем представлении это просто рассказ о кучке грубых, сильных и правильных парней, которые верили в человеческое достоинство и с готовностью за это умирали.
К этому времени Арти и Айра угомонились настолько, что смогли подняться от пруда к покрывалу. Подойдя, Айра сказал (явно специально, чтобы все, включая и его самого, наконец расслабились и вновь воцарилось былое спокойствие):
– Надо и мне прочитать ее. «Мои прославленные братья». Гм. Надо будет приобрести.
– Ну, Айра, тогда ты вовсе шею не согнешь, хребет будет – сталь, – сказала ему Элла, а затем, широко улыбнувшись, добавила: – Но это я не к тому, что тебе там стали не хватает.
На что Соколоу, вскинувшись, весь к ней подался и заорал:
– Что? А кому не хватает? Нет, ты скажи, кому не хватает?.
В результате их близнецы ударились в слезы, и бедный Рей вслед за ними. А тут и Элла в первый раз за все это время рассердилась и, впав в бешенство, прикрикнула на него:
– Господи боже ты мой, Артур! Да держи же ты себя в руках!
В чем была подоплека этих яростных вспышек, полнее я понял тем же вечером, когда, оказавшись со мной наедине в хижине, Айра вдруг со злостью заговорил о списках:
– Списки, списки! Имена, прегрешения, обвинения. И у всех, главное, свои. У «Красных щупальцев». У Джо Маккарти. У Комиссии по антиамериканской деятельности. У «Ветеранов войн за границей». У Американского легиона. У католических журналов. У херстовских газет. Списки с этими мистическими номерами: сто сорок первый, двести пятый, шестьдесят второй, сто одиннадцатый. По всей Америке все, кто хоть чем-нибудь когда-либо был недоволен, что-нибудь критиковал или протестовал против чего-то – или был связан с кем-нибудь, кто критиковал или протестовал, – все они коммунисты, или в смычке с коммунистами, или «пособничают» коммунистам, или «внедряются» в рабочее движение, или в правительство, или в систему образования, или в Голливуд, или в театр, или на радио, или на телевидение. Списки «пятой колонны» составляются на скорую руку в каждом ведомстве и каждом учреждении Вашингтона. Все силы реакции заняты тем, что обмениваются именами, путают имена, связывают одно имя с другим с целью доказать существование гигантского заговора, которого нет в природе.
– А с вами как? – спросил я. – Как со «Свободными и смелыми»?
– У нас на шоу появляется много прогрессивно мыслящих людей, это без сомнения. И общественности их теперь будут представлять марионетками, которые «всячески ухищряются вдалбливать в умы точку зрения Москвы». Ты еще об этом не раз услышишь… да и похуже чего услышишь. «Марионетки Москвы».
– Это только актеров касается?
– И режиссера. И композитора. И автора. Всех и каждого.
– Беспокоитесь?
– Да я-то, дружок ты мой, могу опять пойти на фабрику грампластинок. Если произойдет худшее, я всегда могу переехать сюда и смазывать автомобили в мастерской Стива. Когда-то я этим занимался. Да ведь можно и повоевать с ними, ты ж понимаешь. Можно дать бой мерзавцам. Где-то я краем уха слышал, будто в этой стране есть конституция, какой-то «Билль о правах». Если только глядеть во все глаза на витрину капитализма, если только слюнки пускать, хватать и хапать, приобретать, владеть и накапливать, то это будет конец твоим убеждениям и начало страха. Но нет ничего такого, что я имел бы и не мог с этим расстаться. Врубаешься? Ничего! То, что я, выйдя из жалкого засранного домишки моего бедняги отца на Фабричной заставе, стал знаменитым Железным Рином, то, что Айра Рингольд с его полутора классами образования общается теперь с людьми, с которыми и помыслить не мог общаться, и имеет весь джентльменский набор буржуазного комфорта, да и сам стал заправским буржуа, – это настолько невероятно, что, потеряй я все в одну ночь, даже бы не удивился. Врубаешься? Нет, ты врубаешься? Я могу поехать опять в Чикаго. Могу работать на шахте. И, если придется, буду. Но прежде я поборюсь за свои права! Прежде чем что-нибудь отдать этим гадам, я дам им бой!
Сидя в поезде, идущем в Ньюарк (Айра остался в машине у вокзала ждать приезда миссис Пярн, которая в день моего отъезда должна была примчаться аж из Нью-Йорка, чтобы поработать над его коленями, которые ужасно разболелись после вчерашней нашей игры в футбол), я начал даже недоумевать, как Эва Фрейм может его день за днем выдерживать. Быть женой Айры с вечным его праведным гневом, должно быть, не так уж сладко. Я вспомнил, как он произнес практически ту же самую речь о магазинной витрине капитализма, жалком домишке отца и полутора классах образования ровно год назад, на закате, в кухне у Эрвина Гольдштейна.
Вспомнил я и другие варианты той же речи, которые Айра озвучивал раз десять или пятнадцать. Как Эва выносила хотя бы только одно это навязчивое повторение, избыточность риторики и при этом агрессию – по сути дела, безжалостное битье по голове тупым орудием, – конечно, чем же еще были его демагогические, ходульные речи?
В поезде по дороге в Ньюарк, вспоминая, как Айра изрыгал свои однообразные апокалиптические пророчества – «Соединенные Штаты Америки вот-вот развяжут атомную войну против Советского Союза! Вот попомни мое слово! Соединенные Штаты Америки прямой дорогой идут к фашизму!», – я не обладал еще достаточным знанием, чтобы разобраться в том, почему вдруг мне стало с ним так скучно, почему, несмотря на то что я ощущал это в себе как предательство, особенно теперь, когда он и люди вроде Арти Соколоу под угрозой, когда их притесняют и шантажируют, почему я стал ощущать себя настолько умнее его. Почему я готов и даже жажду отпасть от него с его гнетущей, раздражающей навязчивостью, готов искать вдохновения как можно дальше от хижины на Пикакс-Хилл-роуд.
Когда становишься сиротой так рано, как это случилось с Айрой, попадаешь в ситуацию, в общем-то, обычную, но гораздо, гораздо раньше, и в этом подвох, потому что ты либо остаешься вовсе необразованным, либо с восторгом принимаешь самые странные вероучения, оказываешься чересчур внушаемым. Юность Айры изобиловала разрывами и расставаниями: жестокость в семье, неудача в школе, внезапное погружение в Депрессию… Уже одно то, как рано он осиротел, конечно же, захватывало воображение мальчика вроде меня, мальчика, который едва выскочил из эмоционального инкубатора; это раннее сиротство освободило Айру, открыло ему доступ ко всему, что только душеньке угодно, но также и оставило его без корней, без всякой постоянной привязки, так что он с места в карьер мог отдаться любой своей прихоти, любой идее, причем отдаться всецело, что называется, со всеми потрохами. Да можно тысячу причин напридумывать, по которым Айра легко мог поддаться утопическим грезам. Для меня же, мальчика прочно укорененного, все было по-другому. Когда ты не осиротел в раннем возрасте, а тесно связан с родителями в течение тринадцати, четырнадцати, пятнадцати лет, когда ты отращиваешь дрын, теряешь невинность, пытаешься утвердить свою независимость и, если у тебя в семье нормальные отношения, в конце концов получаешь ее, ты делаешься к этому моменту готовым стать мужчиной, то есть создавать новые союзы и устанавливать новые связи, искать наставников в твоей новой, взрослой жизни, причем эти новые, тобою самим избранные как бы родители не требуют от тебя безусловной любви, и ты либо любишь их, либо нет – как бог на душу положит.
Как их выбирают? Посредством совпадений и случайностей, но тут не обойтись и без большого упорства. Как ты на них выходишь и как они выходят на тебя? Кто они? Что собой представляет эта внегенетическая генеалогия? В моем случае это были люди, которым я старался подражать, – от Тома Пейна и Фаста с Корвином до Марри, Айры и иже с ними, люди, обучавшие меня, люди из моего окружения. Все, каждый на свой лад, являли собой для меня образец, были личностями, с которыми приходилось считаться и даже бороться в какой-то мере, менторами, либо воплощавшими собой, либо так или иначе отстаивавшими великие идеи, людьми, которые первыми научили меня ориентироваться в мире, справляться с его требованиями, – они и были моими как бы приемными родителями; и от каждого из них, вместе со всем их наследием, я в соответствующий момент должен был отречься, так что все они исчезли, оставив после себя сиротство уже окончательное, каковым и является взрослость. Когда ты вдруг оказываешься посреди непонятно чего один-одинешенек.
Лео Глюксман тоже прошел службу в армии (правда, после войны), был молод – всего лет двадцати пяти, – розовощек, чуть полноват и выглядел не старше своих подопечных перво– и второкурсников. Хотя Лео еще только готовился к защите диссертации на соискание ученой степени по литературе, к нам на семинары он каждый раз приходил облаченным в черный костюм-тройку с малиновым галстуком-бабочкой, то есть одевался куда строже других преподавателей даже старшего поколения. В холодную погоду можно было наблюдать, как он пересекает квадрат двора, окутанный черным шпионским плащом, который даже в городке Чикагского университета – где вообще-то в те дни необычайно толерантно относились ко всякого рода эксцентрическим вывертам, понимая их как признак оригинальности ума, – вызывал смешки у студентов, на чьи бодрые (и насмешливые) приветствия («Здрасьте, профессор!») Лео откликался лишь резким ударом об асфальт металлического наконечника щегольской трости, довершавшего его наряд. Торопливо перелистав однажды вечером пьесу «Помощник Торквемады» (которой я очень надеялся сразить его наповал, для чего и принес ее вместе с положенным по программе рефератом Аристотелевой «Поэтики»), он, к вящему моему испугу, с отвращением швырнул рукопись на стол.
И сразу разразился речью – быстрой, жесткой, бескомпромиссной; в нем ни следа не осталось от претенциозно одетого вундеркинда, толстенького мальчика, в этом еще своем галстуке-бабочке, откинувшегося в кресле, где он сидел, подложив под себя подушечку. Его пухлая внешность и то, что было под ней, как-то совершенно не сочетались, предполагали наличие в нем двух разных людей. Одежда приличествовала третьему. А острота полемики – четвертому: какой там вычурный маньерист! Настоящий, сформировавшийся критик обнажал передо мной опасность влияния, которому я подвергался под крылом у Айры, и учил быть свободнее в литературных опытах. То есть как раз тому, к чему я был готов, только носом ткни. Под водительством Лео я начал чувствовать себя наследником не только мамы с папой, но всего прошлого, всей человеческой культуры, культуры более могучей и всеобъемлющей, нежели обычаи нашего квартала.
– Перо приравнять к штыку? – вопрошал он, произнося слово «штык» так, что вложенное в него презрение втыкалось в меня тоже на манер штыка. – Искусство призвано бороться за правое дело? Да кто сказал вам, что искусство – это лозунги? Кто вам сказал, что искусство должно служить народу? Искусство должно служить искусству – иначе не будет никакого заслуживающего внимания искусства вообще. Что побуждает создавать серьезную литературу, а, мистер Цукерман? Стремление ослабить противников контроля за ценами? Побуждением создавать серьезную литературу является желание создавать серьезную литературу. Хотите бунтовать против общественных устоев? Я скажу вам, как это делать – надо писать хорошо. Хотите встать на сторону слабого? Тогда не надо драться за рабочее дело. Рабочие прекрасно сами обойдутся. Скоро они начнут за милую душу колесить на собственных «плимутах». Рабочие все тут завоюют и в тупости своей неизбывной зальют помоями то, что останется от культуры этой филистерской страны. Скоро у нас тут будет кое-что похуже, чем правительство рабочих и крестьян, – у нас будет культура рабочих и крестьян. Хотите бороться на стороне слабого? Тогда боритесь за слово. Не за возвышенный слог, не за чистоту словаря, не за слово в защиту того и против этого, не за то слово, которым автор клянется почтеннейшей публике, что он чудесный, прекрасный, тонкий и добрейший человек, стоящий на стороне униженных и угнетенных. Нет, боритесь за слово, которое скажет тем немногим грамотным, кому выпало несчастье жить в Америке, что вы на стороне слова! Эта ваша пьеса – дерьмо. Она ужасна. От нее просто жуть берет. Жестокая, примитивная, безмозглая пропагандистская дрянь. Здесь слово вообще загажено донельзя. От вашей пьесы непогрешимостью автора воняет до небес. Ничто так пагубно не сказывается на искусстве, как желание художника показать, какой он хороший. Страсть к морализаторству подавить в себе очень трудно! Надо подчинить себе свой морализм и свою добродетель, так же как и свою порочность, эстетически овладеть всем, что используешь как первичный повод к писанию, – овладеть своим гневом, своими убеждениями, своим горем, своей любовью! Начнете поучать, проповедовать, принимать позы, начнете смотреть на себя как на высшую сущность – и все, как художник вы ноль, сразу становитесь смешным и ничтожным. Зачем вы пишете эти прокламации? Потому что поглядели по сторонам, и вас «потрясло»? Потому что огляделись, и вас что-то «тронуло»? Это легко – махнуть рукой, вместо истинного чувства описать фальшивое. Когда надо определить чувство, первым делом подворачивается «потрясен», «тронут» – это запросто. Но этот выход самый глупый. За редчайшими исключениями, мистер Цукерман, потрясение всегда фальшиво. Это все прокламации. А искусство не нуждается в прокламациях! Уберите, пожалуйста, это ваше любезнейшее говно с моего стола.
О моем реферате по Аристотелю Лео был лучшего мнения (а в результате, видимо, и обо мне), потому что на следующем семинаре он огорошил меня – причем не менее, чем пылким поношением моей пьесы, – тем, что потребовал моего присутствия в Концертном зале, чтобы я непременно послушал, как Чикагский симфонический оркестр под управлением Рафаэля Кубелика вечером в пятницу будет играть Бетховена.
– Вы слышали Рафаэля Кубелика?
– Нет.
– А Бетховена?
– О Бетховене слышал, да, – сказал я.
– Вы Бетховена слышали?
– Нет.
С Лео я встретился на Мичиган-авеню у входа в Концертный зал за полчаса до концерта; он был в плаще, который пошил себе к дембелю в Риме в сорок восьмом году, а я в драповом пальто с капюшоном – его купили мне в Ньюарке перед моим отъездом в колледж на студеный Средний Запад. Когда сели, Лео достал из портфеля партитуры симфоний, которые мы собирались слушать, и весь концерт глядел не на оркестр, не на сцену, куда в моем представлении полагалось смотреть, временами прикрывая глаза, когда тебя музыка заставляет позабыть обо всем, а больше на свои колени, где лежала раскрытая партитура – он ее с видимым усилием читал, пока музыканты исполняли сначала увертюру «Кориолан», потом Четвертую симфонию, а после антракта – Пятую. Я же, за исключением первых четырех нот Пятой, не способен был отличить одно произведение от другого.
После концерта мы сели на поезд и поехали к нему в Саутсайд – он жил там в одной из комнат Интернэшнл-хауз, готического здания на Мидуэй-авеню, где было общежитие, в котором обитали почти все иностранные студенты университета. Лео Глюксману, сыну бакалейщика из Вест-сайда, почему-то легче было переносить их присутствие в общем коридоре – с запахами экзотической пищи и тому подобным, – нежели соседствовать с такими же, как он, американцами. Комнатка, в которой он жил, была даже меньше, чем выгородка, служившая ему в колледже кабинетом; он заварил чай, вскипятив воду на электроплитке, втиснутой между пачками всяческой печатной продукции – ими был тесно уставлен пол вдоль стен. Лео сел у заваленного книгами письменного стола, его округлые щечки подсветились настольной лампой на гибкой ноге, а я устроился в темном углу, тоже забитом кипами бумаг, сев на край неубранной узкой кровати, стоявшей от стола всего в каком-нибудь полуметре.
Я чувствовал себя, как девушка, или как должна была бы в моем представлении себя чувствовать девушка, оказавшаяся наедине с пугающим ее парнем, которого явно влекут ее груди. Заметив, как я оробел, Лео фыркнул и с той же усмешкой отвращения, с которой он в прах развеял мои надежды на карьеру в области радио, сказал:
– Что вы так жметесь? Я не кусаюсь. Просто я видеть не могу, когда человек делает из себя какое-то затрепанное общее место.
И туг же принялся знакомить меня с основами учения Серена Кьеркегора. Заставил меня слушать, как он зачитывает из Кьеркегора (чье имя значило для меня не больше имени Рафаэля Кубелика) прозрения, до которых тот дошел в сонном Копенгагене еще сто лет назад, – в основном насчет «народа», который Кьеркегор называл «публикой», что, по мнению Лео, как раз таки правильно, потому что это абстракция – это «чудовищная абстракция», это «всеобъемлющее нечто, которое в действительности есть ничто», это «чудовищное ничто», как пишет Кьеркегор, это «абстрактная пустая бездна, которая есть все и ничего», а именно ее столь приторно и сентиментально я превозносил в своем сценарии. Кьеркегор ненавидел публику, и Лео ненавидел публику, и целью вечера в темной общежитской комнатке, как в тот раз, так и потом (он еще много раз по пятницам брал меня с собою на концерты), было спасти мою прозу от неминуемой погибели, заставив меня тоже ненавидеть публику.
«Каждый, кто сведущ в античной литературе, – вслух зачитывал Лео, – знает, как много у Цезаря было способов убивать время. Точно так же публика держит для развлечения собаку. Этой собакой служит какой-нибудь литературный подонок. Если вдруг где-то появляется некто выдающийся, быть может, даже великий, эту собаку на него спускают, и начинается потеха. Собака на него набрасывается, кусает и дергает за фалды, позволяя себе всевозможные проявления грубой фамильярности, пока публика не устанет и не отзовет ее. Это мой пример всеуравнительного влияния публики. Кто выше ее, кто ее превосходит, подвергается гонениям, тогда как собака остается собакой, которую даже и сама публика презирает… У публики при этом не возникает никаких угрызений совести – у нее ведь не было намерения кого-либо унизить; это был просто способ поразвлечься».
Этот пассаж, значивший для Лео гораздо больше, нежели он мог в то время значить для меня, был, тем не менее, приглашением: Лео Глюксман приглашал меня присоединиться к нему и стать «личностью, превосходящей остальные», быть, как датский философ Кьеркегор – и как сам Лео Глюксман, ибо вскоре он показал, что именно таким и видит себя, а именно «великим человеком». И я с готовностью стал его верным учеником и последователем, а через его посредство верным учеником и последователем Кьеркегора, верным учеником и последователем Бенедетто Кроче, верным учеником и последователем Томаса Манна, верным учеником и последователем Андре Жида, верным учеником и последователем Джозефа Конрада, верным учеником и последователем Федора Достоевского… покуда вскоре моя привязанность к Айре – как и к матери, к отцу, к брату, даже к месту, где я родился и вырос, – не была, как я считал, уничтожена напрочь. Когда некто получает первую порцию образования и его голова превращается в батарею, заряженную книгами, когда он молод и бесстыж и прыгает от радости, обнаруживая, сколько знания скоплено на этой планете, он склонен преувеличивать важность этой новой вихрящейся реальности и в то же время отбрасывать, как ничтожное, все остальное. Поощряемый и подстрекаемый бескомпромиссным Лео Глюксманом – его желчной маниакальностью в той же мере, что и его постоянно воспаленным умом, – я именно это и проделывал, причем изо всех сил.
Каждую пятницу поздним вечером комната Лео наполнялась дурманом волшебства. Всю страсть, которая была в Лео, кроме сексуальной (сексуальную ему приходилось подавлять, но в скрытом виде она еще как присутствовала!), он вкладывал в то, чтобы выкорчевать любую идею, посеянную во мне предыдущей жизнью, особенно идею благородной действенности искусства. Пятничными вечерами Лео набрасывался на меня с таким пылом, словно я был последним студентом на планете. У меня начало возникать впечатление, что все на свете задались целью попробовать силы на мне. Воспитать Натана, развить его, обучить. Натан становится пробным камнем для каждого, кому осмелится сказать «здрасьте».
Подчас, оглядываясь на прошлое, я вижу свою жизнь как одну непрерывную речь, которую я все время слушал. Риторика иногда оригинальна, иногда приятна, иногда полнейший ходульный вздор (это речь инкогнито), иногда за ней проглядывают черты, искаженные безумием, иногда она звучит как бы между прочим, а иногда царапает как острие иголки, и слышу я ее сколько себя помню: как думать, как не думать; как вести себя надо, как не надо; кого ненавидеть, как восхищаться; к чему прильнуть и когда отшатнуться; что прекрасно, а что убийственно, что похвально, что мелко, что зловеще, что есть дерьмо и как сохранить чистоту души. Найти повод поговорить со мной, похоже, ни для кого не составляло ни малейшего труда. Возможно, это следствие того, что я годами слонялся с таким видом, будто только и выискиваю, кто бы со мной поговорил. Но какова бы ни была этому причина, книга моей жизни – это книга голосов. Когда я спрашиваю себя, как я оказался там, где оказался, ответ звучит удивительный: «Слушая».
Что же это за невидимая драма получается? Неужто все остальное было маскарадом, скрывающим истинную сущность той никому не нужной ерунды, к которой я столь упорно стремился? Слушая всех и каждого. Вникая в то, что мне говорят. Это какой-то совершенно дикий феномен. Словно все обретали жизненный опыт не для того, чтобы сделать его своим, а для того, чтобы, постигнув нечто, об этом поговорить со мной. Зачем? Зачем им надо, чтобы я слушал их арии? Где это было решено – что я нужен именно для этого? Или я с самого начала и по судьбе, и по собственному желанию оказался просто ухом, ищущим слово?
– Политика зиждется на обобщениях, – внушал мне Лео, – а литература – на частностях, и они не просто противоположны друг другу, нет, они антагонистичны! С точки зрения политики литература – это сплошная мягкотелость, упадничество, скука, тупость, она состоит из одних заблуждений и вовсе лишена смысла, в котором и не нуждается. К чему? Ведь сам позыв сосредоточиться на частностях – это и есть литература. Как можно быть художником, отрекаясь от нюансов? С другой стороны, как можно быть политиком и признавать нюансы? Для художника нюансировка является непосредственной задачей. Твоя задача в том, чтобы не упрощать. Даже если ты решил писать предельно просто, а-ля Хемингуэй, задача нюансировки остается, ты по-прежнему должен разъяснять сложности, намекать на противоречия. Не стирать противоречия, не отрицать их существование, но видеть, где, во всей своей противоречивости, скрывается страдающее человеческое существо. Предусмотреть хаос, впустить его. В противном случае у тебя получится пропаганда, причем если не пропаганда какой-то политической партии или движения, то глупая пропаганда жизни как таковой – в том виде, в каком она сама предпочла бы предстать перед публикой. В течение первых пяти-шести лет русской революции революционеры кричали: «Свободная любовь! Будет свободная любовь!» Но как только закрепились у власти, они уже не могли ее позволить. Ибо что есть свободная любовь? Хаос. А им не нужен был хаос. Не для того они совершили свою славную революцию. Им нужно было нечто дисциплинированное, организованное, управляемое и, поелику возможно, предсказуемое научно. А свободная любовь расшатывает организацию, портит социальную, политическую и культурную машину. Искусство тоже расшатывает организацию. Литература, в частности. Не в том смысле, что вульгарно ратует за или против или даже подспудно на что-то там намекает. Она расшатывает организацию, потому что не обобщает. Внутренняя природа частного в том, что оно не всеобще, а еще его природа в том, что оно не лезет в рамки. Обобщи страдание – получишь лозунги коммунистов. Сделай страдание специфичным – получишь литературу. В этой поляризации – антагонизм. А вот попробуй сохранить частное в этом упрощающем и обобщающем мире – и попадешь в самую гущу битвы. Чтобы оправдать коммунизм, ничего писать не надо, и чтобы капитализм оправдать – тоже. А ты освободись от обоих. Если ты писатель, ты так же независим от одного, как и от другого. Да, ты видишь разницу, и ты, конечно, понимаешь, что это дерьмо чуть лучше того дерьма. Ты не агитатор. И не ортодокс. Твоя задача – общаться с этим миром и с тем, что в нем происходит, совсем иным образом. Агитатор предлагает людям веру, веру в большое дело, которое изменит мир, а художник предлагает изделие, которому нет места в этом мире. Оно бесполезно. Художник, серьезный писатель, предлагает миру нечто, чего изначально в нем не было вовсе. Когда Бог все это дело создал за семь дней – птиц, реки, людей, – у Него не нашлось десяти минут на литературу. «А теперь да будет литература. Кому-то на радость, а кому-то – тем, кто захочет создавать ее, – может быть, на муки…» Нет. Нет. Этого он не сказал. Если бы ты тогда спросил Бога: «А будут у нас водопроводчики?» – «Да, будут, – сказал бы Он. – У вас будут дома, и потребуются водопроводчики». – «А будут врачи?» – «Да. Люди будут болеть, им понадобятся врачи, чтобы кормить их таблетками». – «А литература?» – «Литература? Это ты о чем? Зачем она? К чему ты ее приспособишь? Отстань, пожалуйста, я творю мир, универсум, а не университет. Не будет литература».
Бескомпромиссность. Неотразимое качество Тома Пейна, Айры, Лео и Джонни О'Дея. Если бы я поехал на окраину Чикаго и встретился с Джонни О'Деем прямо по прибытии (а именно об этом Айра заранее с ним договорился), моя студенческая жизнь, а может, и жизнь вообще подпала бы под иные чары и иные давления; я, может, вовсе вышел бы из безопасных рамок, навязанных мне происхождением, попав под страстное водительство монолита совершенно иной природы, нежели Чикагский университет. Однако тяготы чикагского образования, не говоря уже о дополнительных сложностях, с которыми я столкнулся из-за специально для меня мистером Глюксманом придуманной дополнительной программы по расковыванию моего мышления, – в общем, всякие студенческие тяготы до самого декабря мешали мне в какую-нибудь субботу выкроить свободное утро, сесть на поезд и поехать к армейскому ментору Айры Рингольда, рабочему-металлисту, которого Айра однажды описал мне словами: «марксист от пряжки на ремне и в обе стороны».
Рельсы Южнобережной ветки примыкали к углу Шестьдесят третьей и Каменноостровской улиц, всего в пятнадцати минутах ходьбы от моего общежития. Я влез в оранжевый вагон, сел на скамью и, едва начав слушать, как проводник выкрикивает названия грязных городков по дороге – «Хигвиш… Хаммонд… Ист-Чикаго… Мичиган-Сити… Саут-Бенд… Гэри», – пришел в волнение, как если бы вновь слушал «Ноту триумфа». Будучи выходцем из промышленного северного Нью-Джерси, за окном я наблюдал пейзаж довольно знакомый. У нас тоже, если смотреть от аэропорта к югу, в сторону Элизабета, Линдена и Рауэя, глазу открываются вдали все сплошь какие-то сложные конструкции нефтеперегонных заводов с их ядовитыми выбросами и огненными факелами на верхушках башен, где сгорает газ, выделяющийся при крекинге нефти. В Ньюарке тоже есть и большие заводы, и крошечные мастерские, тоже всё в саже, тоже загажен воздух, тоже ветвятся и перекрещиваются железнодорожные рельсы, повсюду кучи железных бочек, горы металлолома и жуткие поля сплошного мусора. У нас тоже из высоких труб валит черный дым, стоит и химическая вонь, и пивная вонь, и зловоние от близлежащей свинофермы при соответствующем ветре окутывает весь наш квартал. И поезда у нас точно такие же, и точно так же они проносятся по дамбам через болота над камышом, осокой и просветами открытой воды. У нас та же грязь, те же запахи, но чего у нас нет и не может быть, так это Хигвиша, где делают танки. Нет у нас и Хаммонда, где делают балочные фермы для мостов. Нет и элеваторов для зерна вдоль судоходного канала, идущего от Чикаго к югу. Нет мартеновских печей, освещающих небо, когда идет разливка стали, так что прямо из окна комнаты в общежитии ясными вечерами видно, как небо становится красным. У нас в Нью-Джерси нет таких заводов, как «Ю-Эс стил», «Инланд стил», «Джонс энд Лафлин стил корпорейшн», «Стэндард бридж», «Юнион карбайд» и «Стэндард ойл оф Индиана». У нас есть то, что есть в Нью-Джерси; зато здесь сосредоточена вся промышленная мощь Среднего Запада. Здесь собрано все, что имеет отношение к производству стали: милю за милей вдоль озера по территории двух штатов тянутся сплошные заводы, которые огромнее любых других таких заводов в мире, – коксовые и кислородные печи превращают железную руду в сталь, подвесные ковши переносят тонны расплавленной стали, горячий металл лавой изливается в изложницы, и всё это в пламени и в пыли, среди грохота и опасности; работа идет на жаре под сорок градусов, люди трудятся, вдыхая пары, которые разрушают их здоровье, и вкалывают круглые сутки, выполняя работу, которая никогда не кончается. И все это – Америка, родным сыном которой я никогда не был и никогда не буду, но которой я, тем не менее, владею как американец. Глядя из вагонного окна, вбирая в себя пейзаж, казавшийся мне воплощением современности, прогресса и мощи, истинным символом индустриального двадцатого века и вместе с тем гигантской площадкой археологических раскопок, я думал о том, что ни один факт моей биографии своей серьезностью не может со всем этим сравниться.








