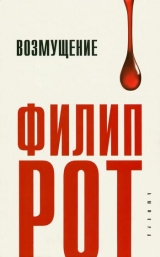
Текст книги "Возмущение"
Автор книги: Филип Рот
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 11 страниц)
Вот чего нельзя было говорить ни в коем случае, подумал я тут же. Тебя вышвырнут отсюда за доведение до самоубийства. Могут даже заявить в полицию. Вот и на того (или на ту?) Дж. Л. наверняка заявили в полицию.
В кармане у меня лежало письмо декана с поздравлениями «блудному сыну». Я ведь всего полчаса назад получил его. Строго говоря, именно это письмо с предложением любой помощи и побудило меня обратиться к декану. Вот в какую идиотскую ловушку я угодил!
– А что, собственно говоря, возбуждает в тебе такие опасения? – поинтересовался декан.
– У нас с ней было свидание.
– А не произошло ли на этом свидании чего-то такого, о чем ты не хочешь мне рассказывать?
– Нет, сэр.
Вежливо-доброжелательное письмо – и я полетел на него, как муха на мед. Блокировка – один из самых зрелищных элементов игры, причем не только в бейсболе, но и в других видах спорта. Я уже замолвил словечко за тебя в разговоре с тренером Порцлайном, и ему не терпится увидеться с тобой… А на самом деле это как раз Кодуэллу не терпелось повидаться со мной – из-за Оливии. Попал как кур во щи!
– Декан, – поправил он все тем же доброжелательным тоном. – Я для тебя декан. Так будет лучше.
– Нет, декан. Не произошло ничего, о чем мне не хотелось бы вам рассказывать.
– Ты уверен?
– На все сто процентов! – И буквально в то же мгновение я представил себе текст предсмертной записки, изобличающей меня без каких бы то ни было шансов на оправдание: «У нас с Марком Месснером был сексуальный контакт, после чего он бросил меня, посчитав шлюхой. И лучше мне умереть, чем жить опозоренной».
– А ты, Марк, не сделал этой юной даме ребенка?
– Что? Нет! Ни в коем случае!
– Ты уверен?
– На все сто процентов!
– То есть, насколько тебе известно, беременна она не была.
– Не была!
– И ты говоришь мне правду?
– Правду!
– И ты ведь не изнасиловал ее, правда? Ты ведь не изнасиловал Оливию Хаттон?
– Нет, сэр. Что вы!
– А она разве не навещала тебя в больнице?
– Навещала.
– А вот кое-кто из служащих больницы утверждает, будто во время визита Оливии в твою палату произошло нечто непотребное. Человек, о котором идет речь, видел это собственными глазами и внес соответствующую запись в книгу дежурств. А ты утверждаешь, что ее не насиловал.
– Да что вы, декан, мне же только что удалили аппендикс!
– Это не ответ.
– Я в жизни не прибегал к насилию, декан Кодуэлл. Не говоря уж о том, чтобы кого-то насиловать. Да и зачем мне это?
– Да и зачем тебе это… А можно уточнить, что ты этим хочешь сказать?
– Нет-нет, сэр, вы не поняли. Вернее, не так поняли. Декан Кодуэлл, это очень трудный для меня разговор. И я имею полное право полагать, что все, что произошло или могло произойти за закрытой дверью в больничной палате между Оливией и мной, касается только нас двоих.
– Может, имеешь, а может, и нет. Но, думаю, даже если это касалось лишь вас двоих, то в свете открывшихся обстоятельств это может касаться и кое-кого еще, не правда ли? Мне кажется, тебе нечего возразить. Ведь именно поэтому ты и пришел ко мне.
– Почему это – поэтому?
– Потому что Оливии с нами больше нет.
– А где она?
– У нее, Марк, случился нервный срыв. Ее увезла карета скорой помощи.
Выходит ее, мою сногсшибательную подругу, положили на носилки и увезли? Такую умницу, такую красавицу, такую очаровательную насмешницу? Нервный срыв – это ведь едва ли не хуже, чем самоубийство! Главную интеллектуалку во всем колледже увозят в карете скорой помощи из-за нервного срыва, а вся остальная здешняя публика жива-здорова и не нарадуется проповедям захолустных вероучителей! Что за вздор?
– Строго говоря, я не вполне понимаю, что такое нервный срыв, – честно признался я Колуэллу.
– Это когда ты полностью теряешь контроль над собой. Когда все вокруг становится для тебя непосильным испытанием и ты уходишь в себя. Даже не уходишь, а проваливаешься, причем в буквальном смысле слова. Не владеешь своими чувствами, как ребенок, и тебя приходится госпитализировать, чтобы заботиться о тебе как о ребенке, пока ты не поправишься. Если тебе суждено поправиться. Приняв в колледж Оливию Хаттон, мы пошли на риск. Нам была известна история ее болезни. Мы знали о том, что она прошла курс лечения электрошоком и что, как это ни прискорбно, у нее случаются рецидивы. Однако ее отец – известный кливлендский хирург и именитый выпускник нашего колледжа, и не удовлетворить его просьбу мы просто-напросто не могли. Добром это, увы, не кончилось. Ни для доктора Хаттона, ни для нашего колледжа, а главное, для Оливии.
– Но теперь-то с ней все в порядке? – Задавая этот вопрос, я чувствовал, что сам вот-вот утрачу контроль над собой. Пожалуйста, мысленно взмолился я, ну пожалуйста, декан Кодуэлл, давайте просто поговорим об Оливии, отбросив все эти «электрошоки» и «рецидивы»! И тут до меня внезапно дошло, что он именно так и поступает.
– Как я тебе уже сказал, у нее случился нервный срыв. И нет, с ней не все в порядке. Оливия беременна. Несмотря на ее печальную предысторию, у кого-то хватило бесчувствия обойтись с ней подобным образом.
– О господи! – выдохнул я. – И где же она сейчас?
– В психиатрической лечебнице.
– Но не может быть, чтобы она вдобавок оказалась беременна!
– Не только может быть, но так оно и есть на самом деле. Совершенно беспомощная молодая женщина, глубоко несчастное существо, человек с серьезнейшими психическими и эмоциональными проблемами, наконец, неопытная девушка, неспособная дать надлежащий отпор подстерегающим ее опасностям и соблазнам. И вот какой-то негодяй этим воспользовался. Негодяй, с которого, поверь, будет спрошено сполна!
– Но это не я!
– Знаешь, Марк, то, как ты вел себя в больничной палате, позволяет прийти к прямо противоположному выводу.
– Мне все равно, к какому выводу это позволяет вам прийти, сэр. Меня не смогут обвинить за отсутствием доказательств. И, сэр, я вновь категорически протестую против того, в каком свете вы меня выставляете. Вы искажаете мотивы моих действий и сами действия. Я не спал с Оливией! – Мучительно покраснев, я добавил: – Я вообще ни с кем еще не спал. Ни одна женщина на земле не могла бы от меня забеременеть. Это исключено физически!
– С учетом всего, что нам известно, в это тоже как-то не верится, – возразил декан.
– Да пошел ты на хер! – Да, в порыве слепой ярости я – уже второй раз за время жизни в кампусе – не нашел более достойного возражения неприятному собеседнику. Но ведь нельзя же было судить меня в отсутствие улик? Мне это окончательно опротивело.
Декан поднялся с места, но, в отличие от Элвина, не для того, чтобы ударить меня, но чтобы предстать передо мной во всем своем официальном величии. Его лицо оставалось совершенно неподвижным, только глаза бегали, осматривая меня с ног до головы так, словно сама моя внешность свидетельствовала о моральном уродстве.
Я покинул кабинет декана и тут же принялся ждать приказа об отчислении. Я не мог поверить в беременность Оливии, точно так же как не мог поверить в то, что она отсосала у Котлера или кого-нибудь другого в Уайнсбурге – кого угодно, кроме меня! Но забеременела она или нет – забеременела, ничего не сказав мне; забеременела за какие-то сутки; забеременела, не исключено, еще до приезда в Уайнсбург; забеременела (как ни абсурдно это звучит) от Святого Духа, как Дева Мария, – сам я погрузился в трясину здешних ханжеских нравов, в трясину собственной правильности, и без того превратившей мою жизнь в сущий кошмар, той самой правильности, которая (как я с чрезмерной готовностью поспешил предположить) и свела с ума Оливию. И дело тут, мама, вовсе не в твоем воспитании – дело в запретах и условностях нашего времени. Поглядите только на меня по приезде в этот чертов колледж, поглядите на меня, настолько закомплексованного, что я проникся недоверием к девушке, которая всего-навсего сделала мне минет!
Моя комната. Моя комната, мой дом, мой скит, моя крошечная уайнсбургская гавань – когда я поднялся сюда в пятницу (а восхождение по семи лестничным маршам оказалось куда более мучительным, чем я мог бы предположить заранее), то застал здесь полный разгром. Простыни, одеяла и подушки были разбросаны; вещи сорваны с вешалок, выметены с полок (дверцы так и остались раскрыты настежь) и раскиданы по полу и голому матрасу. Нижние сорочки, трусы, подштанники, носки и носовые платки валялись вперемешку с рубашками и брюками; причем все, что можно, было вывернуто наизнанку, а остальное – скомкано. В углу под окном мне на глаза попалась целая куча мусора; яблочные огрызки, банановая кожура, бутылки из-под колы, обертки от крекеров, конфетные фантики, баночки из-под мармелада, недоеденные бутерброды и просто хлебные корки, измазанные чем-то, что на первый взгляд показалось мне экскрементами, но, к счастью, было всего лишь ореховым маслом. Из глубины мусорной кучи вынырнула мышь, шмыгнула под кровать и исчезла. За ней вторая. За второй – третья.
Оливия. В ярости на меня и мою маму Оливия ворвалась сюда, надругалась над моей комнатой и только потом решилась на новую попытку самоубийства. Особенно ужаснулся я при мысли, что, ослепленная бешенством, она вполне могла завершить разгром вскрытием себе вен прямо здесь – у меня на кровати.
Пахло тухлятиной и еще чем-то, чего я не смог сразу идентифицировать, хотя этот запах по силе ничуть не уступал гнилостному. Не смог, потому что увиденное и наконец опознанное (и осознанное) буквально потрясло меня. Прямо у меня под ногами валялся один-единственный вывернутый наизнанку носок. Я подобрал его и поднес к самому носу. Слипшийся в ком, он вонял не потом, а засохшей спермой. Я принялся поднимать с пола и подносить к носу другие разбросанные предметы, и все они пахли точно так же. Все в комнате просто купалось в сперме. Стодолларовая фирменная экипировка, приобретенная мною в отделе молодежной моды ньюаркского универмага, уцелела только потому, что именно в ней я и отправился неделю назад в профилакторий с острым приступом аппендицита.
Пока я лежал в больнице, кто-то, заселившись ко мне в комнату, круглыми сутками мастурбировал, поочередно кончая в принадлежащие мне носильные вещи. И, разумеется, это никакая не Оливия! Это Флассер. Это не мог быть никто другой, кроме Флассера. Всей вашей подлой шайке я отмщу. Вот и эта вакханалия самоудовлетворения была адресованным персонально мне возмездием.
И вдруг я начал задыхаться – и от запаха, и от шока. Я вышел в пустой коридор и громко спросил у него, что за обиду ухитрился нанести Бертраму Флассеру, если она спровоцировала его на беспримерную по тошнотворности расправу над моими жалкими пожитками. Тщетно попытался я понять, что за радость могло принести ему методичное осквернение и символическое уничтожение моих вещей. Кодуэлл с одной стороны и Флассер с другой; мама с одной стороны и отец с другой; прелестная Оливия с одной стороны и Оливия сломленная с другой. А посредине всего этого я, и защититься мне нечем, кроме бессильного «да пошли вы все на хер!».
Сонни Котлер, приехавший ко мне на машине и по моему приглашению поднявшийся в мансарду полюбоваться разгромом, сразу же объяснил мне, в чем дело. Буквально с порога, на котором он застыл, не желая заходить в комнату.
– Он влюблен в тебя, Марк. Это знаки его любви.
– И эта мерзость тоже?
– Эта мерзость – в первую очередь. Наш уайнсбургский Джон Бэрримор[3]3
Джон Бэрримор (1882–1942) – знаменитый американский актер театра и кино, представитель сценической династии, прославившийся, в частности, исполнением ролей в пьесах Шекспира. Гомосексуалист; находился на принудительном лечении от алкоголизма. – Примеч. перев.
[Закрыть] не на шутку увлекся.
– Так это правда? Флассер «голубой»?
– Голубее голубя, чтобы не сказать петуха. Поглядел бы ты на него в шелковых панталончиках в шеридановской «Школе злословия»! На подмостках Флассер великолепен: отличная мимика, блистательная подача реприз. А сойдя со сцены, превращается в самое настоящее чудовище. В горгулью. Есть, Марк, знаешь ли, живые горгульи, и тебя угораздило столкнуться с одной из них.
– Но это же не любовь! Это же смехотворно!
– Многое в любви смехотворно, – объяснил мне Котлер. – Влюбленный демонстрирует тебе, какая у него замечательная потенция.
– Нет, – возразил я. – Если это и демонстрация, то ненависти. Демонстрация антагонизма. Флассер превратил мою комнату в помойку, потому что ненавидит меня до мозга костей. А за что? За то, что я разбил чертову пластинку, которую он крутил ночи напролет, врубив проигрыватель на полную мощность. И произошло это несколько недель назад, едва я сюда приехал. И я купил ему новую пластинку вместо разбитой – на следующий же день пошел и купил! А он в ответ устроил такую гадость. Такую отвратительную, такую долгоиграющую, такую неизгладимую гадость! Ведь мне в этой комнате еще жить и жить. И ведь держится он с колоссальным высокомерием, делает вид, будто ему наплевать на мелочь пузатую вроде меня, и вдруг, здравствуйте пожалуйста, этот скандал, эта грязь, эта месть. И что теперь? Как мне быть? Оставаться здесь я в любом случае не могу!
– И не надо. По крайней мере, пока. Мы приютим тебя на нынешнюю ночь в домике братства. Выделим тебе кушетку. А я одолжу тебе кое-что из одежды.
– Но оглядись по сторонам, принюхайся, как тут пахнет! Он хочет заставить меня вдыхать этот запах, заглатывать его! Господи, вот теперь я должен обратиться к декану, не правда ли? Необходимо сообщить ему об этой вендетте.
– К декану? К Кодуэллу? Я бы не советовал. Потому что, Марк, доноса Флассер тебе не спустит. Донесешь на него, а он скажет, что это ссора двух любовников. Покажешь следы, а он разведет руками. Что ж, скажет, мне у него заглатывать надо было? Флассер наш, так сказать, образцово-показательный вырожденец. Да, даже в Уайнсбурге есть такой. Никому не под силу обуздать Бертрама Флассера. А если его все-таки исключат, он потянет за собой и тебя. Это я тебе гарантирую! Так что к Кодуэллу нельзя идти ни в коем случае. Послушай, сначала этот чертов аппендицит, потом все твои вещи ни с того ни с сего залиты трухней Флассера. Понятно, что ты сейчас не можешь рассуждать с всегдашней здравостью.
– Сонни, но мне никак нельзя вылететь из колледжа!
– Вылететь? Но за что? Ты же ничего никому не сделал! – Он закрыл за нами обоими дверь в мою зловонную комнату. – Это с тобой сделали!
Однако я (и моя враждебность) уже понаделали достаточно, чтобы в беременности Оливии Кодуэлл обвинил не кого-нибудь, а меня.
Мне не нравился Котлер, я не доверял ему и, садясь к нему в машину, с тем чтобы воспользоваться предложением одежды и ночлега, сознавал, что совершаю очередную ошибку. Он был боек, самоуверен; он чувствовал свое превосходство не только над людьми типа Кодуэлла, но и, скорее всего, надо мной. Классическое дитя богатых еврейских пригородов Кливленда, Сонни Котлер, с этими его длинными темными ресницами и раздвоенным подбородком, с его успехами в баскетболе, занимающий второй год подряд, невзирая на его еврейство, пост председателя Объединенного совета братств, сын не мясника, но владельца независимой страховой компании и не продавщицы мясной лавки, а наследницы огромного универмага, – Сонни Котлер был для меня слишком хорош, слишком самодостаточен, слишком смышлен и продвинут в самых разных отношениях, и вместе с тем я оставался к нему целиком и полностью равнодушен: уж больно он казался мне чуждым. Умнее всего было бы немедленно упаковать чемоданы, рвануть из Уайнсбурга в родной Нью-Джерси и, хотя прошла уже почти треть семестра, попытаться, пока меня, схватив за шкирку, не потащили в армию, восстановиться на втором курсе в колледже Трита. Послать ко всем чертям всех этих флассеров, котлеров и кодуэллов, послать ко всем чертям Оливию и, сев на поезд, помчаться домой, туда, где единственную опасность представляет собой тронувшийся умом мясник, а все остальное – это Ньюарк, пребывающий в тяжких трудах, разномастный, подмазываемый и подмазывающий, наполовину не приемлющий чужого и чужаков ирландско-итальянско-немецко-славянско-еврейско-негритянский Ньюарк.
Но, будучи взволнован и растерян, я отправился в домик еврейского братства, и там Сонни Котлер познакомил меня с рядовым членом братства Марти Циглером, тихим юношей, похоже еще ни разу не брившимся, который, приехав в Уайнсбург из Дейтона, прибился к Котлеру, судя по всему, просто боготворил его – прирожденный последователь прирожденного лидера – и, понимая любое указание с полуслова, тут же бросался его выполнять. И, стоило нам остаться втроем в комнате Котлера, этот Марти буквально сразу же за смехотворные полтора бакса в неделю согласился стать моим «дублером» в церкви по средам, то есть регулярно приходить туда, указывать мою фамилию на карточке, какие раздает на входе инспектор, возвращать карточку по окончании проповеди и не говорить никому ни слова о нашей сделке ни теперь, ни когда-либо еще. У Марти была приятная, хотя и несколько заискивающая улыбка; казалось, угодить мне он рад ничуть не меньше, чем ублажить – пусть и тем же самым – своего кумира Сонни.
Довериться Циглеру тоже было ошибкой, последней ошибкой; и об этом я тоже догадывался с самого начала. Не злобный Флассер, главный человеконенавистник во всем колледже, а добрый и отзывчивый Циглер стал проклятием, в тень которого я отныне попал. Причем я пребывал едва ли не в восторге из-за всего со мною происходящего. Пусть и не будучи последователем – ни по врожденной, ни по приобретенной склонности, – я все равно потянулся за прирожденным лидером, слишком измученный и ошеломленный за весь этот долгий день, чтобы вовремя остановиться.
«Ну вот, – торжествующе провозгласил Сонни, после того как мой только что нанятый дублер вышел из комнаты, – с проповедями мы разобрались раз и навсегда… Все оказалось просто, не правда ли?» Так высказался самоуверенный Сонни, а я, истинный сын своего охваченного перманентной паникой отца, уже тогда, вне всякого сомнения, понимал, что этот сверхъестественно красивый еврейский юноша с царственной осанкой и безупречно патрицианскими манерами, привыкший к всеобщему восхищению и обожанию, не говоря уж о простом повиновении малейшему его слову, никогда ни с кем не спорящий и не ссорящийся, получающий несомненное удовольствие от того, что является подлинным солнцем на крошечном небосводе объединенных братств, – что этот во всех отношениях достойный молодой человек станет для меня ангелом смерти.
Пока мы с Сонни находились у меня в мансарде, начался снегопад, а к тому времени, когда мы добрались до домика братства, скорость ветра усилилась до сорока миль в час, и за долгие недели до Дня благодарения знаменитая снежная буря ноября 1951 года, придя со стороны океана, постепенно охватила северные округа Огайо, соседствующие с ним штаты Мичиган и Индиана, а затем распространилась на запад Пенсильвании, юг штата Нью-Йорк и, наконец, чуть ли не на всю Новую Англию. К девяти вечера снега выпало на два фута, меж тем снегопад все не прекращался удивительным и неизъяснимым образом, хотя ветер стих, по меньшей мере в Уайнсбурге; ветви старых деревьев уже не скрипели и не трещали под его натиском и тяжестью осевшего на них снега, не трещали и не ломались, с грохотом рушась во дворы и перегораживая подъездные дорожки; да и сам ветер, казалось, устал выть и злобиться, и только нескончаемые снежные столбы вились в воздухе и медленно опускались наземь, словно бы вознамерившись укрыть белым саваном все, что по той или иной причине еще оставалось не погребенным в Верхнем Огайо.
В самом начале десятого мы услышали рев. Он доносился из кампуса, расположенного примерно в полумиле от домика еврейского братства на Бакай-стрит, где я только что поужинал и, как было обещано, получил в свое распоряжение кушетку, платяной шкафчик и несколько свежевыстиранных вещей Сонни; стать его соседом по комнате мне было предложено не только на эту ночь, но и на сколько вздумается. Рев, который мы услышали, напоминал крики восторга на стадионе после красиво забитого мяча, вот только он никак не утихал… Так ревут, когда, красиво забив мяч в домашнем матче, команда становится чемпионом. Так ревут на улицах, когда после долгой кровопролитной войны становится известно о безоговорочной капитуляции противника.
Началось все (как потом выяснилось) с пустяка, причем совершенно невинного: четверо первокурсников из маленьких городков Огайо, парни, в сущности, деревенские, выскочив из Дженкинс-холла полюбоваться первым с их поступления в колледж снегопадом, затеяли на дворе перед корпусом игру в снежки. Постепенно к ним присоединились остальные первокурсники Дженкинса, а затем, увидев из выходящих на тот же двор окон других общежитий, что происходит, туда высыпали обитатели Найл-холла и Уотерфорда. И вот уже разгорелось полномасштабное, хотя и веселое сражение с участием нескольких десятков разгоряченных парней, беззаботно выскочивших на мороз в одних спортивных костюмах, в пижамах, а то и просто в трусах и майках. Не прошло и часа, как вслед за снежками в противника полетели банки из-под пива, прямо в ходе потешного боя и осушаемые. На снег пролилась первая кровь: кое-кто был нешуточно травмирован «вражескими снарядами», в число которых уже вошли учебники, корзинки для мусора, карандаши, точилки, склянки с чернилами; последние, разбиваясь, окрашивали в иссиня-черные тона снежное поле, которое освещали переделанные под электрические лампы газовые фонари в выходящих на пустырь аллеях. Однако первое кровопролитие не умерило боевого куража, скорее напротив. Вид крови, пролившейся на белый снег, превратил беззаботно радующихся первому в году – чрезвычайно раннему и неслыханно обильному – снегопаду подростков в полчище беснующихся бунтарей, ведомых несколькими невесть откуда взявшимися зачинщиками, готовых превратить игру в драку, а драку – в побоище, дав волю самым низменным инстинктам (ничуть не облагороженным регулярным посещением проповедей); и, по колени в глубоком снегу, они схватились чуть не насмерть в сражении, которому не суждено было изгладиться из памяти выпускников и которое буквально на следующий день гневная передовица «Уайнсбургского орла» нарекла «великой уайнсбургской битвой в подштанниках», а студенты окрестили это Ночью белых трусиков.
Разгулявшиеся молодчики ворвались в три женских общежития: Доулэнд, Кунс и Флеминг, кое-как добравшись до них по заваленным снегом дорожкам и ступенькам крыльца: и, хотя стеклянные двери уже были заперты на ночь, стекло просто-напросто расколотили, добравшись таким образом до внутренней задвижки, а в одном случае вышибли кулаками и плечами и саму дверь; при этом налетчики сжимали в руках уже не снежки, а тяжелые комья из снега и грязи. Легко опрокинув столы дежурных, преграждавшие доступ на лестницу, налетчики устремились на верхние, обитаемые, этажи, вломились в девичьи спальни и примыкающие к ним помещения сестринств. Студентки разбежались кто куда в поисках хоть какого-нибудь укрытия, а в это время буяны, совершенно обезумев, открывали платяные шкафы и комоды, срывая с вешалок и вываливая на пол их содержимое. Искали они белые женские трусики и буквально каждую найденную пару выбрасывали в распахнутые окна, и она мягко планировала на живописно заваленный снегом четырехугольный двор, где меж тем собралось уже несколько сот человек: помимо обитателей соседних мужских общежитий сюда успели подтянуться члены братств, живущие на Бакай-стрит и привлеченные в кампус слухами о творящейся здесь – и совершенно не свойственной Уайнсбургу – череде бесчинств.
«Трусики! Трусики! Трусики!» Это слово, возбуждающее их – уже студентов – столь же сильно, как и в переходном возрасте, сейчас лейтмотивом вырывалось из сотен глоток бултыхающихся в снегу парней, тогда как десятки их товарищей, уже ворвавшихся в женские общежития, маячили в окнах; пьяные, полуодетые, измазанные чернилами и залитые кровью, в пивной испарине и талом снегу, они в массовом порядке занялись тем же непотребством, которое в одиночку творил у меня в мансарде Найл-холла распаленный похотью Флассер. Конечно, не все они, далеко не все, но трое наиболее распоясавшихся молодчиков (двое первокурсников и один второкурсник, назавтра же первыми вылетевшие из колледжа в числе доброй дюжины исключенных) принялись на глазах у всех мастурбировать в женские трусики и тут же (вы бы не успели сосчитать до десяти) поочередно кончили, а затем, скомкав оскверненную и промокшую пару, каждый швырнул ее вниз, в руки ликующим, раскрасневшимся, с шапкою снега на голове, дышащим тяжело, как кони или, скорее, драконы, и выпускающим струи пара соученикам, которые с готовностью ловили ее на лету.
То там, то здесь юношеский басок, изнуренный моральными ограничениями эпохи, провозглашал в стремлении нарушить их; «Пошли по бабам!», но в общем и целом толпу интересовали трусики, и только трусики, и вот уже одни натянули женские трусики себе на голову, как поварские колпаки, другие надели их на ноги, как больничные бахилы, а третьи напялили поверх пижамных и тренировочных штанов. Среди бесчисленного множества предметов, выброшенных той ночью из окон погромщиками, оказались и лифчики, и пояса с чулками, и гигиенические прокладки, и тюбики крема, и флакончики духов, и патроны губной помады, и купальники (раздельные и нет), и ночные рубашки, и несколько дамских сумочек, и определенное количество долларов США, и целая коллекция красивых дамских шляпок. Пока в корпусах творилось все это безобразие, на пустыре слепили здоровенную – со здоровенными же сиськами – снежную бабу, частично забросали ее бельем, вставили ей, будто белую сигару, в нарисованный алой помадой рот гигиенический тампон и завершили композицию шикарной весенней шляпкой, которая держала рассыпающиеся во все стороны волосы из скрученных долларовых бумажек.
Наверняка ничего этого не произошло бы, успей полиция добраться в кампус до того, как безобидное снежное побоище на дворе перед Дженкинс-холлом переросло в массовую вакханалию. Но никто и не собирался расчищать улицы городка и аллеи кампуса под непрекращающимся снегопадом, так что ни трем патрульным машинам, которыми располагал город, ни охране кампуса, в распоряжении которой тоже имелись две машины, было просто-напросто сюда не пробиться, а значит, полицейским, и охранникам пришлось поспешать к месту происшествия на своих двоих. К тому времени, как им удалось добраться до женских общежитий, те были уже окончательно разгромлены и ситуация полностью вышла из-под контроля.
Избежать самой настоящей катастрофы удалось только благодаря декану Кодуэллу. Именно он, шести футов четырех дюймов росту, встал, одетый в пальто с шарфом, но без шапки, на пороге Доулэнда и, сжимая в руке (без перчатки) мегафон, оглушительно проорал: «Учащиеся Уайнсбурга! Учащиеся Уайнсбурга! Немедленно разойтись по корпусам! Немедленно разойтись по корпусам под угрозой исключения из колледжа!»
Этого грозного предостережения самого уважаемого и, безусловно, главного по рангу и неформальному влиянию из уайнсбургских деканов (а также того, что исключение из колледжа грозило призывом на срочную службу в армию всем, кому стукнуло восемнадцать с половиной, и девятнадцать, и двадцать) хватило для того, чтобы толпа погромщиков начала мало-помалу рассеиваться. Потенциальные призывники уносили ноги, стараясь не попадаться на глаза облеченному властными полномочиями атлету. Что же до тех отчаянных бестий, которые, ворвавшись в девичьи спальни, никак не могли утихомириться, то они дождались-таки прибытия полиции, которая начала отлавливать их по одиночке, тесня из комнаты в комнату; и только тогда из окон прекратили вылетать женские трусики – из окон, по-прежнему распахнутых настежь, невзирая на нешуточный по здешним меркам мороз. И теперь из окон нижних этажей сигали один за другим погромщики – сигали в снег и растворялись во тьме, если, конечно, им удавалось проделать это, не переломав себе ни рук, ни ног (паре парней не повезло).
Позже той же ночью погиб Элвин Эйерс. Разумеется, такой как он не мог иметь ни малейшего отношения к налету на женские общежития. Закончив приготовление домашних заданий, Элвин (по показаниям примерно полудюжины членов его братства) провел остаток вечера в домике братства, а затем уселся в машину и прогревал мотор, время от времени выбираясь наружу, чтобы смахнуть снег, сыплющийся на крышу и на капот, и отгрести лопатой сугробы, мгновенно собирающиеся у всех четырех колес, которые он только что «обул» в новехонькие зимние покрышки. Из чисто исследовательского азарта, желая удостовериться, что его мощный четырехдверный седан с удлиненной – по сравнению с предыдущими моделями – колесной базой и большим карбюратором, обеспечивающим мощность в сто тридцать лошадиных сил, последняя из престижной линии машин, выпущенных «Дженерал моторс» (и названных не в честь видного немецкого философа-социалиста, как вы могли бы подумать, а в память о знаменитом французском путешественнике), способен форсировать заваленные двухфутовым слоем снега улицы и дороги Уайнсбурга, Элвин решил проверить «лассаль» в экстремальных условиях. В центре города, где начальник железнодорожной станции вместе с обходчиком на протяжении всей снежной бури старательно расчищал пути, Элвину вздумалось проехаться наперегонки с полуночным товарным поездом до самой развязки на перекрестке Мэйн-стрит и Лоуэр-Мэйн, и машина, потеряв управление, завертелась на рельсах и получила лобовой удар плужным снегоочистителем совершающего правый поворот локомотива. Машина, в которой я отвез Оливию поужинать, а затем на кладбище, исторический автомобиль, своего рода памятник подвигу отважной минетчицы Уайнсбурга середины двадцатого века, поддетая заодно и сбоку, перевернулась вверх тормашками и покатилась по Лоуэр-Мэйн до самого конца улицы, где и взорвалась, и Элвин Эйерс-младший, по всей видимости погибший уже при столкновении с поездом, сгорел вместе с обломками своего «лассаля», который любил сильнее всего на свете, окружая его заботой и лаской, в каковых категорически отказывал и женщинам, и мужчинам.
Как почти сразу же выяснилось, Элвин был не первым и даже не вторым, а уже третьим старшекурсником Уайнсбурга с начала эры автомобилизма в Америке, которому не удалось получить диплом в результате состязания с полуночным товарным поездом – состязания со смертельным исходом. Однако сильный снегопад он счел вызовом, достойным и его самого, и возлюбленного «лассаля», и потому мой бывший сосед по комнате (подобно мне самому) попал в пределы, где у человека не остается ничего, кроме памяти, а с мечтой о руководстве флотилией речных буксиров ему пришлось расстаться навсегда, и теперь он, должно быть, вспоминает, как хорошо ему было ездить на такой великолепной машине. А перед моим мысленным взором вновь и вновь возникает момент лобового столкновения с поездом, когда похожая на тыкву голова Элвина треснула, ударившись о лобовое стекло, и, скорее всего, подобно тыкве, разлетелась на сотню кусков кости, кровавой плоти и мозга. Мы спали с ним в одной комнате, в одни и те же часы готовили домашние задания – и вот он погиб в двадцать один год. Он назвал Оливию пиздой – и вот погиб в двадцать один год. Первое, о чем я подумал, узнав об автокатастрофе: знать бы заранее, что ему суждено умереть, можно было бы не переезжать из комнаты. До этой поры я еще не сталкивался со смертью знакомых, кроме двух моих двоюродных братьев, павших на фронтах Второй мировой войны. Элвин оказался первым умершим, которого я ненавидел. Так что же, думалось мне, теперь самое время перестать его ненавидеть и, может быть, даже начать оплакивать? Может быть, имеет смысл сделать вид, будто я потрясен известием о его гибели и меня ужасают ее обстоятельства? Может быть, надо состроить скорбную мину, и отправиться на панихиду в домик его братства, и принести соболезнования братьям, многих из которых я знал по работе в ресторане как жалких и грубых выпивох, свищущих в два пальца и кричащих мне в спину нечто очень похожее на «еврей, сюда»? Или мне следует предъявить права на освободившуюся комнату в Дженкинс-холле, прежде чем туда поселят кого-нибудь другого?








