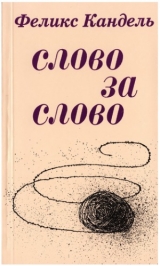
Текст книги "Слово за слово"
Автор книги: Феликс Кандель
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 8 страниц)
У каждого человека есть своя Охлебаиха, где удалось не умереть.
Встал.
Пошел по дороге.
Пришел в деревню, в вишенные ее сады, где соком наливалась ягода, алая, сквозистая.
Лицом зарывался в листву, руками обхватывал стволы, губами ловил ягоду за ягодой и рвал, и глотал, и обливался кровяным соком солоно соленых вишен до самой посадки в заграничном городе Вене.
Ах, Макарон, Макарон, кто же теперь будет защищать деревню Охлебаиху?..
По пятницам, перед закрытием, когда фрукты-овощи отдают ни за что, ходят по рынку двое – женщина нестарая, еще в силе, с озабоченной складкой на переносице, и грустный мужчина с кошелками. На рынке много всего, хоть завалом завались, и дают набирать в прозрачные пакетики.
– Не жидись, – говорит мужчина – до пенсии всего ничего. – Купи Таньке клубнички.
А она – через плечо :
– Клубничка – не сезон. Чего переплачивать? Денежки наши тугие. Не горстаются, а берутся счетом.
И покупает зато бананы с апельсинами.
Яблоки переспелые на пирог.
Помидоры давленые в суп.
Вино для гостей.
Хана зайдет к вечеру. Фрида. Алик Сорокер.
Да Танькин жених Шмулик.
7
Летом, рано утром, в пятом еще часу в дверь постучали.
На улице стоял гигант-грузовик.
У порога топтались два бедуина.
– Вам чего? – спросил спросонья.
Они заговорили разом, показывая на ящики от багажа, что стояли во дворе, тыкали в нос замусоленные ассигнации.
Багаж привезли вчера. Ящики были его, с московской таможни. Их надо было продать на доски, пока не унесли так.
– Десять, – сказали бедуины.
– Тысяча, – сказал он.
– Двадцать, – сказали бедуины.
– Восемьсот, – сказал он.
Они говорили на разных языках, но понимали с полуслова.
– У нас дети, – сказали бедуины.
– У меня тоже, – сказал он.
– У нас больше, – сказали они, и возразить было нечем.
– У вас зато грузовик, – сказал он в отместку, – миллион стоит. Стыдно прибедняться.
Тогда они закричали гортанно, замахали руками, вдавили пузами в стенку.
Было рано. Глаза слипались. В мозгах плыл туман. Одно понял из их слитного крика: стоять в Негеве, в самом сердце пустыни, посреди коз-овец-верблюдов, бедуинскому шатру из московских досок, и тушью на нем, крупно – АБАРБАРЧУК.
Это ему польстило.
– Берите, – сказал великодушно. – Четыреста.
Что я болтаю? Абарбарчук остался навечно в той еще жизни, куда бедуинам Негева вход заказан, и торговались они не с ним.
– Восемьсот, – сказал Сорокер неуступчиво. – И ни копейкой меньше.
– Шестьсот, – сказал Макарон, стесняясь. – И забирайте .
– Двести, – сказала интеллигентная Хана. – Но можно и сто.
И бедуины укатили с ящиками на красавце-грузовике, который стоил миллион.
А на улицах, по краям тротуаров, сажают, будто на смех, малые прутики.
Неогороженные поначалу. Хилые и беззащитные.
Люди их ломают, машины, собаки с кошками – походя и ни за что.
И потому – в ужасе от неизбежного – прутики укрепляют первым делом свои стволы. Не ветви выпускают. Не листья распушают. Одни только стволы, чтобы уцелеть, выжить, перестоять опасное время.
Их огораживают потом, подвязывают бечевочкой к подпоркам, но они тут же обволакивают бечевки и толстеют дальше, а уж потом только идут в рост, в ветви и в листья.
Кто не толстеет, тому не жить.
Только стоять скрюченным в ожидании неизбежного.
Интеллигентная Хана гуляет по окрестностям, подмечает в тоске ветку обломанную, ствол перекрученный, обгрыз, заскреб и надрез.
– Чтоб у них руки отпали! – бормочет Хана в слезе. – Чтоб у них ноги отсохли! Чтоб они сами полопались и перекрутились!..
– Грех так говорить, – возражает Фрида. – Не желайте никому плохого. Желайте только хорошее.
Старика Талалая нет уже в живых, и Фрида теперь за Талалая.
– Глупости! – кричит Сорокер. – Расстрелять парочку! На площади. Чтобы другим неповадно. Сразу перестанут ломать!
У Сорокера на всё свой ответ: расстрелять парочку. Он теперь храбрый, Алик Сорокер, он экстремист. Пусть теперь другие его боятся.
– Ах, – восхищается Хана, – какая прелесть! Алик, вы это еще не опубликовали?
– Нет, Хана Семеновна, у меня с русским языком сложности.
– А вы без языка. Все публикуют, что бы и вам?
Но Алик неумолим.
– Эти, – говорит он. –Черные. Пейсатенькие. Разбегались по городу, раскомандовались. Давить, как тараканов.
Фрида замирает в огорчении:
– Дедушку своего будете давить? Папу моего Талалая?
– То бьли другие времена, –говорит Алик. –Теперь этого ничего не надо.
– Опубликуйте, – стонет Хана. – Непременно опубликуйте...
А инженер Макарон с Любкой бродят вечерами по улицам, подвязывают ветки, укрепляют стволы, лечат, приживляют и сращивают.
– Вам за это платят? – спрашивают прохожие, не понимая.
– А пошли бы вы! – говорит Любка по-русски и матерится во всю мать.
Вот это они понимают.
Любкина мать присылает письма из-за границы.
Выводит на конверте с уважением: "Госпоже Макарон".
Пишет. Зачеркивает. Слезой капает.
Горевое ее дело.
Ходит порой на кладбище, где папа Макарон, бабушка Макарон с дедушкой, подсаживает цветы, пропалывает и прибирает. Кому-то и оставаться, чтобы приглядывать за могилами.
Не свои вроде, да уж и не чужие.
Кто были эти пришельцы, чем занимались, как выглядели, из-за чего вымерли: не у кого будет скоро спросить, некому ответить.
Единая семья народов приходит через вымирание.
А в кладбищенских воротах сидит на земле геройский увечник, каплю копит под носом. Хайластый. В лохмотах. Устарел и глазами обнищал. Руку тянет привычно, забутыливает что ни вечер, накрикивается всласть:
– Как и резали быка мы у Павла-мужика...
Скакал прежде на деревяшке – ее очинили по пьянке карандашом: скачет теперь на костылике. Тут ему и быть, при кладбище. Тут и помирать. Тут и народ пугать:
– Вдруг вылазит из могилы в белом саване мертвец...
"Мама, – пишет Любка в ответ, – летом тут тепло, мама, и можно ходить без всего, и в магазинах всё есть, а что евреи кругом, так к этому я привыкла..."
Выходит из дома Танька Макарон, город-девка: высокая, румяная, грудь башней, – нараспашку, размахайкой, весело вышагивает по мостовой.
Подкатывает на машине Шмулик, Танькин жених, глазом обмирает на доставшиеся ему прелести: глядеть – не отойти!
– Мальчик в девочку влюбился, – комментирует Хана, специалист по источникам, – своей волюшки лишился...
Соседи на лавочке оглядывают с интересом, как Шмулик разворачивается в тесноте с шумом и треском. У него машина с прогорелым глушителем, лысыми колесами и вмятинами на боку, но Танька королевой сидит возле Шмулика: во всю губу барин.
– У нас так,– говорит жениху Любка, теща по-нашему. – Чтобы потом без жалоб. Видели очи, что брали к ночи. Переведи ему.
Танька переводит.
– У нас тоже так, – говорит Шмулик. – А не то в Сибирь.
И они укатывают в город.
Завтра Шмулику в армию на месяц, и Танька не воротится до завтра.
– А Петренки в общественном чулане, – говорила блокадная старуха по схожему поводу, – занимаются тем, чем положено заниматься в спальне.
И обходила стороной чулан.
Ради Шмулика Танька должна пройти гиюр, чтобы была хупа, и ктуба, как положено, – но как это будет по-русски?
Танька уже затрудняется.
Инженер Макарон встает в пять утра, из дома выходит в пять сорок.
Приезжает за Макароном автобус, в потемках везет на завод через полстраны.
Утром с горы. Вечером в гору.
Город провожает его по утрам, выглядывая с холмов крайними строениями, будто тянется на цыпочках и никак не может распрощаться.
Город ожидает его к вечеру, раскидывая руки-улицы, словно предлагает себя в подарок, который уже не отнять.
– Главное я сделал, – думает сонный Макарон, подпрыгивая на сиденье. – Я тут. Что бы уже ни случилось, а я тут.
Спать хочется от этого не меньше, и просыпаться тоже нелегко.
– Ты марки собираешь, – выговаривает Любка вечером, не отрываясь от экрана, – а другие, погляди-ка, на оленей охотятся. По снегу. На лыжах. Посреди красотищи. А он стоит стрункой, рога выставил, шерстка шелковая, глаза навыкате – печаль смертная...
Пауза.
– Уж лучше марки собирать...
После вдоха-выезда долгий, предлинный выдох.
– Я тут, – бормочет как заклинание инженер Макарон. – Я навсегда теперь тут...
А ночью поскреблась Хана.
Через стенку.
Видно, прихватило – невмоготу.
Прискакала к ней Любка, босиком и в рубахе, вызвала скорую помощь, повезла Хану в больницу.
– У меня дом был в Тбилиси, – тут же сообщил шофер, распознав своих. – Ларек "Пиво-воды" в парке и у вокзала. Жизнь – тебе и не снилась.
– Чего же назад не просишься? – поинтересовалась Любка.
– Нельзя назад. Провожали – за здоровье пили. Домой ехал. На родину. Ворочусь – уважать не будут.
В больнице определили тут же: у Ханы инфаркт.
Жизнь – метеор: не успел загадать желание, а она уж и пролетела.
8
А в переулке стояла машина.
Новенькая, ладная, быстроходная машина – в Зыковском переулке. С ковриками на сиденьях, с куколкой под зеркальцем, с кожаным чехольчиком на руле.
Кто-то на ней уезжал под утро, кто-то на ней приезжал под вечер, и мыл часто, и стекла протирал старательно, и получал, наверно, удовольствие – а почему бы и нет? – от скорости, от мягких сидений, от куколки под зеркальцем.
И вот я увидел: стоит машина в переулке, в неурочный час, хоть утро уже на исходе, и на крыле у нее вмятина, на правом переднем крыле приличная отметина от столба, дерева или другой машины, а стекло у фары выбито, и никель покорежен, и беззащитно глядит наружу целая почему-то, неразбитая при ударе лампочка.
Сколько потом ходил мимо, случайно или нарочно по переулку, но никто на ней больше не ездил, никто не чинил: то ли заболел хозяин от огорчения, то ли занемог попутно, – так и осталось оно загадкой.
На другой день вывернули целую еще лампочку, – почему бы не вывернуть? – и машина окривела на один глаз.
Еще через день вынули блестящий отражатель с патроном, и открылся ход, лаз, пустая глазница внутрь машины.
Потом была пауза. Недели на три. Будто принюхивались, присматривались, прикидывали степень дозволенного.
Ее можно было еще починить. За малые рубли подлатать, исправить, сделать новенькой. Был бы хозяин, были бы силы-желания.
Прокололи для проверки одно колесо, машина осела на бок, но хозяин не пришел, не подсуетился, не позвал на помощь милицию, и они, эти, из окрестных домов-дворов-палисадов, поняли: можно.
Ночью взломали багажник и уволокли инструменты с запаской.
Другой ночью грубо – ломом – задрали капот и унесли аккумулятор, карбюратор, разную мелочишку.
Теперь машина стояла покореженная, расхристанная, и около нее останавливались прохожие, изумленно, горестно, а то и с ухмылкой, качали головами, а кто-то – уже без стеснения – ковырялся с ленцой в моторе, отворачивал на виду у всех, складывал в мешок.
Но машина была еще заперта, и коврики лежали на сиденьях, и куколка болталась под зеркальцем, и кожаный чехольчик на руле... Вот я проходил мимо, и всякий раз казалось: глядит из дома человек, глядит печально и беспомощно, привалившись бессильно к подоконнику, отмечает потери и разрушения в собственной машине, и болезнь его, тоже по этапам, набирает степень дозволенного.
Прибежали наконец дети, влезли на крышу, прыгали с упоением, визгом, криком, проминая ногами слабое железо, и сразу стало ясно: теперь можно всё.
Прокололи остальные шины.
Взломали двери.
Рванули чехол с сиденья, будто платье рванули с плеча, и обнажили кожу шоколадно-атласную.
Унесли коврики, сиденья, руль с чехольчиком.
Куколке оторвали ноги.
Разобрали приборную доску, выдернули с мясом начинку: пучки проводов торчали наружу жгутами омертвевших нервных сплетений.
Машина стояла нараспашку, просевшая, промятая, с задранным, покореженным капотом, а в распахнутом ее багажнике плескалась дождевая вода.
Потом дворники укатили ее в конец переулка. Чтобы не портила им вида. Другие дворники прикатили обратно.
Уже отвинтили все фары. Сняли бамперы. Ручки с дверей. Замки. Пепельницы. Педали. Подняли на домкраты, сняли колеса, диски, тормозные цилиндры.
Потом внутри кто-то испражнился.
Машина лежала на пузе нелепым, промятым обрубком, и прохожие уже не останавливались, и дети уже не интересовались, и лишь изредка копошился еще кто-нибудь с гаечным ключом в руке в поисках позабытой детали.
Пришла зима, завалило снегом по самые окна, сугробы намело вокруг, – не подойти уже, не покорежить, – и болталась внутри, на студеном ветру, как в петле, позабытая всеми безногая куколка под разбитым давно зеркальцем.
Но хозяин так и не пришел...
9
Алик Сорокер, парикмахер, побежал суетливо к Стене Плача, записку сунул между камней: "Боже! Дай ей еще пожить!.."
Цветы на тумбочке.
Капельница над головой.
Иголка в вене.
В углу сидел хасид Вова и читал псалмы.
– Если петух снесет вдруг яйцо, – сказала Хана, специалист по источникам, – будет в доме покойник.
– Какой петух? – всполошился Алик Сорокер. – Вы бредите?..
А она глазами смеется:
– Петух-бормотух. Не велят по милу плакать, Сорокер, велят вздохи воздыхать...
И тогда Сорокер возрыдал молча и побежал к врачу:
– Берите у меня кровь! Для нее! Хоть всю...
– Ей не надо, – сказал врач. – Возьмем для других.
Другим он не дал.
Пришла в гости Любка Макарон, принесла коробку шоколада.
– Ты не разлеживайся давай. Живо-два заживет.
– А то нет, – согласилась Хана. – Берите шоколад. Женщина обязана есть много шоколада.
– Я лучше покурю, – сказала Любка и отвернулась.
Было тихо.
Хасид Вова начитывал псалмы.
Хану утягивало неприметно в глубокий туннель, но она не поддавалась.
– Главное, – сказала, – чтобы впереди было яркое, заманчивое, любопытное до невозможного. Есть – ты живешь. Кончилось – умер.
– Я тебе помру, – сказала Любка. – Мы с тобой летом на Кипр поедем. Отдыхать.
– У меня теперь бессрочный отдых. И ехать не надо. Ты не плачь, чужая тетка, не грусти, родная мать...
Любка ушла в коридор, курила в уголке, носом в стенку, а в холле сидели выздоравливающие и смотрели телевизор.
Вокальный ансамбль "Все там будем, хабиби".
– Боженька, – сказала Любка между затяжками. – Ты бы ей подсобил...
Пришагала с натугой Фрида Талалай, принесла апельсинчиков парочку.
– Вы сегодня лучше выглядите, – соврала. – Прямо красавица.
– Куда там, – согласилась Хана. – Красавица, от которой собаки бросаются. Вот умру, вскроют меня и ахнут: как же она тянула столько лет? Как жизнь перетерпела?
– Будет вам, – перепугалась Фрида. – Живите себе на здоровье.
– А чего? Вы не видели, случаем, такое объявление: "Переделка старых людей на молодых"?
– Нет, – сказала Фрида. – Я не видела.
– Я тоже...
И опять потянуло в туннель, но она удержалась на кромочке.
– Где вы, Сорокер? – позвала. – Где вы, Воронер?
– Я тут, Хана Семеновна. Я сыну звонил. Он у меня дантист. У него связи. Может, спросит у кого.
– Ох, Сорокер, Сорокер! Мне бы теперь другие связи. Поговорите со мной, Сорокер, пока не утянуло.
– Я, Хана Семеновна, – сказал с чувством, – скоро вас подстригать буду. Пора уже. Как только домой воротитесь.
– Вряд ли, Сорокер. Не надейтесь, Воронер...
И опять он побежал за врачом, вприпрыжку по коридору:
– Берите мою кровь! Хоть для кого!..
Поплакал наскоро в уголке...
– Вова, – позвала она. – Потом почитаешь. Дай лучше руку, Вова...
Но потянуло уже стремительно – не удержаться и не удержать – в глубину, в глухоту, в немоту со слепотой, удалялся без возврата Вова-хасид, светлым пятнышком в конце туннеля... но отлепилась от стены тень – нос пуговкой, руки потянула призывно, радостно повлекла за собой. "Вспомни, вспомни, друг любезный, вспомни прежнюю любовь..." – "Как скажешь, Анечка..."
– А я есть... смерть прекрасная... – сказала Хана издалека, из невозвратной уже глубины. – Пришла я тебя... воскушати...
В двенадцать часов ночи, с последним ударом пульса, Золушка перестает быть Золушкой.
И всё тут.
10
Самолет прилетел из Вены.
Малую привез группу.
Всего ничего.
Ждали за стеклом встречающие. Перетаптывались. Переговаривались. Выглядывали своих.
Бежал по залу мужчина в ушанке, в тяжелом драповом пальто, в туфлях на микропоре, плакал, смеялся, ладонью водил по стеклу, по лицам за стеклом, ладонью здоровался.
– Здравствуйте! Вот мы приехали!..
ЧАСТЬ II
РАССКАЗЫ ИЗ ДРУГОГО ПОДЪЕЗДА
1
Абарбарчук тоже был ребенком.
А как же!
Как все, так и он.
Шатун-Абарбарчук.
Это был непоседливый переросток с таким длинным носом и такой фамилией, которые не снести одному.
Но он нёс.
Пусть жизнь твоя течетъ
Спокойною рекою,
Усыпанная тысячью цветовъ.
И пусть всегда, всегда с тобою
Надежда, Вера и Любовь...
Он бегал босиком по берегу Днестра, долгоносый Абарбарчук, плавал по-собачьи до посинения конечностей, – на той стороне реки виднелось бессарабское село Сороки, до которого хотелось доплыть, – а, проголодавшись, валился навзничь под первую встречную козу, сосал неподатливое вымя, косил шныристым глазом, чтобы не набежала врасплох владелица козы, рукастая хозяйка, или властелин козы – рогатый козел.
Звали его по малолетству – Чук.
Остаток фамилии пылился до времени за ненадобностью, пока не выправили ему по зрелости паспорт и не припечатали навсегда: первый пункт – Абарбарчук, пятый пункт – ой!
Желаю быть счастливымъ,
Желаю горести не знать.
Желаю всеми быть любимымъ,
Прошу меня не забывать...
Насосавшись козьего молока, Абарбарчук пошел на Москву.
Шел до него Наполеон – той же дорогой, шел после него Гитлер: у Абарбарчука был свой интерес.
Запретное стало доступным, вот он и пошел.
На Москву шли многие.
Шел представитель вымерзающей народности: в Москве потеплее.
Шел парень-вострец: в Москве больше наложено в карманах и больше оттопырено.
Шел Ваня Рыбкин, воронежская порода: учиться на Ломоносова.
Шли Макароны, из глубинок оседлости: все идут, и они пошли.
А Лазуня Розенгласс всегда жил в Москве.
У Лазуни было первогильдейское право, от папы Розенгласса: "Розенглассъ и С-нъ, торговый дом – Никольская, 11".
Золотые изделия и часовой магазин.
Телефон – 30-64.
Меня не было еще на свете, когда он родился.
Я долго еще потом не жил.
Но я его хоронил.
Лазуня Розенгласс, мой родственник.
Два слова для тебя –
Люби и не забудь меня!
На память отъ искренне любящей мамы, Сокольники, 23-го июня 1902 года.
Голубой альбом с бордовым тиснением.
RELIEF-ALBOM.
"Учебныя пособия у Красных Воротъ".
"Ученика московского коммерческого училища 2-го параллельного класса "А" Лазаря Розенгласса – в Москве".
Мама Розенгласс ездила на воды в Карлсбад, а оттуда в Кранц, на морские купания.
Так советовали врачи.
Мама Абарбарчук покупала на базаре селедку за пятачок, резала ее на шесть кусков, каждый торговала по копейке.
Доход – прикиньте сами – копейка с селедки.
Хвост и голова не в счет.
Хвост и голову подъедали сами.
Но выходил уже в коридор, независимо отражаясь в тяжелых, дедовских, синевой оплывших зеркалах, бледный и вихрастый гимназист, что вскидывал кверху голову да бормотал наизусть, гневно и запальчиво:
– Всякое общество имеет свою цель и избирает средства для достижения оной... Необходимость Россию преобразовать и новые законы издать... Проект первых распоряжений по армии после переворота...
Соломон Розенгласс. Беспощадный экспроприатор. Который хотел впасть в бедность из принципа и экспроприировать собственного папу, но он не успел. За него это сделали другие.
Соломона убили на Пресне.
Пулей в грудь, головой с баррикады.
Следа от него не осталось.
Даже в Лазунином альбоме.
Я ни поэтъ,
Ни русский воинъ.
Залез в альбомъ
И тем доволен.
Сизов Никола.
Папа Розенгласс с мамой Розенгласс уехали в восемнадцатом году за границу.
С собой у них был только один чемоданчик такого внушительного содержания, которое кормило их до самой смерти.
Умерли они в Палестине, вроде бы, в Петах-Тикве, и могила их затерялась.
А Лазуня Розенгласс умер в Москве.
Это точно: я сам его хоронил.
Он не поехал с родителями, Лазуня Розенгласс. Он был молод тогда, любознателен и очень хотел поглядеть, чем же закончится этот эксперимент.
Его могила тоже затерялась.
Ха-ха-ха! Два стиха.
Хи-хи-хи! Все стихи.
От Кати Макъ-Гилль, 23 августа 1904 года, Сокольники
Абарбарчук долго шел на Москву, путь был извилистый, из теплушки в тифозный барак, но он всё же дошел.
На одном из перегонов страшила-казак пугнул вагонное население – баловства ради – длинной своей саблей, и Абарбарчук тут же замотал голову полотенцем, как от зубной боли, запрятав свой несравненный нос до лучших времен.
Худшие времена – это когда бьют.
Лучшие – это когда не бьют, но могут ударить.
На заставе его выглядывала Фрида.
Она выглядывала его из окошка не первый уже год, потому что в девушках тоже не сладко, а когда ты весь день кроишь лифчики, всякие мысли лезут в голову даже самой порядочной девушке.
Фрида Талалай напоила его водой и повела к папе.
Папа Талалай оторвался с неохотой от Книги и задумался: Абарбарчук – редкая для еврея фамилия.
И тогда он размотал полотенце на голове, обнажил неопровержимое свое доказательство, папа Талалай просиял, и дело было сделано.
В дверь позвонили.
Я открыл.
Солнце безумствовало на улице, солнце вторгалось во все углы, и даже в тени притаилось яростное полуденное солнце Иудейских гор.
Между прохладой комнаты и жаром улицы провисла тонкая взвешенная кисея.
На пороге стоял ребенок. Замечательный мальчик. Сам на улице, носом пробивал кисею.
– Здравствуй, – сказал он и прошел в комнату.
– Здравствуй, – сказал я. – Чего скажешь?
– Пришел проверить, как вы живете.
Он ходил по комнате, осматривал мебель, стены, книги, весь нехитрый уют временного нашего жилья, а я терпеливо ожидал приговора.
– Ну как? – спросил я.
– Вы живете прекрасно, – строго сказал он и ушел за порог, как окунулся в золото.
– Ты кто? – крикнул я вслед. – Абарбарчук? Розенгласс? Сорокер-Воронер?
Он даже не обернулся.
Адье-адье – я удаляюсь.
Луанъ де ву – я буду жить.
Ме сепандантъ – я постараюсь
Жаме, жаме – васъ не забыть.
Дурилин Михаилъ
2
Две старушки без зубов говорили про любовь.
Криком.
От глухоты своей.
Соня и Броня.
– Граф Лев Николаевич Толстой первым открыл нам русского крестьянина, за что огромное ему спасибо...
У подъезда стояла скамейка.
Узкая да короткая: только зад прислонить.
Ерзал по скамейке в непрерывном шевелении смятенный и порушенный старичок-заеда, протирал до дыр форменные штаны с кантиком: заплаты не поспевали ставить.
Никак не хотел примириться со скамейкой, с пенсией, с остановленной насильно жизнью: самое время уедать-уличать-выводить на чистую воду всех этих нарушителей-отступников-уклонистов, да только власти не стало.
Жизнь позади форменная, как штаны с кантиком.
Путь позади укатанный, как катком по врагам.
Цель впереди грандиозная: без него не сладить.
И он всё ерзал да ерзал по сиденью, истирая в исступлении копчик: вот прибегут, вот позовут, вот уж он вгрызется клещом – не оторвать. Да подрастали вокруг новые заеды с несточенными еще зубами: их теперь черед.
– Я научу, – бормотал. – Я подскажу. Я человек в запасе, мне есть что сказать...
Подъезд был заколочен.
Две неструганные доски крест-накрест и ощеренные гвозди вовнутрь.
Гвозди проржавели до красной рыжины, в трещинах асфальта проросла трава: жильцов выселили, квартиры заперли, ремонт не делали; где-то там решали – не могли решить, чем стать этому дому в конце концов: жильем или учреждением.
Пять этажей. Лифт. Чердак. Подвальные помещения. То ли плохо.
Две старушки без зубов сидели на той же скамейке, воробышками на проволоке, и дружно взбалтывали ногами.
Они тоже были детьми в свой срок, Соня и Броня, хоть и трудно в это поверить.
Более того: мы все были когда-то детьми, да-да! – но об этом мало кто помнит.
Самое лучшее в нас – это ребенок. Остальное значительно хуже.
Вышел продышаться перед сном неотразимый лейтенант Потряскин, похрустел амуницией в свое удовольствие, поиграл тугими ногами, укладывая в галифе мужское свое хозяйство, – тоже сел на скамейку.
Лейтенант Потряскин приехал учиться в бронетанковую академию и потому квартировал за занавеской у волоокой Груни, нимфы местного значения.
На своих харчах да на ее покладистости.
Груня не была преисполнена добродетелями, но женскую свою службу несла исправно.
Она всегда говорила то, что думала, а если о чем-то думала, тут же об этом говорила.
– Рай, – сообщала Груня по утрам, на коммунальной кухне, – это когда вечно кончаешь.
И бронебойный Потряскин не возражал.
Кстати сказать: заеда тоже был ребенком в свое время, хоть и отрицал это категорически.
У него не поворачивалась голова, у старичка-заеды, и оттого он глядел только вперед.
Зато у него поворачивались уши.
На звук, на свет и на запах.
Еще он запирался в туалетной кабинке, когда приходилось снимать штаны.
Не иначе, хвост прятал. Или кран. Для слива охлаждающей жидкости.
Еще – цокал по паркету, когда ходил босиком, – может, он и правда не был ребенком?
Выращен в колбе, на питательных бульонах, заслан в массовых количествах из глубин Галактики – для потрясения тутошних основ: многое тогда проясняется, случившееся в нынешнем столетии.
Может, это была чья-то дипломная работа?
Чтобы у себя на планете не пакостить.
Поджог рейхстага – четыре с плюсом.
Коллективизация – три с минусом.
Вторая мировая война – зачет...
Вышел из подъезда Усталло Лев Борисович, сел на ту же скамейку.
Он был великий закройщик, этот Усталло, и работал в "органах", в портняжной мастерской.
Из его мастерской уходили в кабинеты богатыри, герои, писаные красавцы, Микулы Селяниновичи и Ерусланы Эдмундовичи, крутогрудые и широкозадые; один лишь Усталло знал, сколько ватина пошло на это, простроченного холста и конского волоса.
Он видел их в одном белье, эти "органы".
Видел их сметанными на белую нитку.
Видел их без рукавов и подкладки.
Все их бородавки, болячки, грыжи и потертости видел он. Все их цыплячьи грудки и рахитичные ножки. Животики и сутулые спины. Даже органы этих "органов"видел он!
И потому он был засекречен, Усталло Лев Борисович, и на старости лет не смог выехать на свою историческую родину.
– Папа, – кричала Любочка в аэропорту, – мы тебя ждем! Мы тебя ждем, да, папа?! Мама, да?! Мы вас всех ждем! Всех-всех!..
– Димочку подними! – кричал в отчет Усталло Лев Борисович. – Димочку!..
И тянулся кверху на цыпочках, чтобы увидеть в последний раз.
– Я, – сказал вслед самолету, – боюсь не дожить...
Выглянул из подъезда Лазуня Розенгласс, человек, который просвечивал, привалился у скамейки на краешке.
К старости накапливаются в теле килограммы омертвевших клеток.
Так и тащишь их на себе – бесполезным грузом.
А ведь он выпрыгивал, бывало, из подъезда, единым скоком в пролетку на дутиках – и с ветерком, по Пречистенке.
Чихнет в надушенный платочек, а лихач-бородач степенно ему, по-старинному:
– Салфет вашей милости!
Лазуня на это, как и положено:
– Красота вашей чести!
И к "Мартьянычу" – пить, петь, декламировать стихи.
Цветы мои пугливые
Завянутъ какъ-нибудь.
И люди торопливые,
Несчастные, счастливые,
Затопчутъ весь нашъ путь...
Скамейка была крохотная, на одного – не больше, но умещались на ней все желающие.
Потому что рассредоточились они во времени.
Потряскина убили в сорок втором году.
Волоокую Груню сослали за сладострастное поведение.
Старичок-заеда ушел в дом для престарелых республиканского значения, сточив зубы до десен.
Две старушки без зубов умерли от недоедания в промежуточные времена.
Они сочувствовали всем обездоленным на свете, Соня и Броня, но им не сочувствовал никто.
Лазуня Розенгласс сник по старости, хотя старым еще не был.
Лазуню схоронил я.
Дольше всех продержался Усталло Лев Борисович.
Ему нужно было разрешение на выезд, чтобы увидеть внука своего Димочку, но он его так и не получил.
Потому что знал чересчур много.
3
Под вечер, когда немного захолодало и звезды пали на небо, пришел к подъезду тяжеленный мужчина, невиданный в здешних краях.
Сел на скамейку, посопел непомерным носом, покосился на заколоченный подъезд внимательно и осторожно.
Это был Абарбарчук, скорее всего, которому не сиделось на месте, но в темноте трудно разобрать.
Томления души он утишал шевелениями плоти, а, нашевелившись, возвращался домой и затихал до поры.
Шатун-Абарбарчук.
Всю жизнь ему хотелось куда-то сбежать.
Куда-то и от кого-то.
Быть может, это бунтовала не без причины его битая веками, повизгивающая от ужаса семейная память?
Он не был суетливым по природе, Шатун-Абарбарчук, промежутки между шатаниями заполнял дремотным существованием, вялым исполнением надоедливых обязанностей, пока не нарастало очередное томление, которое следовало утишить.
Но и на новом месте ему снова хотелось сбежать.
Куда-то и от кого-то.
Фрида знала за ним такую беду и утром надевала на него белую рубаху.
В белой долго не пошатаешься, воротишься под вечер с грязным воротничком.
Он был брезгливым, Шатун-Абарбарчук, и Фрида этим пользовалась.
Еще он был разборчивым в еде, и Фрида кормила его фаршированной рыбой по пять раз на неделе.
Рыба полезна.
В рыбе фосфор.
– От твоего фосфора, – говорил Абарбарчук, – я уже свечусь по ночам.
Но ел.
Были у него когда-то темные рубахи, но Фрида порвала их на тряпки.
Так оно надежнее.
Одну рубаху он припрятал на всякий случай, и утром – Фрида не доглядела – прихватил в сумке с собой.
Дом глядел на него через пылью заросшие окна.
Тени от фонаря – ликами за стеклом – потихоньку сдувались ветром, бледные, смытые временем.
Дом не подавал признаков теперешней жизни, дом выглядывал наружу ликами прошлого, и он просидел дотемна, спокойно и расслабленно.
– Отдайте мне этот дом, – попросил представитель вымершей народности. – Я в нем музей сделаю.
– Музей кому? – заершились законополагающие.
– Тем, кто вымер.
– Да ты что! – ответили. – Нет у нас вымерших. У нас никто еще не вымирал без согласования. Все у нас здоровые, вечно живые.
– Но вот же он я, единственный, который на свете! Вот же язык мой – поговорить не с кем!
– Ты его сам выдумал, этот язык.
И пощурились на него, стали нехорошо оглядывать.
Он туда, он сюда: допустили его в самый закрытый архив, к самой заветной папке, а там пусто. Нет ничего про этот народ, – может, его и вовсе не было?
Так кому же тогда этот музей?..
Он встал наконец со скамейки, шагнул к подъезду, рывком отпахнул дверь вместе с доской.
Оттуда пахнуло пылью, трухой, затхлостью, слабыми запахами давно пригоревшей пищи.
Подползла на ветерке старая, ожелтевшая газета – пугливым, облезлым псом – и распласталась на затертом кафеле, у ног властелина.
Просторный бельэтаж. Широченные площадки. Переплетчатые окна во двор. До высоченного потолка двери квартир. Лифт в укромной пазушке. Узорные решетки закругленных перил.
Пузом по перилам просквозил донизу Соломон Розенгласс, несостоявшийся экспроприатор, по дуге вылетел на улицу.
– Антипка беспятый... – шелохнулась на этаже вечная вдова Маня. – Вот ужо запечатают тебя в тюрьму.








