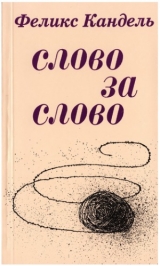
Текст книги "Слово за слово"
Автор книги: Феликс Кандель
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 8 страниц)
СЛОВО ЗА СЛОВО
ЧАСТЬ I
РАССКАЗЫ ИЗ ОДНОГО ПОДЪЕЗДА
1
Скорее всего, Абарбарчук был евреем.
Так я теперь думаю.
Или представителем вымирающей народности.
Сейчас этого уже не проверить, но сомнения остались.
Дюжий, ражий, нос наперевес.
Он появился где-то там, в прошлом, в сорок каком-то послевоенном году: в сапогах-галифе-портянках, с офицерской планшеткой через плечо и с такой чудовищной щетиной на щеках, будто скосили на них по осени яровые и осталась засохшая стерня – жесткая, колкая, густо-несминаемая.
Может, он был пришельцем с иной планеты?
Еврей-пришелец, – а почему бы и нет?
Многое тогда объяснимо...
Милочка, евреечка,
Скажи, которо времечко.
Времечко девятый час,
Идем на станцию чичас...
В нашей школе он работал военруком. Военным руководителем. Наставником подрастающего поколения. Заставлял нас маршировать и отдавать честь, примерять противогазы и разбирать затворы, – какого черта он выплыл в моей памяти тут, в Иерусалиме?
Кроме того, он был парикмахером.
Стриг, брил, поливал без разрешения вонючим одеколоном для прибавки к зарплате.
Ах, Абарбарчук, Абарбарчук, парикмахерская твоя душа!
Томный взгляд, пробор на кудрях-воланах, гитара с бантом:
– Ты рассейска вольна пташка, воспремилый соловей...
Нет, он не был парикмахером, это я всё перепутал, – дурацкий дурак, идиотский идиот, кретинский кретин!
Он сидел в кресле, в парикмахерской на Арбатской площади, укутанный по уши в белую простыню, и кто-то колдовал над его буйной порослью, – а я ждал в очереди.
Еще ему подстригали волосы в ушах.
Оттого и зацепилось: Абарбарчук – парикмахерская – белый халат – удушающий запах цветочного одеколона.
Он не был парикмахером, как я теперь понимаю, да и евреем – сомнительно.
Абарбарчук? – а впрочем...
Он был Золушкой, да-да! – многое тогда проясняется.
Золушка Абарбарчук.
В двенадцать часов ночи, с последним ударом курантов Золушка меняет свой пол...
Он появился в нашей школе в несытом еще сорок каком-то году, но орденов не носил и нашивок за ранения тоже. Был ли он контужен, был ли он списан по болезни, был ли он дезертиром – был ли он?
Абарбарчук.
Дюжий и ражий...
Он ехал на машине, уцепившись за руль, и встревоженным глазом новичка оглядывал встречные знаки: "Поворот налево", "Остановка запрещена", "Крутой уклон".
И вдруг знак! Незнакомый! Черное, и кукиш беленький.
Встал.
Забоялся.
Спрашивает у деда на приступочке:
– Дедушка, это что за знак?
– А это, чтоб ты знал, – "Конец жизни".
Заглох:
– Чьей?..
– Твоей, – чьей еще?
– Тогда я не поеду под него. Я развернусь, дедушка.
– Давай.
Развернулся –и сзади знак. Черное, и кукиш кверху.
– Деду, и там конец?
– И там.
– Чего же теперь делать?
– Чего делать? А ничего не делать. Душой возносись.
– Как, дедушка?..
Чуть не позабыл: Абарбарчук не отбрасывал тени. Или тень не отбрасывала его. В любом случае это было подозрительно и наводило на размышления.
Он выстроил нас на асфальте, на припеке перед школой, браво ступил вперед чищеным сапогом и крикнул на всю улицу к восторгу местных старушек:
– Здравствуйте, товарищи школьники!
А мы, шпана мелкозубая, арбатская, смоленская, пресненская, шептуны, сморкуны и завиральники, рявкнули дружно в ответ, к ужасу тех же самых старушек :
– Хайль Гитлер!
Дальше провал.
Захочешь – не вспомнишь.
Память отказывается служить дальше и старательно подсовывает взамен фактов накатанные глупости сюжетов.
Его арестовали.
Его погнали из школы.
Он выгнал нас.
Мы повинились.
Он не перенес позора и застрелился из трофейного парабеллума.
Глупости! Откуда у пришельца парабеллум?..
Если уж он контужен, так пусть ходит по электричкам, из вагона в вагон, тянет руки, трясет головой, косит наглым глазом:
– Братья и сестры! Пусть каждый поможет, кто сколько может! Беру рублями, беру слезами, беру сочувствием...
Больше я о нем ничего не знаю. Не помню. Не пересекался путями. Он запирался в своем кабинете от настырных взглядов, кипятил на плитке воду, швырял туда промерзшие пельмени с мясом, чтобы закусить после стакана водки, – но это уже директор школы, хромоногий горбыль, это не Абарбарчук. У того не было своего кабинета, да и он, скорее всего, не пил в школе, чтобы не застукали.
Он был интендантом в лучшие времена, так мне порой кажется: капитан Абарбарчук, сапоги с подскрипом, и возил в армейских тылах вагон винограда к скорой победе.
Виноград был переложен стружкой, брусками льда, и на встрече с американцами Абарбарчук блеснул своим неслыханным сюрпризом.
Роскошные "дамские пальчики" под армянский коньяк: сам маршал Жуков пожаловал ему орден.
Он носился на виллисе, с автоматчиками, бравый капитан Абарбарчук, по завоеванной Германии, – а потом всё закончилось: гражданка, поиски работы, неприкаянные друзья с пугаными глазами, бесконечное до озноба слово – кос-мо-по-ли-тизм.
И танком прошла по нему жизнь.
Он торговал эмоциями, бедный Абарбарчук, эмоциями вымершей народности – не пропадать же добру, а с этого не ожиреешь.
Помню, он выстраивал нас в школьном коридоре и командовал, играя голосом:
– Через вестибюбель! С песнями! Арш – два – арш!..
Хотя нет, это был не он и не там. Это полковник Довгань в институте, лысый и лаковый, – отдельный о нем рассказ.
Довгань годился Абарбарчуку в отцы.
Отец – Довгань, сын – пришелец.
Мы лежали под навесом, на штабелях из авиационных бомб, и курили потихоньку в кулак, чтобы не застукали командиры. Самолеты улетали по заре на учения, бомбить болота в белорусских лесах, техники заваливались под брезент досматривать сны, а он приходил к нам под навес, инженер эскадрильи: пуганый, облеченный полномочиями, которых не снести.
– Я понимаю, – говорил он. – Я всё понимаю. Тоже учил. Жуковский. Отец авиации. Крыло с профилем. Сверху скорость больше, снизу давление: подъемная сила, это я всё понимаю. – И косил замученным глазом: – Но как эта стерва, эта сука, эта падла – сто тонн с довеском! – он уже кричал, пуская пузыри, – как она на воздухе держится, почему не падает, – этого я не по-ни-маю!!..
И курил потом долго, жадно, со стоном, пепел сбрасывая на бомбы, словно участвовал в мерзком надувательстве и не мог из него выскочить. Вот-вот раскроется обман, и попадают с неба самолеты: Жуковский умер, ему что, а инженеру отвечать...
Мы тогда похохатывали над ним. Чего там сложного? Жуковский. Крыло с профилем. Подъемная сила. Технарь-тупарь... Теперь я гляжу на простенький калькулятор, что лежит у меня на столе, и брови поднимаю горестно. Как же эта сука, эта падла, эта стерва японская так быстро перемножает? Как же она синусы выдает, проценты с косинусами, даже не задумавшись? Впихнули в каждую коробку по крохотному головастому японцу-математику, вот он и соображает на скорости, народу на обалдение: японцы – они могут!
Но причем тут Абарбарчук?
Абарбарчук-сан.
Ведь он же не был японцем.
Евреем, – и то сомнительно.
Разве что галифе, как у инженера эскадрильи...
Светлана и Людмила – офицерские жены.
Николай и Виктор – их мужья.
У них была игра, у летчиков-технарей, со скуки аэродромной сытости, розыгрышей, политзанятий и анекдотов, бешеных гонок по ночам к далекому полустанку, где проводники скидывали с переплатой водку ящиками. По понедельникам, после загульных воскресений, им не доверяли технику, а держали в классах, пыльных и затхлых, накачивали политграмотой. Сонные, вялые и тупые, они накрывали ладонью часы и шептались через проход, не прерывая занятий:
– Махнемся, не глядя?
Кому доставались золотые, кому штамповка, кому – циферблат без начинки: народу на радость.
Ах, Абарбарчук, Абарбарчук, ну почему ты всплыл вдруг в памяти, как пельмень в кипятке, ночью, на продувной иерусалимской улице, когда я подрагивал от сырого озноба, а Кекс таскал меня на поводке от дерева к дереву и никак не желал опростаться?
Если ты не еврей, Абарбарчук, то что тебе делать в Иерусалиме?
– Махнемся, не глядя? – сказал Абарбарчук без интереса и зевнул со скуки.
И мы махнулись душами...
2
Кто видел, как бегут слепые?
Я видел, как бегут слепые.
Не дай вам Бог увидеть такое!
Они откидывают плечи назад, они отворачивают голову вбок, они высоко забрасывают колени – вот как бегут слепые.
Их бег не вперед, а вверх. С большим наклоном назад.
Чтобы не удариться лицом о стенку. Не споткнуться о камень. Не упасть с разбега в канаву, которая на пути.
Им страшно, слепым, им жутко и беспомощно. Будто циркуль – врастопырку – караулит их своими остриями. Будто финишем – на уровне слепых глаз – станет им безжалостный никелированный циркуль.
Я стоял на ветру скорчившийся, продрогший, продутый насквозь и заледенелый, вцепившись скрюченными пальцами в железные прутья решетки.
Там, за забором, на подмосковной станции Болшево, где разлито по закрытым дачам упоительное чувство избранности, виднелся дом на пригорке, обсаженный деревьями, школа-интернат для слепых. Перед домом – травяная площадка-стадион, и слепые мальчишки, слепые, не зрячие, сдавали там нормы по бегу. Метров пятьдесят им было бежать, метров пятьдесят, не больше: бесконечные метры в темноте.
Командовал этим делом маленький, упитанный мужичок-физкультурник в шерстяном тренировочном костюме, сдобный и румяный от вечного безделья и неограниченной казенной пищи, остатки от которой, недоеденные персоналом, сваливали на прокорм поросятам.
– Направление! – кричал он с финиша бодреньким тенорком, и очередной мальчишка на старте вытягивал в его сторону покорную руку.
– Пошел! – кричал он, и тот бежал.
– Так-так-так, – покрикивал деловито, чтобы не отклонялся, выходил прямо на голос.
Бег в темноте, – кто это может?
Зажмурьтесь и попробуйте, вытянув руки, вскидывая ноги, ухом вперед, чтобы слышать команду, на каждом шагу перепрыгивая невидимые ямы, от ужаса переходя в галоп, лишь бы поскорее закончились эти проклятые метры.
– Так-так-так, – покрикивал, как подстегивал, румяненький мужичок.
И снова:
– Направление!
И снова:
– Пошел!
И снова:
– Так-так-так...
Я стоял на ветру час, не меньше, позабыв про время, про дела, про ноги свои закоченелые. Я стоял у железного забора, как у клетки, – снаружи ее или внутри? – и стонал, и тосковал, и плакал непролитыми слезами. Холодно было мне – ах, как холодно! – в нежданном моем прозрении. Страшно было мне – ах, как страшно! – в мгновенном моем озарении. Это я, те слепые, – я, это я! – что бежит раз за разом, в темноте, в слепоте, в погоне неизвестно за чем, под случайные окрики равнодушных командиров.
– Направление! – кричат мне всю мою жизнь.
И я покорно вытягиваю руку.
– Пошел! – кричат мне.
И я бегу.
– Так-так-так! – кричат.
И я ориентируюсь на голос.
Кто он, что знает истинное направление?
Кто они, что подстегивают нас?
Боги? Дьяволы? Возомнившие о себе слизняки?..
Бежишь от себя вечно, бежишь бодро-весело на чей-то призыв, веря поначалу и надеясь, спотыкаясь и падая, расшибая о камень колени, в кровь разбивая лицо о стенку или об услужливо подставленный кулак, что подстерегает в темноте.
– Так-так-так...
И снова:
– Направление!
И снова:
– Пошел!
Снова и снова...
От светлой любви и от легкой влюбленности, от зова трубы и шелеста обманных знамен, от зажигательных речей и случайных кличей ты возвращаешься однажды понуро назад, к себе, в себя, в дом свой опустелый, что ждал тебя терпеливо всё это время. И остаешься один, и наслаждаешься отдыхом, покоем, прохладой чистого помещения... но вот уже засосало потихоньку, промелькнула первая грусть одиночества, тоска, отчаяние от напрасно утекающего времени, и – куда? зачем? ради чего? – ты бежишь от себя по первому зову трубы, за первыми глазками прелестницы, по случайному мановению равнодушно-плакатной руки. И снова, нахлебавшись, насытившись, наглотавшись, извозившись по уши в дерьме, ты возвращаешься в который уж раз назад, в себя, в себя как в спасение, будто под очистительный душ, чтобы смыть липкие взгляды-прикосновения, прочистить уши от скопившихся там призывов, и приживаешься в доме своем, таком прохладном и чистом, и укладываешься уютно, как на ночь, под маминым пуховым одеялом, и тебе уже покойно, покойно и удобно: один покой нам дан – в самом себе. Не надо притворяться, не надо играть в чужие игры и нравиться другим, и умно беседовать, и поддакивать, и подмигивать, и терпеть фамильярности пошляков, и отделываться глубокомысленными междометиями: не надо, ничего этого не надо. Но берегись! – при очередном возвращении ты можешь не обнаружить дома своего, или иссякнет живительная вода из-под душа, или объявятся в родных тебе окнах торчащие рыла ненавистных постояльцев.
Берегись! – ты хотел этого.
– Направление! – давно уже кричишь сам себе.
– Пошел! – кричишь.
– Так-так-так!
И ориентируешься на собственный окрик...
3
У старика Талалая была дочка.
Фрида.
Он ее любил.
Она съела кусок мяса.
За ужином.
Он ее простил.
Хоть и нарушила закон, смешала мясное с молочным.
Старик Талалай был хил телом и силен духом. Старик Талалай был беспощаден к себе и лучист к другим. Он не был Богом, старик Талалай, чтобы требовать, указывать и карать. Он дожил на едином дыхании до девяноста семи невозможных лет, а перед смертью сказал, как хоронить, сколько дней траур, что читать, кому и когда. Умер без болезни, не мучаясь, просто остановилось сердце, как кончился завод.
Теперешние так не умирают.
Его похоронили на кладбище, на лобастой горе, что нависла над дорогой, и было десять мужчин, как положено, и правнук читал кадиш, и у распорядителя похорон торчала в руке говорилка с антенной. Он переговаривался с кем-то по ходу дела, этот распорядитель, будто докладывал Господу Богу, что Талалай уже отправился в путь, пора готовить оркестр для встречи и открывать ворота: Талалай заслужил.
Фрида отгоревала после похорон положенные семь дней, а к ней заходили соседи и отвлекали разговорами.
– Вам это будет интересно, – сказала интеллигентная Хана. – Из полезных советов. В 'Русской мысли" написано, как покупать сельдь в магазине.
– Как покупать сельдь, – повторила Фрида без вопросительной интонации, иначе это было бы неприлично в дни траура.
И Хана прочитала с выражением:
– "При покупке в магазине свежей сельди прежде всего убедитесь, что она по-настоящему свежая. Для этого загляните сельди в глаза: если глаза красные, значит, она свежая".
– Загляните сельди в глаза, – повторила Фрида. – Если глаза у нее красные, быть может, она плакала перед смертью?
И пустила слезу на ворот.
Интересное дело! Откуда у Ханы в Москве парижская газета "Русская мысль"?
И почему ее зовут Ханой, а не Анной Семеновной?
Дураки дурацкие, идиоты идиотские, балбесы балбесские! – пора бы уж догадаться, что Фрида живет в Иерусалиме.
У нее квартира окнами на Бейт-Лехем.
У нее солнечный бойлер на крыше.
У нее фотография на стене – небритый мужчина, дюжий и ражий, с таким выдающимся носом, будто это не фото, а барельеф.
У нее сосед, у Фриды, над головой – неопознанной национальности.
Идиш он не знает. Русского он не знает. Фрида Талалай в сомнении.
Уж не пришелец ли?..
А мужчина со стены только смотрит на Фриду и подсказать не в силах.
Мужчины – они такие глупые.
Фрида отработала всю жизнь, в артели и на дому, кроила лифчики на заказ размером с авоську, кроила картузы – с грецкий орех. Обладатели нестандартных тел, набегавшись без пользы по магазинам, обращались за помощью к Фриде, и она не отказывала.
С заказами было хорошо, и этот, носатый, помогал по вечерам, когда был завал. Путался. Искалывал руки иголками. В сердцах говорил слова, которые Фрида знала, но не понимала. Портил индивидуальную продукцию.
Скроил картузы размером с авоську.
Нашил козырьки на лифчики.
Настрочил кепки из розового батиста взамен бюстгальтеров: и там, и там – клинья.
Мужчины – они такие путаники.
В два часа ночи он выходит на лестничную площадку, укладывается аккуратно на холодную плитку и криком будит подъезд.
Днем спит – ночью кричит.
У него рубаха до пупа. У него цепочка на шее. У него такие короткие шорты, что проглядывает декольте на заду.
– Я великий! – кричит он на древнем языке. – Я неповторимый! Я не могу прожить на одну зарплату!..
И стукается головой о плитку.
Уж лучше бы он ходил по электричке, из вагона в вагон, потрясал протезом, грозил культей, гнусавил через редкие зубы:
– Не отдай, папаша, замуж, я молоденька горазд...
Вмиг бы насобирал на бутылку.
Он лежит на лестничной площадке, а жена его спрашивает из квартиры, позевывая:
– Кофе тебе сварить?
– С сахаром, – заказывает он и кричит дальше: – Я избранный! Я отмеченный Богом! Я не могу прокормить детей!..
Дети у него в интернате, все трое, но дела это не меняет.
Сонный инженер Макарон выползает из квартиры и с ненавистью пинает его тапочкой:
– Сейчас полицию позову...
И мучается потом от стыда: русский гуманист.
– Полицию! – кричит сосед. – Хочу в полицию! Позовите! Хоть кто-нибудь! У меня нет телефона!..
Конечно же, он пришелец. Или представитель вымершей народности. Он хочет куда-то, к своим, но позабыл – куда. И ломится в соседские двери.
Приезжает полиция, уводит его, довольного и умиротворенного, и всё затихает до завтра.
У нее сосед над головой, у Фриды, занимательности чрезвычайной, а она тоскует по соседке.
В двенадцать часов ночи, при пересечении государственной границы, Золушка меняет национальность...
Каждое утро, на кухне, та подходила к Фриде и шептала на ухо, не разжимая губ:
– Петренки возле моей двери занимаются тем, чем положено заниматься в спальне.
И уплывала к себе: старуха – толстое брюхо.
Ее комната выходила на кухню. Это ее унижало, и это ее угнетало. Весь чад шел к ней, запахи газа, бренчание кастрюлек, соседские пересуды с тараканами. Двадцать семь бесконечных лет она просила, чтобы замуровали эту дверь и пробили проход в другую квартиру. Двадцать семь лет ей отказывали.
– Я в садике как управляюсь? – кричала на кухне воспитательница Петренко и голосом прошибала стенку, ковер, два одеяла, накинутую на голову подушку, ватой забитые уши. – Я в садике так управляюсь. Откроешь форточку пошире, просквозишь сопляков – назавтра благодать, половины нету.
Она не разговаривала ни с кем, старуха – толстое брюхо. С одной только Фридой. И то шепотом. Выскакивала на кухню из комнаты-засады мохнатым пауком, пузатая, проворная, остроглазая, хватала цепко, утаскивала к себе и оплетала разговором, высасывала новости и слухи, отбрасывала пустой шкуркой, сидела потом взаперти, переваривая услышанное. И выскакивала назавтра.
Когда принимала душ, надевала старые галоши, чтобы не становиться в ванну босыми ногами. Эти Петренки и в ванной занимались тем, чем положено заниматься в спальне.
Спальни у Петренков не было.
Петренки жили в крохотном закутке с замужней дочерью и внуками и, естественно, ходили порой в ванную по личным неотложным делам.
Бог да простит Петренков!
Но старуха никого не прощала.
Летними месяцами она подрабатывала в парке культуры, сидела на контроле в комнате смеха и страстно ненавидела весь этот хохочущий, гогочущий, икающий и рыгающий от наслаждения мир Петренков – кривой, косой, растянутый глистой, сплющенный и коротконогий, что отражался в ее замечательных заркалах.
– Что ты хочешь? – говорил на это старик Талалай. – Она не вышла еще из блокады. Ее понять надо.
Старик Талалай говорил мало и коротко, чтобы не отрываться от Книги. Бог даровал Талалаю долгую жизнь, чтобы он мог начитаться, и Талалай начитался всласть.
– Я ее понимаю, – говорила в ответ дочь его Фрида. – Кто только меня поймет?
Старуха – толстое брюхо написала письмо. Заказное. Высокому начальству. "Так, мол, и так, имея опыт голодной блокады, чтобы улучшить жизнь и прибавить питания народу, предлагаю делать варенье из зеленых помидоров. Вкусно. Дешево. Я пробовала. Чай, хлеб с вареньем – вот и еда".
Долго не было ответа. Месяц, пожалуй. А то и три. Думали, наверно. Решали. А может, варенье варили на пробу. Потом пришел конверт – "Правительственный". "Уважаемая гражданка! Большое вам спасибо за заботу. Но сейчас уже не те времена, война давно прошла, жить стало легче: варенье из зеленых помидоров делать теперь не стоит".
Позвала Фриду.
Заперла дверь от Петренков.
Показала письмо.
Поахали – пощупали – почитали, потом выпили чайку с вареньем из зеленых помидоров. Намажешь на хлеб – вот и еда, пенсионеру прибавка.
Когда Фрида собралась в Иерусалим, та спросила с натугой:
– Там хоть газ-то есть?..
Попили опять чайку. Поели Фридин торт. Откушали напоследок варенье из зеленых помидоров.
Ночью, с огорчения, старуха прорубилась через стену в соседскую квартиру.
Без разрешения. Без инструментов. Одной только яростью и тоской.
А у соседей, за стеной, та же кухня. Только потеснее, погрязнее и тараканов побольше.
И стало у нее два выхода.
Два выхода на две кухни...
Фрида теперь в Иерусалиме.
Дети отдельно.
Внуки навещают нечасто.
Выходит вечером на автобусную остановку, садится на лавочку, оглядывает переливы огней внизу, редких прохожих.
Город затаился в ночи. Город перемигивается спросонья огнями. Холодом тянет с далекого неба, холодом тянет от города, будто нет ему дела до Фриды, а на рассвете – глядишь – раскинулся на виду, разметался по холмам во сне: доверчивый и прекрасный.
Фриде грустно по вечерам.
Фрида тоскует на лавочке.
Временами Фрида отбрасывает две тени: свою и Абарбарчука.
4
– Ваня, – сказала она категорически. – Для спанья время от Бога присуждено – полдень.
– Это кто постановил? – спросил он.
– Мономах.
Было стыдно.
Они только женихались.
Тахта звала к себе новой хрустящей простыней, купленной на скорую свадьбу.
– Как скажешь, Анечка.
И она забеременела.
– Ты не для меня создан, – говорила она в дреме. – Слишком уж это расточительно. Ты создан для всех женщин. Чтобы взрывались с тобой в радости и опадали в печали. Но я тебя никому не отдам.
– Как скажешь, Анечка.
Так его и прозвали.
"Города Олонца поп Иван Окулов, собрав охотников пеших с тысячу человек, ходил за рубеж в свейскую границу, и на тех заставах шведов побил многое число, и взял рейтарское знамя, барабаны, и шпаг, фузей и лошадей довольно..."
На этом она остановилась и пошла из архива в декрет.
Рожать сына Вову.
– Как там Владимир Иванович? – спрашивали сослуживцы по телефону. – Проклевывается?
– На выходе, – отвечала. – Скоро уже обещались.
– Кончай, Анька, – кричал начальник. – У меня работа стоит.
И она родила досрочно.
Родила Ване сына Володю и на том остановилась.
– Хватит, Ваня. Меня в архиве ждут.
– Как скажешь, Анечка.
И тряхнул рассыпчатыми кудрями.
Ваня Рыбкин. Воронежская порода. Нос пуговкой. Глаза голубизной. Скулы наружу. "Как скажешь, Анечка".
Он работал на большом заводе, под Москвой, главным диспетчером, и за его спиной – в неспокойные времена – схоронилась вся ее семья. Кого пристроил в цехе, кого прописал в пригороде: все Коренблиты оказались при деле. Перетерпели космополитизм. Передрожали "врачей-убийц". Пересидели Хрущева с его сомнительной оттепелью: из-за Вани лучше не высовываться.
Не так скажет, да так сделает.
Сын Вова вырос тихим, задумчивым, для окружения странным – и не скажешь в кого.
В метро, в первом вагоне, через процарапанное матовое стекло глядел неотрывно вперед, как набегали в полутьме рельсы, жгуты по стенам, редкие фонари, и как наплывала очередная станция – светлым мраморным пятнышком в конце туннеля.
Сын Вова вырос, уехал первым, как в темный туннель, и писал оттуда редкие письма.
"Тремп", "узи", "фалафель" – трудно понять.
– Поехали, Ваня, – сказала Анна Семеновна. – Разберемся на месте.
– Как скажешь, Анечка.
На парткоме рты разинули от потрясения:
– Ваня! Да ты что?! Рехнулся? Иди проспись! Вот тебе твое заявление, и чтобы не вспоминал больше.
Он встал со стула, коротконого-устойчивый, но на пороге замешкался:
– Как Анечка скажет...
Ваня у Анечки умер, пока ждали разрешения на выезд.
Ваню сожгли в крематории. Пепел ссыпали в вазу. Вазу поставили в шкафу, на полку со шляпами. И Анечка осталась одна.
Сын Вова писал теперь совсем редко и подписывался почему-то – Зеэв.
"Браха", "тфила", "мезуза" – понять невозможно.
Зеэв Рыбкин.
– Ничего, – говорила Анна Семеновна в сторону шкафа. – Приедем – разберемся.
"Как скажешь, Анечка" помалкивал посреди шляп.
– Ишь, сколько чемоданов накопила! – сказала соседка напоследок. – Крадут себе да вывозят, вывозят себе да крадут, а ты тут бедней из-за всяких!
– Ваня, ты ее не слушай...
На таможне была проверка.
Вазу решили проверить на таможне, не вывозит ли тайком брильянты, которых у нее сроду не было.
Анечка поставила вазу на движущуюся ленту. Ваза уползла внутрь, чтобы просветиться на экране содержимым. Анечка закрыла глаза. Ваза выползла по ту уже сторону. Можно ехать в туннель.
Сын встречал в аэропорту.
Зеэв Рыбкин.
Хасид.
В черной шляпе, в черном костюме, в черных башмаках.
– Вова, – сказала ему, – это траур по папе?
– Это траур по Храму, – ответил Вова. – Который разрушили гои двадцать веков назад.
И они поехали в Иерусалим.
Это оказался и не город вовсе.
Богом надышанное пространство.
Ему и люди не нужны, и дома с машинами, и время текучее: разрушь всё – Иерусалим останется.
Понять этого нельзя – только притронуться: мурашами по спине.
В Иерусалиме Хана зашевелилась тут же, чтобы надышать заново отведенное ей пространство.
Картиночки по стенам.
Книги по полкам.
Цветочек в углу.
То, прежнее, ухоженное пространство осталось позади.
Надышано было за жизнь – не вобьешь больше.
Как писали в хрониках: "Дружина вбивала полки в город"...
Интеллигентная Хана знала про те хроники, историю той страны с ее стариной – профессионально, не как-нибудь, но не знала страну эту.
Пришелец.
Представитель вымирающей народности.
Русско-русско-русско-русская еврейка.
Как северо-северо-северо-северо-восток.
– Чудно, Ваня, – говорила ему на могиле. – Вот бы и ты поглядел.
"Как скажешь, Анечка" молчал под плитой.
Ему бы теперь могилу, травой обросшую.
Ему бы сирень гроздьями над крестом.
Ему бы – 'Твой есмь аз, спаси мя…"
Буквы "ы" нет в здешнем алфавите.
"Б" и "в" – одна буква.
"Иван Ривкин" – выбито на иврите.
И камушки на плите с поминания...
Возле Иерусалима, в магазине всяких разностей, хозяйничал за прилавком Куракин, старик Куракин, из тех самых Куракиных, что хоронились от времени в ее прежних архивах.
– Петербург знаешь? – спросил на иврите Куракин-сын.
– Знаю, – сказала Хана, специалист по источникам.
– У нас там имущество.
– Да что ты!
А сама припомнила не без трудности:
– Курака. Он же Куракин. Князья Куракины пошли с шестнадцатого века от князя Андрея Васильевича Патрикеева...
Когда-то она гордилась тем, что не умеет готовить.
Для интеллигентной женщины это простительно.
– Ваня, попьем молочка, что ли?
– Как скажешь, Анечка.
Но на старости опростилась, отрастила брюшко с подбородком, стала жалеть упущенные по глупости возможности.
– Что я готовила? Чем я его кормила? Как он терпел, царствие ему небесное?
Но кормить уже некого.
Хасид Вова не обедает у мамы.
Мама не соблюдает кошер.
Вова учится в иешиве, подает надежды, и пейсы у Вовы такой длины, какие видела Хана только в архивах, на старых литографиях, когда занималась девятнадцатым веком.
Скоро уже.
Совсем близко.
Раввин Зеэв Рыбкин.
У Зеэва жена беременна, детей – пятеро, кошерная в доме пища.
Внуки – все пятеро – в гостях у бабушки не обедают, разве что печенье из особого магазина да воду из стеклянной посуды, и русского совсем не понимают.
Для кого же тогда Курочка-Ряба, "Сорока-ворона кашу варила", "Ехали медведи на велосипеде"?..
– Бабушка, – говорят внуки на иврите, – почему ты ничего не знаешь, бабушка? Ни браху, ни тфилу, ни кидуш шабат...
Город внизу – чашей.
Город в ладонях Божьих.
Белый. К вечеру розовый. К ночи прозрачный. Без начала – вечный. Без конца – разный. Без забот – добрый. Без причин – грозный.
Хане на утешение.
Ходят по улицам люди со старых литографий.
Стоят синагоги, лепятся монастыри по склонам с тех же литографий.
И названия вокруг такие – Вифлеем, Сион, Гефсимания: Анечка жмурится от волнения, будто сама попала в литографию, у Анечки с этого перебои сердца.
– Я не люблю, когда плачут, – говорит Хана вечером, на лавочке, на автобусной остановке. – Люблю, когда смеются. Я нахожу среди людей разных героев из книг. Вот я нашла тут Пьера Безухова: он теперь в доме для престарелых.
А Фрида в ответ, чтобы поддержать разговор:
– Он говорит: авокадо-то повкуснее. А я: картошка-то попривычнее.
И подкатывает автобус.
Открываются двери.
Выходит мужчина – не Рыбкин-Абарбарчук.
– Здравствуйте, Хана Семеновна.
Седой. Благообразный. Не в меру представительный.
Алик Сорокер. Интересный мужчина. Вдовец, пенсионер и ловелас.
Алик за Ханой ухаживает.
– От сына еду, – говорит Алик. – Из Тель-Авива. Хорошо устроился. Много зарабатывает. Свой зубоврачебный кабинет. А люстра в квартире, как в Большом театре.
– Вы были в Большом? – спрашивает Хана.
Пауза.
– Как в Малом, – говорит Алик.
Фрида тут же зевает – довольно натурально – и уходит домой, чтобы не мешать молодым. А Алик подкатывается под бочок к интересной соседке и рассказывает в который уж раз, как спьяна упал однажды на Крымском мосту, седой и благообразный, а вокруг суетились прохожие и причитали: "Профессору плохо! Профессору плохо!.." Ему лестно.
– Охо-хо… – говорит Хана, специалист по источникам. – Он учтивым разговором нежну грудь мою встрелил.
И идет спать.
По телевизору показывают сентиментальную бодягу на невозможном европейском языке, и Хана смотрит через силу, до самого конца. Языков Хана не знает и домысливает вовсю. Целуются – любовь. Стреляют – вражда. Бегут – погоня. Получается еще глупее.
– Дурацкий фильм, – бормочет Хана. – Одни дурацкие дураки смотрят такие фильмы. И балбесские балбесы. И болванские болваны.
А потом сидит в постели, грустная, поникшая, несчастная, вздыхает неслышно:
– Что-то я давно посуду не била...
Посуду бить – к счастью.
А за стеной у Ханы инженер Макарон ловит по транзистору Би-Би-Си и "Голос Америки". Инженер Макарон привык за жизнь – трудно отвыкать.
А за другой стеной Алик Сорокер слушает станцию "Маяк", прогноз погоды на завтра: тоже привык за жизнь.
А за спиной у Ханы – Россия, за темным туннелем, близкая прошлым и далекая настоящим, и вести оттуда неясные, и слухи невозможные, и вываливаются порой из туннеля нежданные пришельцы с детьми, пуганые, растрепанные, и слово одно у всех – Афганистан...
А потом была война.
Хасид Зеэв Рыбкин ушел на фронт.
С севера привозили раненых, и вечерами, по телевизору, называли имена погибших и их возраст.
Каждый вечер. По столбику имен.
Хана плакала всякий раз возле своего телевизора, особенно когда говорили: восемнадцать лет, девятнадцать, двадцать, двадцать два, и опять девятнадцать…









