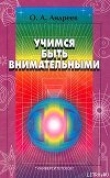Текст книги "Единственная высота"
Автор книги: Феликс Сузин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 13 страниц)
– Брось! – сказал тот после третьей рюмки, морщась и поглаживая живот, где давала себя знать застарелая язва. – Не связывайся. Инвалидность этот мужик имеет? Имеет. Пенсию получает? Ну и пусть живет.
– На сто восемьдесят рублей?
– Это уж забота собеса. А тебе какой резон? Во-первых, формально ты вообще не имеешь права без разрешения министерства. Во-вторых, вероятность удачи не стопроцентна. А если неудача? Затаскают по комиссиям, к прокурору, напишешь десятки объяснительных… Зачем тебе это? Зарплату ведь не прибавят.
Действительно, зачем, во имя чего?
…Бричку бросало в темноте на ухабах, он пребольно ударился локтем, но даже не поморщился, лишь всю дорогу машинально потирал руку.
Дело, конечно, не только в Карпухине. Ведь таких увечных, измученных болями, с изломанной психикой сотни, тысячи. Им всем надо помочь, выражаясь армейским языком, вернуть в строй…
В последний момент Карпухин вдруг струсил, но виду старался не подавать: балагурил, рассказывал анекдоты, ущипнул молоденькую санитарку, лишь пальцы выдавали его волнение. Они беспрерывно двигались: нервно крутили папиросу, зажигали спички одну за другой, почесывали затылок, барабанили по столу.
В коридоре Карпухин пытался запеть, но как только захлопнулась дверь операционной и наступила торжественная стерильная тишина, прерываемая лишь тихими командами операционной сестры, он умолк и, стиснув зубы, уставился в потолок, чтобы найти одну точку, сосредоточиться на ней – пусть делают с ним, что хотят. Так подсказывал ему невеселый опыт.
Укол. Еще укол. Можно, конечно, терпеть, он знает, режут вроде бы по неживому, но попробовали бы те, кто убеждает, что местное обезболивание полностью снимает боль, перенести пару операций на кости…
Еще укол. Еще. Он уже, действительно, ничего не ощущает. Сколько ж можно ждать? Чего этот Дагиров копается? Возьмет он, наконец, скальпель или нет?.. Наверное, все-таки кишка не выдержала, испугался в последний момент…
Он чуть-чуть повернул голову, но сестра, стоявшая у изголовья, заметила это движение и истолковала его по-своему.
– Потерпи немножко. Сейчас кончают.
То ли от радости, то ли от нетерпения он рванулся, насколько пустили привязанные к столу руки, приподнялся на локтях, простыня слетела, а на ноге, многострадальной своей ноге, он увидел блестевший никелем аппарат, который Дагиров не раз показывал у себя в кабинете и который теперь казался ему незнакомым и диковинным, как бы приросшим к ноге.
– Что за глупости! – недовольно сказал Дагиров. – Чего это ты разбушевался?
Палата встретила Карпухина с настороженным любопытством. Больные смотрели на него как на страдальца, подавали пить, угощали домашним вареньем. Все это было очень приятно и щекотало самолюбие, но на третий день роль мученика ему надоела, а сладкого он никогда не любил. Энергичная проказливая натура брала свое. Дагирову жаловались санитарки: за его тумбочкой были найдены пустые бутылки. А недели через две после операции, уверовав в прочность вновь обретенной конечности и презрев строгие наставления врачей о вреде алкоголя и беспорядочной жизни, Карпухин исчез. Как был, в больничных тапочках, пижаме и халате… Осторожные поиски – не хотелось позориться на весь район – не увенчались успехом. А через двое суток, утром, Карпухин был обнаружен дежурной сестрой спящим на своей койке. Лишь угроза Дагирова снять аппарат и выписать на все четыре стороны заставила Карпухина образумиться.
Судя по снимкам, кость срасталась. Конечно, Дагиров рассчитывал подержать аппарат подольше, до полной уверенности, но у Карпухина были свои планы на жизнь.
На исходе двух месяцев он зашел в кабинет главврача.
– Все, Борис Васильевич, сымай эту сеялку. Надоело. Спасибо, конечно, но она мне больше не нужна. Во! Смотри! – Он отбросил костыль и по-медвежьему затопал перед столом. – Смотри, как держит!
У Дагирова закаменели скулы. Впрочем, кость, видимо, действительно держала прочно. Мужик-то килограммов на девяносто, а вон как уверенно наступает.
Кончилась карпухинская эпопея, казалось, можно было передохнуть. Немало понервничал Дагиров за эти месяцы, не мешало съездить в отпуск, отдохнуть. Но как откажешь соседу-учителю? У него тоже не срастается кость еще с сорок второго. Еле ходит, мается. Карпухиным очень интересовался. Теперь заходит каждый вечер, курит, говорит о всяких пустяках, но просить стесняется. Понятно и так: надо помочь. Есть еще бухгалтер в «Заготзерне», тоже инвалид войны…
В общем, отпуск в том году не состоялся.
Дагиров, оказывается, понятия не имел, сколько людей в районе давно махнули рукой на медицинскую помощь и смирились со своим увечьем. В поликлинике, не умолкая, звучал неровный перестук костылей. Из соседних районов приезжали загодя, отыскивали дальних родичей и кумовьев, долго пили чай стакан за стаканом, расспрашивали с крестьянской обстоятельностью, но уж уверившись, ждали неделями.
Дагиров как впрягся, так и не мог остановиться. С утра – поликлиника, потом – операции, потом – опять поликлиника. А люди все шли и ждали возле дома – и ранним утром и поздним вечером.
У Любы руки опускались: крыльцо и половики в коридоре затоптаны, под окнами полно окурков, будто в доме играли свадьбу.
Устав вечерами от долгого ожидания, она заходила в тесную комнатушку, приспособленную мужем под кабинет. На столе лежали тяжелые строгие книги: «Основы механики», «Сопротивление материалов», «Технология обработки металлов». Зачем? Ну зачем ему эта тягость? Так хорошо жили – спокойно, основательно. Сердце ее сжималось в предчувствии беды. Она сидела в выстывающей постепенно комнате, кутала полные плечи в платок. Ждала.
Дагиров приходил поздно. Карие навыкате глаза весело блестели на скуластом лице; худой шее свободно в вырезе воротника. Едва сполоснув руки, он садился за стол, ел много и жадно. Потом проходил в свою комнатушку, и Люба, лежа в кровати с открытыми глазами, долго следила за желтой полоской под дверью. Напрасно она покашливала, стуча шлепанцами, ходила пить воду. Иной раз до утра подушка рядом с ней оставалась несмятой.
Однажды далеко за полночь, силясь разобраться в запутанных формулах, Дагиров почувствовал, что за спиной кто-то дышит. Он обернулся. Люба с горестным лицом стояла у стены, сжимала на груди плотную ткань халата.
– Зачем все это, Боря? Ведь ты себя губишь. И меня тоже.
Дагиров искренне удивился.
– Не понимаю. Как это «губишь»? Я своей жизнью доволен.
– Разве это жизнь? Вот я тебя не видела уже два месяца. Да, да, не видела. И тебе все равно. Ты как постоялец: прибежишь, перехватишь – и к своим книгам. А между прочим, у тебя жена есть, сын растет – что ты о нем знаешь? «Здравствуй, сынок. Кушаешь хорошо? Не балуешься? Ну иди, не мешай папе», – вот и все. А сын уже научился писать и мечтает о конструкторе – «тоже буду делать аппарат, как папа». Ты этого не знаешь. У мамы был день рождения – не пошел; приглашал председатель райисполкома – отговорился. Из-за тебя и я живу, как в заточении: работа – дом – хозяйство – ребенок. И так изо дня в день. Никакой радости.
Дагиров поднялся, подошел, взял жену за плечи, остро глянул в затуманенные обидой родные синие глаза: неужели не понимает?
– Послушай, Любаша. Можно, конечно, на работе с нетерпением поглядывать на минутную стрелку, радоваться тарелке горячих щей и ждать воскресенья, когда можно поваляться с газеткой на диване; дотянуть так до пенсии, а потом заняться выращиванием клубники и ранних помидоров. Никто тебя не осудит. Но представь на минутку, что откуда-то сверху за нами наблюдает некто: мы, конечно, безбожники, но ты все-таки представь. Вот понаблюдает он и скажет: «Что ж это ты, Борис Дагиров, наделал? Я дал тебе ум, смекалку, а ты все эти качества употребил, чтобы поставить в спальне лишний шкаф и ублажать желудок. Мало того, я вложил в твои руки средство облегчить страдания людей, твоих братьев, а ты из лености, из душевной черствости отбросил его прочь». Что я ему отвечу? А теперь представь, что все это мне подсказывает совесть. К сожалению, я пока не могу объяснить и доказать, но я уверен, что моим аппаратом мы делаем лишь первые робкие шаги. Его возможности куда больше.
– Дай бог нашему теленку волка съесть. Но не слишком ли ты заносишься? В городах да институтах небось не дураки сидят, сотни книг в голове держат – и они не додумались.
– Вот именно – сотни книг, – задумчиво произнес Дагиров. – Может быть, я потому и наткнулся на свой аппарат, что голова моя не была забита сотнями, тысячами сведений. Неплохо иметь незамутненный уголок в голове. А теперь многое из задуманного можно будет проверить: возможностей больше.
– Это почему же?
– Я разве тебе не говорил? Ну, извини, забыл, значит. Мне дают отделение в Крутоярске. Так что радуйся: переедем в город, будет тебе кино, театр, в общем, культура.
Люба еще плотнее стиснула халат на груди.
– «Радуйся»… Сам за меня решил. Как же – глава семьи! А я ведь здешняя, деревенская. Родных целая улица, мать, отец… А в городе что? Шум, гам, бензиновая вонь. И люди чужие. Культу-ура… Тебе-то она зачем? Ты и здесь два года не был в кино и там не пойдешь. Не все ли равно, где полуночничать – в селе или в городе.
– Что ж мне, по-твоему, отказаться, бросить все начатое? Ходить по родственникам и водку с ними пить?
Люба выпрямилась, подошла к двери.
– Ты моих родных не хули. Они живут по-своему, а ты решай, как считаешь лучше.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
ВСТРЕЧА НА РАВНЫХ
ИЗ МОСКВЫ самолет вылетел в два часа ночи. В салоне было полутемно. Все пассажиры, усевшись на свои места, сразу же откинули спинки кресел и уснули. Толстяк, сидевший рядом с Дагировым, храпел с открытым ртом. А Дагиров спать не собирался. Сейчас самое рабочее время – обычно он ложился около пяти, – и поэтому мозг работал в полную силу, но вот толку от этого было мало. Ни читать, ни писать нельзя: темно. А жаль. В покое полета, в равномерном гуле моторов вытанцовывалась последняя глава монографии, которая давалась с таким трудом. А до завтра четкие мысли расплывутся, размажутся, останется одна словесная каша.
По проходу прошла бортпроводница, глянула, села в свободное кресло напротив, лицо светилось участием.
– Не спится? Может быть, выпьете димедрол? Очень легкое снотворное. Или воды… Есть чудесный лимонад.
Дагиров улыбнулся в ответ – приятна была неназойливая забота этой красивой девочки.
– Ничего не надо. Спасибо. Просто для меня еще рано.
Девочка удивилась. Девочка заинтересовалась. Посмотрела на него с уважением.
Давно не случалось такого хорошего разговора – ей ничего не нужно было от него: ни консультации, ни статьи, ни протекции для больного. И он не должен был держать себя в рамках, следить за каждым словом, как на официальном приеме. Они проговорили остаток ночи, и из самолета Дагиров вышел с ощущением, будто целый день бродил по осеннему лесу – такую чувствовал он в себе свежесть и бодрость.
Домой ехать не хотелось. Интересно было появиться в институте нежданным, поглядеть вроде бы со стороны, как идут дела. И вообще для полноты впечатлений хотелось проехать до института обычным городским автобусом.
Сразу бросилось в глаза, что дорожка, ведущая от автобусной остановки к главному входу в институт, перечеркнута глубокой канавой, на дне которой поблескивала вода. Значит, все, в том числе и женщины, упражняются здесь в прыжках – туда и обратно, и никому в голову не придет кинуть мостки. А между прочим, в институте есть люди, которые должны были сделать это по долгу службы. Газоны тоже какие-то пыльные, всюду бумажки. Как он раньше не замечал?
Но эти мелочи не могли испортить настроение. Главное – два корпуса высились в полной красе, а дальше, за кучами земли, постепенно вырастала громада из кирпича и стекла, напоминающая своими изгибами морскую звезду.
Войдя в вестибюль, Дагиров услышал, что из актового зала доносятся оживленные голоса. Это его заинтересовало. Прошел в расположенную рядом с залом комнатушку, где стоял усилитель, хранились барабаны, какие-то балалайки невиданных размеров, приоткрыл дверь, ведущую прямо на сцену, и, усевшись на колченогий стул, стал слушать.
В зале заседала проблемная комиссия по теоретическим вопросам. Видимо, не нашлось другого помещения, и теперь над пустыми креслами разносился усиленный микрофоном голос Воронцова. Он был занят проблемой удлинения отдельных мышц без вовлечения в этот процесс кости. Мысль была интересная. Заманчивым представлялось при детском параличе, полиомиелите попытаться заменить функцию некоторых парализованных мышц, подтянув на их место другие, работоспособные. Год назад Воронцов все детально обосновал, даже продемонстрировал устройство, которое он собирался прикреплять к мышцам. Составили тематическую карту, утвердили, выделили двадцать собак, Воронцов провел все намеченные эксперименты и… ничего не получилось, почти ничего… Из двадцати лишь одной собаке удалось вытянуть (или вырастить) мышцу от колена до пятки. Природа не всегда укладывается в теоретические рассуждения, у нее своя логика; все ее тайны предусмотреть невозможно.
И вот теперь Тимонин и Матвей Анатольевич в четыре руки разносили Воронцова. Известное дело, «когда трава выросла, все говорят, что слышали, как она росла». Оказывается, и предпосылки к эксперименту были абсурдными, и поставлен он был из рук вон плохо, и раз уж ничего не получилось сначала, зачем было доводить опыты до конца? Не лучше ли было сэкономить животных и время, заняться другим делом. В общем, Воронцов оказался виноватым по всем статьям.
Дагиров не выдержал и вышел из своего укрытия. Увидев его, все встали, но он предупреждающе поднял руку – не надо, мол, садитесь.
– Вы разрешите мне пару слов? – сказал он, обращаясь к председательствующему Матвею Анатольевичу.
– Ну конечно! – ответил тот, сдерживая улыбку.
– Спасибо, – серьезно сказал Дагиров и прошелся взад-вперед по краю сцены. – Так вот. Я невольно стал свидетелем проходящего здесь разбора. Вы очень детально разобрали, почему у Андрея… э… э… в общем, у товарища Воронцова не получились девятнадцать опытов из двадцати. Теперь понятно, что не могли они завершиться успехом – все, все говорит против: высказывания авторитетов, наш прошлый опыт и прочее, и прочее. Но позвольте, уважаемые коллеги, один-то опыт все-таки увенчался удачей. Получилось! Что из того, что он один? Это же впервые! И поверьте, этот один необычный стоит сотни серых, однозначных, благополучных. Биология – не математика, и девятнадцать не всегда больше единицы. Я не услышал, чтобы здесь кто-нибудь, в том числе и сам товарищ Воронцов, хоть бы заикнулся: а почему, черт побери, все-таки получился один эксперимент? А? Вот так небрежно мы проходим мимо нового, привыкаем к рутине и потом удивляемся, когда наши идеи доводят до ума другие. Есть, знаете ли, специалисты, умеют въехать в рай на чужом коне.
Он подошел к краю сцены, легко сбежал по трем ступенькам вниз и направился к выходу. Уже в дверях его настиг чей-то вопрос:
– Борис Васильевич! Ну а ваше мнение: почему этот единственный опыт удался?
– А я свое мнение оставлю при себе. Есть экспериментатор, есть проблемная комиссия – думайте.
В коридоре Дагирова догнал Тимонин, но поговорить им не удалось: подошел Коньков. Вообще не отличавшийся живостью характера, он был хмур больше обычного, и Дагиров это заметил.
– Что случилось? – участливо спросил он. – Что-нибудь дома?
– Нет. Дома порядок. А вот здесь… Рахимов опять поступил.
– Ну! – Дагиров заинтересовался. – Тот самый Рахимов?
Коньков с досадой махнул рукой.
– Так тогда старались. Впервые врожденно тонкую, похожую на сосульку, кость сделали толстой, и вот… Приехал домой, стал бороться с братишкой, а братишка – лоб, только демобилизовался из воздушно-десантных войск. Учат их там всяким приемчикам, а они, дураки, и рады. Ну и кракнула рука у нашего Рахимова. Два года лечения псу под хвост. Да еще если б сразу к нам, так ведь застеснялся – что, мол, скажут. Рука два месяца пробыла в гипсе, концы обломков уже закруглились… Вот иду оперировать, а еще не решил окончательно, что буду делать.
– Да, – сказал Дагиров, – тут так с ходу не решишь. Надо подумать. – И загорелся новой мыслью. – Послушай, Александр Григорьевич, я пойду тебе помогу. Это очень интересно!
Тимонин было запротестовал: много накопилось дел и, кроме того, есть секретный разговор. Но Дагиров отмахнулся: что может быть важнее больного?
Коньков тоже не обрадовался предложению: шеф совершенно не умеет ассистировать, начнет командовать, подсказывать, будет всем недоволен и к концу операции измучает всех, а еще больше самого себя. Но сказать об этом нельзя.
В этот день Тимонин так и не дождался директора. На следующий приехала иностранная делегация, и Дагиров был занят с нею. Потом привезли сразу несколько пострадавших в тяжелой автомобильной катастрофе. Дела наслаивались друг на друга, острота впечатлений сглаживалась, Тимонин уже и сам не был уверен в серьезности слов Шевчука. А вдруг тот нарочно пустил утку о скором приезде комиссии? Пусть-де там, в Крутоярске, побегают, попереживают. Так хотелось думать еще и потому, что он не знал, как ответить на неизбежный вопрос Дагирова: а с чего это вдруг встречался Тимонин с Шевчуком?
Разговор был отложен до понедельника.
Комиссия приехала в самое неудобное время: в пятницу после обеда. Люди собирались на рыбалку, на дачи, доставали из холодильников купленного еще в четверг утром мотыля, тревожились, не привяла ли выставленная на подоконники рассада – и на тебе! – бросай все, ройся в папках, готовь отчеты. Призрачным дымом повис в воздухе долгожданный субботний отдых.
Секретарша наметанным глазом сразу опознала в четырех вошедших – людей «оттуда». Откуда именно – неважно, но рангом повыше Крутоярска.
– Шевчук, – буркнул шествующий впереди всех толстяк с брезгливо-уверенным лицом. – Из Москвы. По заданию министерства. – И, не останавливаясь, прошел в кабинет Дагирова.
Следом за ним вошли остальные: двое мужчин и женщина.
– Борис Васильевич на операции, – сунулась было следом секретарша.
– Ну что ж, – деловым тоном сказал Шевчук, садясь за стол Дагирова и рассеянно перебирая на нем бумаги. – Пусть заканчивает. Пока что пригласите ученого секретаря, зама по науке, руководителей клинических отделов. Ну там еще…
Секретарша выскользнула. Она знала, кого нужно пригласить…
ВОРОНЦОВ
Воронцов с досадой резко щелкнул тумблером. Зеленый лучик на экране осциллографа раз за разом упрямо вздрагивал при продольно-боковой нагрузке. Значит, наклеенные на кость тензодатчики улавливали микроподвижность на стыке отломков. Придраться не к чему: последняя модель аппарата Дагирова выполнена безупречно. Его, Воронцова, конструкция не обеспечивает полной неподвижности кости во всех случаях. А дагировская гарантирует. Обидно, но факт. Бесстрастный луч осциллографа тянет при испытаниях ровную прямую линию без единого бугорка. Так что, товарищ Воронцов, уважаемый Андрей Николаевич, старший научный, кандидат наук и прочая, и прочая, сравнение не в вашу пользу.
Конечно, не будь дагировского, его аппарат был бы вполне приемлем. Но зачем изобретать велосипед с большим передним колесом, когда есть современная модель?
А Дагиров тоже хорош! Не мог сказать сразу. Нет, надо чтобы человек сам ткнулся носом в ошибку, потратил время. Тоже воспитатель… Хотя… поверил бы ему тогда Воронцов? Вряд ли… Год назад он был иным, более уверенным, не сомневающимся в исключительности своего изобретения. Хорошо, когда не сомневаешься… Наверное, со стороны это выглядело смешно – эдакий живчик с седыми волосами… Но не утратил ли он вместе с самоуверенностью и веру в себя? Не поддался ли гипнозу дагировского обаяния? Его не знающей сомнений напористости? Надо взглянуть на себя со стороны. Как на чужого…
Может быть, установить дуги во взаимно-перпендикулярных плоскостях так, чтобы силы распределялись в разных направлениях? Нет, сегодня он думать не в состоянии. Мысли приходят одни и те же – тупые и дребезжащие, как заигранная пластинка.
И все же… Его аппарат прекрасно создает и удерживает продольную нагрузку. Значит, он может иметь узкоцелевое назначение. Дагировский действительно универсален, отрицать нельзя, но он сложнее в установке и управлении. Следовательно…
Мысли были прерваны телефонным звонком.
Комиссия! Опять придется разъяснять прописные для него истины, убеждать людей, заранее настроенных скептически, и показывать, показывать, показывать… А ведь им что шлейфный осциллограф, что катодный – все едино. Главное, чтобы было включено как можно больше приборов и мигали лампочки – красные и зеленые. И чтобы на интеграторе выскакивали цифры. Это очень впечатляет.
МАТВЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Планшеты с предметными стеклами лежали справа на низком столике. Он еще раз проверил нумерацию препаратов – они должны быть разложены по порядку, чтобы потом не перепутать, – и включил микроскоп «Аксиомат». Вставил кассету с пленкой, навел окуляр на резкость. Наконец сегодня под утро, когда, проснувшись, он лежал неподвижно, чтобы не потревожить жену, все спорные, вроде бы противоречивые факты о начальных фазах роста костной ткани улеглись в стройную схему. Зубец к зубцу. Осталось отснять препараты и описать в строгой последовательности. Нет убедительнее документа, чем фотоиллюстрация.
Матвей Анатольевич, как гурман, потер руки, оттягивая удовольствие. Минимум на неделю отключится он от всяких собраний, совещаний, – уж как-нибудь без него, – и эта неделя, может быть, будет стоить нескольких лет кропотливого сидения у окуляра.
Вставил первый препарат, нашел нужное поле. Вот видны клубки кровеносных сосудов, а рядом еще не сформировавшиеся костные балочки.
Телефонный звонок заставил оторваться. Комиссия? Жаль, но, конечно, пусть приходят. Мы гостям всегда рады.
Он крикнул лаборантке:
– Нина Михайловна, зайдите, пожалуйста! – И продолжал, когда она вошла: – Тут комиссия приехала очередная. Так что приготовьте, пожалуйста, из второго шкафа планшеты с препаратами. Да-да, из коричневого, под дуб. Как обычно… И, пожалуй, не закрывайте дверь в препараторскую. Пусть пахнет формалином. Это создает рабочую атмосферу.
Он опять сел к микроскопу и нежным движением подвинул препарат. Комиссии приезжают и уезжают, а работа остается.
В их семье бытовала легенда о деде, который, уже будучи академиком, шел однажды по центральной улице города, думая не о правилах движения, а о капризах роста нервных волокон. Почему ему вздумалось переходить улицу посередине квартала, он и сам потом не мог ответить. Каким-то образом это было связано с нервными волокнами. Судьба в этот день была к нему милостива, но на другой стороне улицы он попал прямо в объятия милиционера, Тот принялся отчитывать нарушителя, грозя штрафом. «Минуточку, – прервал его дед. – Вы, кажется, должны оштрафовать? Будьте любезны, пишите квитанцию, а я пока буду думать дальше».
Вот так-то, уважаемые члены комиссии, мы пока будем думать дальше.
КОНЬКОВ
Ну вот и все. «Закончен труд, завещанный от бога мне, грешному»… Лежит на окне невидная книжица, переплетенная в синий ледерин – фотографии, формулы, расчеты. Диссертация. Закончил он ее все-таки. Конечно, могут на защите накидать черных шаров, может не утвердить ВАК – все может быть. Но работа стоящая, он в этом уверен. Первая, после Дагирова, докторская из стен института. А это кое-что значит.
Кандидат что? Кандидатов много, в институте их около сотни – и своих, и приезжих. Был такой период: защищались все, кому не лень. Сейчас не диво даже в районной больнице встретить кандидата наук. Для иных ученая степень вроде темной бутылки с красивой этикеткой. А вот попробуй стань доктором!
Коньков подошел к окну и уперся лбом в стекло. Самое трудное позади. А ведь не хотелось, ох как не хотелось. Казалось, зачем? В свои тридцать пять он и так был фактически вторым после Дагирова лицом в институте. Материальных благ хватало вполне. Работа? Она все равно не изменится.
А рядом кипела жизнь ослепительная и прекрасная. Красочная реклама приглашала посетить Кубу и Индию, Суздаль и Кавказ. Миловидные девушки призывно оглядывались на улицах. Друзья-приятели, технари, тоже кандидаты наук, нагревшие себе местечки в НИИ машиностроения, шикарно держа руль одной рукой, разъезжали на «Жигулях» и «Волгах», комфортабельных катерах… Водная гладь, укромные зеленые острова, пары в купальных костюмах возле угасающего костра… Хорошо!
Может быть, так и надо: брать от жизни как можно больше, не думая, не оглядываясь? Но у него не получилось. Во-первых, стало скучно, весь этот развлекательный комплекс за месяц приелся до слез. Во-вторых, сейчас с женой не больно-то разгуляешься. А в-третьих, всегда приходится выбирать: либо вкалывать, и вкалывать на совесть, либо развлекаться и халтурить. Он выбрал первое. То есть не выбирал. Иначе просто не могло быть. Удивительно еще, что при той куче дел, которые на него наваливал Дагиров, он вообще сумел что-то создать. А впрочем, может быть, именно благодаря этому обилию дел? Мышление ведь, как и мышцы, нуждается в постоянной тренировке.
Завтра надо будет махнуть в Новосибирск, договориться насчет апробации. А сегодня – праздник, отдохновение души! Сегодня можно уйти пораньше, купить бутылку шампанского, приготовить самому что-нибудь вкусное – пусть жена удивляется. Устроим маленький праздник!
Вошла секретарша.
– Комиссия приехала. Из министерства.
Ну вот, устроили праздник. Теперь будут по два-три раза расспрашивать больных, пересматривать снимки и… величественно сомневаться. Впрочем, стоит присмотреться к членам комиссии поближе, повнимательнее: отзыв на диссертацию никогда не помешает…
Коньков позвонил, чтобы приготовили больных, потом набрал другой номер:
– Рыбколхоз? Председателя мне! Степан Феофанович? Здравствуй, Коньков говорит… Нет, нет, спасибо, все в порядке… Просьба к тебе, Степан Феофанович: москвичи к нам приехали, гости, так вот… Ну да, на уху… Ну, как всегда… Завтра или послезавтра. Я позвоню предварительно.
ТИМОНИН
Тимонин сидел у шикарного, во всю стену, окна и грел руки над электрическим рефлектором. На дворе начало лета, а ему холодно. Это от двойственности, от неуверенности в себе. После разговора с Шевчуком даже думать не хочется, писать, разговаривать. Зачем? Он человек временный.
Да и отношение к нему в институте не вдохновляет. Его приказы и распоряжения встречают усмешкой, всячески увиливают от выполнения, а если и выполнят, то все равно потом приходится переделывать. Народ здесь с провинциальным гонором. Обижаются, протестуют… Им, видите ли, не нравится, что он делает замечания. А это, между прочим, его обязанность, прямая обязанность зама по науке.
Пусть они владеют дагировским аппаратом, а он нет. Разве художник обязательно должен сам растирать краски? Его задача – создать картину. А собравшаяся вокруг Дагирова молодежь не хочет понять, что главное – работать головой. Посмеиваются по углам, ехидничают… Ничего, готовится конференция, посмотрим, как они справятся без него…
А пока что жизнь все же доставляет маленькие радости. Вот вчера удалось купить латино-русский словарь тысяча девятьсот восемнадцатого года издания. Он достал потрепанный томик и любовно погладил его. Только далеко от столицы можно прямо с прилавка купить такую редкость. Приятно было держать книгу в руках, неровно обрезанную, в бумажном переплете, пахнущую пылью неведомых книгохранилищ. С возрастом все больше доставляло удовольствие озадачить собеседника оригинальным толкованием какого-нибудь распространенного слова, толкованием, почерпнутым из старинных словарей, напечатанных квадратным шрифтом с загадочной буквой «Ъ». Слова в них казались осязаемыми, хотелось подержать их в руке.
В дверь постучали, и он, невольно поморщившись, спрятал словарь. Вошел младший научный сотрудник. Вид его не вызывал положительных эмоций: помятый, в пятнах халат без одной пуговицы, давно не стриженный затылок, легкомысленная бородка, съехавший набок галстук…
Тимонин дернул головой, машинально провел ладонью по седеющему бобрику, проверил щегольскую бабочку.
– Ну, что там у вас? Опять?
– Да, – робко выдавил мэнээс. – Выправил. – И добавил со значением: – В третий раз.
Он протянул Тимонину скатанную трубкой рукопись, на внешнем листе остались отпечатки вспотевших рук.
– Если понадобится, и шесть раз переделаете, – возразил Тимонин, кончиками пальцев разворачивая рукопись. – Из института статья идет, а не из какой-нибудь Хацепетовки. Это там ваш приятель, главврач, подмахнет любую тарабарщину. А здесь за науку отвечаю я, профессор, доктор наук, и если вы сами не следите за слогом, за чистотой языка, то это обязан сделать я.
Он надел очки, вооружился карандашом и, не скрывая наслаждения, стал править. Карандаш, как плуг, вгрызался в текст, выпахивая целые фразы. Уцелевшие обрывки гляделись одинокими островками на поле битвы.
– Так! – сказал Тимонин удовлетворенно, отбрасывая карандаш. – Никуда не годится! Вот, смотрите сами и не обижайтесь… Заглавие не строго по центру. Фамилия автора прижата к тексту. Поля три сантиметра вместо четырех. Количество знаков в строке больше положенного. На каждой странице не менее трех орфографических ошибок.
– Это ж опечатки, – пытался сопротивляться мэнээс. – Машинистка ошиблась.
– Молчать! – распалился Тимонин. – Молчите и слушайте, когда вам делает замечание старший товарищ! Между прочим, для вашей же пользы. Бы думаете, мне доставляет удовольствие править подобный бред? Ничего подобного! Трачу на вас время, а вы еще возражаете! Сижу вот и думаю, – он потряс рукописью прямо перед лицом ошеломленного мэнээса, – что дальше делать с этим, извините, творением.
– Но в нем как будто правильно все изложено…
– Не изложено, а изгажено!.. Стиль какой! Стиль!.. Посмотрите на свой опус… Разве это фразы? Капустные кочерыжки! А еще кандидатом хотите стать!
– Но позвольте! – возмутился наконец мэнээс.
– Не позволю! Вы хоть салли удосужились лишний раз прочитать, что накарябали? Наверное, нет. Машинистка вместо вас работала… «Наблюдали – отметили», «отметили – наблюдали»… Наблудили! Что, в русском языке нет других слов?.. И дальше: «В тридцати пяти случаях…» Что это за случаи такие, я вас спрашиваю? Что за случаи? Для вас, значит, существуют не живые люди, не больные, а случаи, так?!
– Все так пишут… – пытался возражать мэнээс. Лицо его посерело от наплыва сдерживаемых чувств, и лишь сознание, что последний срок подачи на конференцию столь мучительно рождаемой статьи уже на исходе, удерживало в кабинете зама. – И потом… Вы уже дважды правили статью, Георгий Алексеевич, и… ничего такого не говорили… Ни разу.