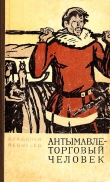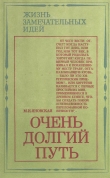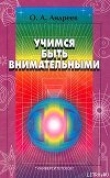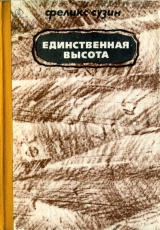
Текст книги "Единственная высота"
Автор книги: Феликс Сузин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 13 страниц)
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
ПЕРВАЯ ВСЕСОЮЗНАЯ
НЕ ЩЕДРОЕ на тепло сибирское лето в тот год было необычно знойным. Южный ветер наметал у стен домов пылевые курганчики. В горле першило, постоянно хотелось пить. После захода солнца раскаленный асфальт еще долго дышал жаром и даже к утру оставался теплым. Плывшие с севера редкие мелкие облака словно растворялись в высоте и не собирались поить растрескавшуюся землю.
Сотрудники бродили по лабораториям вялые, работать было невозможно. Стоило наклониться к микроскопу, как пот заливал глаза. Операционные дни начинали с шести утра, всюду жужжали вентиляторы. Рядом, в пятнадцати минутах ходьбы, было озеро, и сознание, что там, за тоненькой кромкой леса, дрожат на горячем песке накупавшиеся до синевы мальчишки, усиливало неприятное ощущение от прилипшей к спине рубашки. Многие не выдерживали соблазна и исчезали «в библиотеку».
Дагиров тоже чувствовал себя неважно: покалывало в висках, трудновато дышалось, временами горячая красная пелена накатывалась на глаза, но остановиться, прислушаться к ходу внутренних часов было некогда. Он никогда не баловал тело: не ложился в постель при насморке, не ездил на курорты, не глотал таблетки, когда болела голова. Физическое недомогание всегда можно было отодвинуть на задний план, заставить себя забыть о нем, и оно подчинялось – сначала позуживало по ночам, а потом исчезало.
Но вот уже больше недели он чувствовал себя просто паршиво, и, несмотря на усилие воли, это состояние не проходило. Неужели возраст? Давление было нормальным, пульс бился без напряжения, а все равно по утрам трудно было поднять веки и в висках далеко-далеко, как по серебряной наковальне, стучали звонкие молоточки. Мысли ползли вялые, оборванные, вновь и вновь цепляясь за один и тот же колышек. Может быть, от жары?
Зашторили окна, два вентилятора гоняли из угла в угол теплый, как кисель, воздух, но обычное ощущение бодрой ясности не приходило. Он стал раньше ложиться – в двенадцать, в час, но привычка брала свое, до трех ворочался без сна, покрытый липким потом, затем засыпал, но не каменно, без сновидений, как раньше, а чутко, поверхностно, с кошмарами, от которых колотилось сердце и хотелось поскорей проснуться.
А тут, как назло, навалились дела.
Заканчивалось строительство института, и именно в это время на комбинате железобетонных изделий лопнул паропровод. Не хватало раствора, кирпича, оконных рам. Конечно же, без вмешательства директора института, знаменитости, депутата кирпич и рамы появиться не могли. Эти мелочи, отнимавшие уйму драгоценного времени, стали раздражать. Зачем тогда заместитель по строительству, по административно-хозяйственной части?
Из министерства – наконец-то и все же не ко времени – пришло долгожданное разрешение на проведение в Крутоярске первой Всесоюзной конференции по аппаратному лечению. Это разрешение, которого он добивался давно, все откладывали, и вдруг оказалось, что конференцию надо проводить в октябре. Осталось два месяца. Ничтожно мало, если учесть, что главное – показать себя радушным хозяином. Вспомнилось, как на конференции в Томске, где все как будто было прекрасно подготовлено: большой прохладный зал, интересные доклады, билеты в театр, машины, доставлявшие по желанию в любой конец города, участников кормили почему-то одной паровой стерлядью. Вкусно и нестандартно, но четыре дня утром, днем и вечером паровая стерлядь? – увольте! И вот такая накладка смазала впечатление от толковой конференции.
Конечно, удовлетворить вкусы почти пяти сотен людей с разных концов страны – дело не простое. И все же оргкомитет – двадцать пять человек – мог бы справиться без него. Не справился. Почему? Не смогли? Не хватило инициативы?
Вот они сидят полукругом на стульях, на диване, в креслах, встают, лихорадочно листают бумажки, краснеют, путаются… и ни один вопрос не решен окончательно. Размещение гостей, их питание, компоновка стендов, показ кинофильмов… Даже покупка магнитофонов выглядит неразрешимой проблемой. А ведь здесь не мальчики, не дураки – руководители отделов, кандидаты и доктора наук. В чем дело?
Впрочем, он прекрасно знал ответ. Кипятись, не кипятись, ругай их, распушив бороду, а виноват сам. Вот результат политики ломовой лошади, которая пытается одна тянуть воз… Очень легко приучить людей к безответственности, к пассивной созерцательности, гораздо сложнее заставить их решать задачи самостоятельно. А он, выходит, все время действовал как младший лейтенант, взводный, который выскакивает на бруствер и с криком: «За мной! В атаку!» – бросается в гущу боя. Ах, как радует и опьяняет победа, добытая своими руками! Увы, для него это время прошло. Он как полководец должен находиться вдалеке от гула разрывов, лишь передвижением флажков на карте верша свою стратегию. А командиры-то, выходит, не приучены действовать без приказа…
Дагиров отхлебнул боржоми, поднялся.
– Вот что, товарищи, эпоха детского сада кончилась, попрошу больше по всяким мелочам, вроде распределения номеров в гостинице или графика подачи автобусов, ко мне не обращаться. Решайте сами, объективные причины и трудности во внимание приниматься не будут. Времени осталось мало, а сделано еще меньше. Стыдно! Так вот, чтобы не расхолаживаться и не терять трудовой ритм, субботы и воскресенья вплоть до конференции будем считать рабочими днями. Потом отгуляете. Заседания оргкомитета каждую субботу у меня ровно в двенадцать. Кстати, должен напомнить чересчур ретивым организаторам: конференция конференцией, а выполнение плана НИР не отменяется.
В фойе театра было тихо и пусто. Солнечные лучи никли, не в силах пробить тяжелые плотные шторы. Буфетчица за стойкой, озабоченно хмурясь, двигала костяшки счетов и время от времени звучно зевала.
Коньков прикрыл за собой массивную дверь, ведущую в зал, и остановился в раздумье: возвращаться или не возвращаться? Ему было скучно. Конференция катилась по накатанным рельсам, как транссибирский экспресс. Докладчик сменял докладчика. Все было хорошо, просто великолепно. Те, кто, десять лет назад дружно кричали «против», теперь так же дружно кричат «за». Неважно, что не присутствовали Шевчук или Лиепиньш. Это тоже было своего рода отступлением. Их сотрудники, ученики не могли теперь нахвалиться аппаратами.
А Коньков вдруг потерял интерес – все, о чем восторженно говорили с трибуны, в институте давно стало повседневностью.
Была бы критика, анализ ошибок – стоило бы послушать. Но кто осмелится выставить свои неудачи на всенародное рассмотрение? Даже Дагирова на это не хватило.
После душного зала фойе обволакивало прохладой. На буфетной стойке заманчиво зеленели пивные бутылки.
Коньков взял одну, положил на тарелку пару бутербродов с семгой и, предвкушая удовольствие, направился к столику.
Пиво было свежим и слегка горчило, и было удивительно приятно, прикрыв глаза, сидеть в голубоватой полутьме и потягивать свежее пиво, посасывая ломтик соленой, пахнущей сыростью рыбы. Приканчивая в одиночестве вторую бутылку, Коньков услышал, как за его спиной решительно простучали женские каблучки. Походка была удивительно знакомой, но оборачиваться не хотелось, он сам с собой затеял игру, пытаясь угадать: кто же это? Нет, не угадывалось.
Коньков повернул голову и увидел… Леночку Смирнову. То есть, конечно, уже не Леночку, а Елену и, наверное, не Смирнову, но это была она. «Ах, рыцарь, то была Наина!» Коньков поперхнулся от неожиданности и закашлялся.
– Лена! – крикнул он и кинулся навстречу. – Леночка! – остановился. – М-м-м… Елена Сергеевна!
Она вскинула гладко зачесанную голову, и ему навстречу вспыхнула памятная лукавая улыбка – в тех же милых до невозможности ямочках на щеках.
– Саня! Коньков! Ну здравствуй, Санечка!
– Ух ты какая! – промолвил Коньков, медленно обойдя вокруг нее.
– Какая? – кокетливо скосила глаза Елена Сергеевна. – Совсем старая?
Он бурно запротестовал:
– Что ты! Что ты! Наоборот, прямо королева, по-хо-ро-шела… Вот уж кого не ожидал увидеть. Как же ты, матушка, уехала – и ни слова, ни звука. Вроде мы тебе совсем чужие. А уж я, честно говоря, был совсем ошарашен. И теперь вот… Могли ведь и не встретиться, не понимаю…
– Где уж тебе понять, Санечка, – сказала она со скорбным смешком, и гладкий лоб прорезали вертикальные морщины. – Где уж тебе понять, милый. Тебе в особенности. Помнишь новогоднюю ночь в заброшенной даче и треск поленьев в печи, первозданный пушистый снег на поле и вечную тишину – такую, что, казалось, слышно было, как шуршат звезды…
Коньков был далек от романтики. Его жизнь определялась реальностью, трезвой, как автомобильный мотор. Но этот вечер он помнил, он хранил его в своей памяти как некую ценность, непонятно почему вызывающую ощущение радости. И сейчас он, не скрывая смущения, глянул на Елену Сергеевну.
– Конечно, помню.
– И помнишь, что ты мне тогда сказал?
Он замялся на мгновение, но пересилил себя.
– Да.
– Что же потом ты не повторил этих слов? Не хватило храбрости? Или соврал тогда, поддавшись минуте?
Коньков молчал, покусывая от неловкости нижнюю губу.
– Ну, успокойся, Санечка, успокойся, – продолжала Елена Сергеевна, привычным движением прикуривая сигарету. – Не из-за тебя я уехала. То была лишь капля и далеко не последняя. Трудно мне было, одиноко… Так сказать, переходный возраст от беспечной юности к горькой зрелости.
Она неожиданно взяла его за голову обеими руками и приблизила к своему лицу, пахнущему кремом и дорогими духами. Совсем близко видел он тонкие морщинки у глаз, ставших глубокими и темными, нервный вырез ноздрей, жирный слой помады на верхней губе.
– А ведь вы меня предали, Санечка. Позволили уехать, исчезнуть, кануть в небытие. Как же так, а? В друзьях ведь ходили, Санечка. А кое-кто даже и побольше… «Не писала, не звонила, приехала – не прибежала». Может, подарочки надо было привезти? Сувенирчики? Борису Васильевичу ручку пожать? Слезу пустить от растроганности? Ах, Саня, Саня… – Она оттолкнула его и села на хрупкий стульчик. – Ненавижу его, всех вас и тебя тоже. Фанаты чертовы. Отравили мне жизнь, словно яд впрыснули в кровь. Есть муж, ребенок, но для современной женщины семья – дело второстепенное. От ежедневной варки, стирки, уборки в пору повеситься. Что касается меня, лучше я буду вкалывать на две ставки, чем мыть вечно грязную посуду или обсуждать с соседкой достоинства пирогов с капустой. Так что единственное удовлетворение приносит работа. Вы, мужики, это прекрасно знаете. И вы с Дагировым меня этой радости лишили. Да, да. Когда привыкнешь мыслить по-дагировски, с постоянной прикидкой: «Так сделать. Или эдак? А как будет лучше для больного?», когда умеешь работать аппаратом и знаешь, чего им можно достичь, а об этом аппарате никто понятия не имеет, трудно работать по стандарту. Каждый день одни и те же каноны гипсовых повязок, одни и те же лекарства… Конечно, недовольство собой – двигатель прогресса, но для прогресса тоже нужны условия. Одного недовольства мало. – Она прищелкнула пальцами. – Мне трудно объяснить… но Дагиров же знал, что заронил в мою душу сомнение в незыблемости истин. Оно, вероятно, необходимо в вашей научной работе, но рядовому врачу сомневаться ни к чему, пожалуй, даже опасно. А чтобы замужняя женщина, работающая на полторы ставки, без матери или свекрови в доме, могла еще победоносно заниматься наукой – извините, не верю! Вот и получилась из меня белая ворона. Заведующий отделением косится – все она суется с этим аппаратом Дагирова. Дома я тоже не сахар… Вот так и живем, Санечка… так и живем. А вы ждете писем и поздравлений…
– Да-а, – сказал Коньков. – Здорово ты излагаешь. Просто великолепно. – Он взял с тарелки и поставил перед ней чистый стакан. – Пива хочешь? Свежее.
Белым кивером вздулась пена в стакане, но стоило подуть, и появился темный мысок жидкости. Пиво было в меру прохладное, нёбо приятно пощипывали пузырьки газа.
– Не сильно горчит? – деловито осведомился Коньков, разливая третью бутылку.
– Нет, в самый раз. Что и говорить, крутоярское пиво всегда славилось.
– То-то же. Пойду возьму еще.
Он поднялся, сделал шаг и вдруг обернулся, озорно блеснув глазами.
– Слушай, Лен, плюнь на свою мерихлюндию и возвращайся к нам.
Ее лицо прояснилось, широко распахнулись глаза.
– А возьмете?
– Ну! Борис будет в восторге. Он и сейчас частенько вспоминает: «Это было еще при Смирновой…» В классиках ходишь.
Между тем Матвей Анатольевич недоуменно посматривал на пустующее соседнее кресло, где только что сидел Коньков. Вот так встать и уйти посреди заседания? Непонятно. Словно невежливый хозяин, который, усадив гостей за именинный стол, покидает их и отправляется во двор играть в домино с пенсионерами. Неинтересно? В это Матвей Анатольевич не верил. В каждом докладе есть хоть крупица оригинального, о которой порою и сам докладчик не знает. Важно зацепить ее в мутном потоке слов. Тем более, что доклад обязательно отличается от опубликованного текста – интонация, жест, непосредственный контакт действуют убедительнее. Не говоря уж о слайдах.
Самым весомым сегодня показался доклад из Риги. А почему? Ни по теме, ни по результатам лечения ничего выдающегося, а слушали разинув рот. И понял – паблисити (в лучшем значении этого слова). Каждая фраза на своем месте, каждое слово отточено и впечатляет. Ничего лишнего. И слайды. Изумительные цветные слайды. И под конец сухая, но сногсшибательная справка: лицензии на рижский аппарат закуплены семью странами.
И был еще один доклад из Северска, скучный, до предела насыщенный цифрами. Докладчик, белобрысенький, нервный, в помятом костюме, то и дело поправлял очки, жевал словесную вату. Никто толком его не слушал. Клетки полигональные, клетки ортогональные, включения слева, включения справа. Добросовестно, методично, не обращая внимания на шум в зале, выстроил гору из клеток, а куда она ведет?.. Может быть, сам не знает.
Матвей Анатольевич снял очки, вынул из футляра кусочек замши, тщательно протер стекла. Скорее всего, этот молодой человек – типичный фактограф. Есть такая (весьма нужная) категория ученых. Изучая какое-либо явление, они добросовестно регистрируют все новые и не новые признаки. Пухнут от протоколов картонные папки, гнутся под их тяжестью полки в шкафах. Идут годы, огромная груда накопленных фактов давит на исследователя со всех сторон. А сделать вывод, то есть перейти на новую ступень познания, он иногда не в состоянии. Не дано.
Но и в этом докладе Матвей Анатольевич засек одну фразу, которая, кстати, была подтверждена слайдом. Может быть, больше никто и не заметил, как неловкий, не знавший куда деть руки паренек, который к тому же все время отрывался от микрофона и потому не был слышен, показал недифференцированную праклетку, то есть клетку, не имеющую специфических признаков какой-либо ткани: костной, мышечной, нервной.
Матвей Анатольевич давно предполагал, что в основе процесса роста и восстановления тканей лежит какой-то один общий, самый древний клеточный элемент. И лишь потом, в соответствующих условиях, эта клетка приобретает специфическое строение. Возможно, она живет короткие минуты в своей первичной форме, но она должна быть.
Однако одно дело – предполагать, даже доказать путем логических рассуждений, другое – показать.
Матвей Анатольевич не один год пытался поймать желанную незнакомку. Были сделаны сотни тончайших срезов, просмотрены тысячи препаратов, но предсказанная праклетка не попадалась, и он почти разуверился в ее реальности. Оказывается, надо было смотреть в поляризованном свете.
Обычно бледное, невыразительное лицо Матвея Анатольевича покраснело: уж кто-кто, но он-то мог догадаться. Конечно, с этим пареньком надо будет потолковать в перерыве, кое-что расспросить – так, между прочим.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
БУДУЩЕЕ
ИНСТИТУТ лихорадило. Почтенные руководители отделов и лабораторий, забыв о солидности, с резвостью мэнээсов стремительно проносились по лестницам. Развевались полы халатов, разноцветными флагами поблескивали пластиковые папки. Близилась сдача основного корпуса, шла борьба за будущую территорию – делили медвежью шкуру.
Дагиров молча выслушивал пламенные тирады, способные увлажнить слезой глаза африканского наемника, и складывал заявки-прошения в одну стопку.
Тимонин сидел рядом, перебирал их и посмеивался.
– Чтобы удовлетворить все эти требования, – сказал он, похлопывая по столу, – пришлось бы весь Крутоярск превратить в научный центр.
– Вы не так уж далеки от истины, – отозвался Дагиров. – Вполне возможное будущее. – Он вынул из стола и перелистал большой блокнот. – Вот смотрите, что пишет бывший министр просвещения и науки Англии профессор Бертран Бойден: «Население мира может увеличиваться вдвое каждые 30—40 лет, однако, если закон, которому подчиняется рост числа ученых, будет действовать в течение еще двух столетий, то все мужчины, женщины и дети, все собаки, лошади и коровы будут учеными». А? Ловко подсчитано?
Дагиров прошелся взад-вперед по ковру. Со стены хмуро смотрел Николай Иванович Пирогов. О стекло размеренно ширкала ветка, и, подходя к столу, Дагиров каждый раз наступал на переливчатую пеструю тень, отбрасываемую молодым тополем. Значит, из высаженного некогда хилого прутика выросло дерево и дотянулось до третьего этажа. А он и не заметил. Черт знает, как летит время!
– Вы знаете, Георгий Алексеевич, что больше всего ужасает меня в этих заявках? Именно не смешит, а ужасает? Заявочки-то липовые. Да, да. Вы вот со смешком переложили их с одной стороны на другую, а я прочел. Такая уж проклятая привычка всякую бумажку переваривать досконально. Так вот, если вызвать сейчас любого из этих товарищей и сказать: «Вы требуете восемнадцать комнат и ни на одну меньше? Нате, берите» – он ведь волком взвоет от испуга. Потому что привык: будешь просить девять – дадут четыре. Поэтому требуй восемнадцать. И он это понимает, и мы понимаем. Но если можно солгать в одном, почему нельзя в другом? Может быть, и наши научные отчеты – месиво из фактов и вымысла?
Тимонин с возмущением вздернул плечи.
– Ну что вы, Борис Васильевич! Не надо перегибать!
– Не знаю, не знаю. По крайней мере в своем институте я подобного духа не допущу. Вышибу!
– Зачем же горячиться, Борис Васильевич, – примиряюще произнес Тимонин. – Самое лучшее – разобраться на месте. Давайте завтра пройдем по отделам и увидим, что к чему.
Двор института пересекали канавы. Уже который год монтажники в разных местах вскрывали теплотрассу, меняли трубы, шипела сварка, черная копоть гудрона пачкала стены, но зимой все равно было холодно, и по весне опять горы выкинутой глины засыпали тщательно разглаженные дорожки. Сантехники били себя в грудь, крыли на чем свет проектировщиков, но теплее от этого не становилось.
Через канавы были переброшены шаткие доски. От корпуса к корпусу поперек земляных увалов тянулись узкие тропки, по ним и ходили, оступаясь в в грязь, балансируя на досках. Один вид этих канав приводил Дагирова в бешенство. Пробежав по качающимся доскам, он подозвал начальника ОКСа, и посреди двора, при всех начался разнос.
Невольная задержка дала возможность разгореться спору, который возник на ходу между Коньковым и Матвеем Анатольевичем. Началось с легкой пикировки.
– Слышал, что вы, теоретики, рассчитываете занять весь клинический корпус, когда мы переберемся через дорогу. Так, что ли?
– Было бы неплохо, – осторожно ответил Матвей Анатольевич.
– А надо ли? – Коньков был полон сарказма.
– Да не помешает. Тесно живем.
– Ну и чем же, позвольте вас спросить, вы будете заниматься в таких хоромах?
– Тем же, чем до сих пор.
– А-а… понятно. – Коньков нашел втиснутый в грязь кирпич и прочно на нем утвердился. – А вы знаете, Матвей Анатольевич, почему ваш отдел называют секретным?
– Не знаю и не интересуюсь.
Матвей Анатольевич был сух и чопорен и зябко поворачивался спиной к свежему ветерку.
– А потому, Матвей Анатольевич, что никто не может объяснить, чем ваш отдел занимается.
Никто не засмеялся. Матвей Анатольевич выпрямился, щеки его втянулись.
– Надеюсь, Александр Григорьевич, вы высказываете не официальное мнение?
Коньков понял, что зашел слишком далеко.
– Нет, что вы? Это шутка, институтский фольклор. Конечно, отвлеченные изыскания необходимы, вопрос: когда и где… Стоит ли ими увлекаться…
– Ну, разумеется. По-вашему, лучше закрыть все лаборатории, сдать в металлолом электронный микроскоп, собак – на мыло, кроликов – на жаркое, расставить всюду койки и оперировать, оперировать с утра до ночи. Чтобы весь Крутоярск сверкал аппаратами. А что и как делать завтра и тем более послезавтра – неважно.
– Э-э, Матвей Анатольевич, так нельзя. Вы слишком вольно трактуете мои слова.
Они разгорячились, и их перепалка привлекла внимание Дагирова.
– Товарищи! Вы что? – вмешался он. – Нашли место для спора – посреди двора. Как средневековые схоласты, на потеху публике. Может, мне стать на кирпичик и помочь вам в выяснении отношений? А? Тем более, что у меня тоже есть кой-какие соображения. Нет, не хотите? Тогда посвятим программе будущего ближайшее заседание ученого совета, а подготовить его попросим Александра Григорьевича и Матвея Анатольевича. Теперь же хватит дискуссий. Начнем с биофизиков.
К Воронцову зашли напоследок, так, посмотреть, все ли в порядке. Его лабораторию не собирались трогать с насиженного места. Слишком сложно было бы вновь подводить силовой кабель, доставать медные листы для заземления, обтягивать комнаты сеткой-экраном. Да Воронцов и не просил новой жилплощади. По его мнению, лучше быть в тесноте, но подальше от недремлющего ока начальства.
Взглядов он придерживался самых демократических и отнюдь не требовал от подчиненных, чтобы они появлялись на своем рабочем месте ровно в восемь, а покидали его не раньше пяти. Но порученное задание – вынь да положь. Когда что-нибудь не ладилось, а сроки поджимали, Воронцов не стеснялся задерживать своих «ребят» до последнего автобуса, а то и прихватить субботу с воскресеньем. «Ребятам» помоложе сей вольный режим весьма нравился, те же, кто постарше, чувствовали себя непривычно. Институтские контролеры на воронцовской лаборатории демонстрировали свое рвение и писали докладные, которые Дагиров пока что складывал в папочку, вроде никак на них не реагируя, хотя воронцовских «ребяток» встречали днем то в универмаге, то на водной станции.
Интересно было посмотреть, что же получится у этого оригинала, нелегально внедрившего ненормированный рабочий день. Может быть, для научных работников так лучше. Теперь, когда открыли биоритмы, когда людей делят по деловой активности на «жаворонков» и «сов», когда он сам чувствует прилив сил лишь к ночи, а утром никак не может разогнаться, трудно сказать, может быть, Воронцов и прав. Дагиров мог позволить себе такой административный эксперимент и приказал начальнику отдела кадров, который волновался больше всех, не трогать Воронцова и вообще делать вид, что ничего не происходит. Но как настоящий ученый он не мог ограничиться простым созерцанием и ради интереса подкидывал Воронцову одно задание за другим.
Теперь настала пора проверить.
– Да, – сказал Дагиров, окидывая взглядом стеллажи с аппаратурой, рулоны лент, испытательные стенды. – Богато живете, Андрей Николаевич. Потихоньку, потихоньку, а сколько вы у меня денег потратили – уйма! Это что за штука? – Он показал на толстую колонку с отходящим в сторону набором сочлененных между собой штанг, последняя из которых заканчивалась чем-то вроде бинокля.
– Это операционный микроскоп, Борис Васильевич.
– А зачем он вам нужен?
– Для микрохирургии.
– Отлично. А сколько он стоит?
Воронцов был сама безмятежность.
– Не знаю, Борис Васильевич. Тысячи две-три.
– Долларов?
– Долларов или марок. Микроскоп немецкий.
Дагиров всплеснул руками.
– Да вы, оказывается, не от мира сего. «Тысячи две-три…» Доллары или марки – вам все равно. Вы хоть представляете, что значит раздобыть эти три тысячи долларов?! Я и так уже ограбил почти весь валютный фонд крутоярских заводов. Ну смотрите, если узнаю, что этот микроскоп не используется на полную катушку…
Усилием воли он заставил себя сделать паузу, помолчав, посопел, вынул сигарету, посмотрел на нее недоуменно, сунул обратно в пачку и стал расспрашивать о делах текущих. Микроскоп был забыт, больше о нем не вспоминалось, но Воронцов знал, что через год и через два, время от времени Дагиров будет обязательно вспоминать об импортном микроскопе, интересоваться, и теперь хочешь не хочешь придется эту купленную, в общем-то, больше из любопытства бандуру пристроить к делу. Хорошо хоть Дагиров не поинтересовался некоторыми другими приобретениями, особенно относящимися к начальному периоду оснащения лаборатории.
Думая об этом, Воронцов между тем показывал Дагирову рабочую схему устройства для полуавтоматического управления аппаратом. Все висело, как говорится, «на соплях»: панельки не были закреплены, клубками вились разноцветные провода и включалась схема через раз. До окончательной конструкции было далеко, но Дагиров довольно улыбался: он давно задумал добиться того, чтобы движущиеся детали аппарата могли перемещаться непрерывно или прерывисто, – по заданной программе. Само напрашивалось согласование удлинения конечности с суточным ритмом роста клеток и многое другое, что он не мог еще четко сформулировать, но что позволяло проникнуться твердым убеждением в необходимости подобного устройства.
Остальные задания тоже выполнялись или были уже закончены.
Дагиров благосклонно посмотрел на Воронцова, но хвалить не стал, поднялся, застегнул халат и вдруг вспомнил:
– Да, Андрей Николаевич, а как дела с замещением сухожилия? Уже четыре месяца прошло, а вы не докладываете.
Заметив недоумение Тимонина, Конькова и других, он пояснил:
– Вы знаете, что после травмы или нагноения может образоваться дефект сухожилия. Вот мы и решили попробовать отщепить часть от соседнего, здорового, сухожилия и переместить ее на новое место.
Воронцов засуетился.
– Сейчас, Борис Васильевич, сейчас… Куда же я ее засунул? Вроде бы стояла на полке… Ах, вот, вот…
Он вынул из стеклянного лабораторного шкафа коническую колбу с широким горлом и поставил на стол.
– Вот, смотрите! – с гордостью произнес Воронцов, показывая на бурую, похожую на старую бечевку, нить, лежащую на дне сосуда. Искусственное сухожилие. Синтетика, смешанная с коллагеном. Сами додумались! Уже прооперировали двух собак, пока держит.
Дагиров расправил плечи, выпрямился, подбородок его вздернулся кверху.
– Что-о-о?! Сами! Кто позволил?! Развели тут художественную самодеятельность, артисты! Не институт, а сельский клуб: один поет, другой пляшет, третий шпарит на балалайке! Да, да, на балалайке, черт побери!
Он гневно глянул на Тимонина.
– И это называется научное планирование? Не план, а Филькина грамота! Пустой звук! Каждый делает, что хочет.
Критику в свой адрес, да еще на людях, Тимонин допустить не мог.
– Научная часть ни при чем, Борис Васильевич, – сказал он, поджав губы. – Андрей Николаевич не соизволил поставить нас в известность о своем… изобретении. Он вообще весьма неохотно информирует меня о работе лаборатории и всегда утверждает, что выполняет ваши задания, о которых должен отчитываться только вам. Это во-первых. А во-вторых, не так просто его застать, он ведь, как вольная птица, появляется и тут же исчезает. А вы, кстати, ему потакаете.
– Вот именно кстати, – сухо оборвал его Дагиров, глядя сверху вниз, и повернулся к Воронцову. – Знаете ли вы, Андрей Николаевич, что это так называемое сухожилие не приживется? А если приживется, то превратится в рубец. Вы, видимо, не знакомы с работами Пирсона и Федорова, в которых детальнейшим образом описаны осложнения после подсадки искусственных сухожилий. Молчите. Да-а… Но не это главное. Главное то, что вы извратили мою мысль. Важна не только конечная цель, но и средства для ее достижения. Раз я просил вас сделать именно так, расписал конкретно, значит были у меня какие-то соображения, которые я не смог вам изложить по недостатку времени. Вы еще не чувствуете время, вы лет на десять моложе. А я уже понимаю, что могу не успеть. – Он вздохнул, и лицо стало мягким, морщины разгладились, и голос подобрел: – Столько задумано… Только теперь, в пору зрелости, я научился отсекать лишнее. Интересно ваше искусственное сухожилие? Интересно, признаю. Но я не могу позволить вам уходить в сторону от нашего пути, не имею права. Как ни прикидывай, как ни бери максимальный срок, – ну, до восьмидесяти, – а замыслов столько, что все равно не успеть. И уж, поверьте, я знаю, что делаю, когда придерживаю вас за руки. Вынужден… Может быть, через год-два я сам попрошу вас заняться этим искусственным сухожилием.
Воронцов виновато пожал плечами. То есть ему казалось, что он пожал плечами. На самом деле он исчез, испарился, остались брюки, халат, примятая белая шапочка, ну, может быть, еще глаза, устремленные на носки давно не чищенных туфель. Но его, Андрея Николаевича Воронцова как личности, уверенной в себе и в определенном умственном превосходстве над другими, не существовало. Дело было не в обиде на Дагирова, нет – шеф прав. Но чтобы он, именно, он мог допустить такой «ляп»! Это било по самолюбию, а самолюбив был Андрей Николаевич чрезвычайно.
В кабинет директора вернулись к вечеру, когда воздух уже загустел и в сиреневой выси прорезался узкий серп луны. Руководители отделов, завлабы молчали в смущении. Вот так работаешь день за днем, и кажется, что делаешь нечто безусловно важное и нужное. А когда, как сегодня, окинешь взором всю картину, становится ясным главное направление. Бьешься, заводишь знакомства, пьешь с кем-то коньяк, чтобы выбить вне плана электронный микроскоп или сблокированный с ЭВМ симменсовский томограф, без которых, кажется, станет вся наука, ходишь гордый от счастья, полгода прикидываешь, как будешь выдавать информацию на субклеточном уровне… И вдруг оказывается, что ничем не примечательный старший научный сотрудник, которого и по имени-отчеству не все знают, осмыслив и объединив дагировские методики, вывел на их основе новую биологическую закономерность роста как процесса. Вместе с Дагировым подана заявка на открытие, а такое не у каждого академика в жизни случается. И потребовалось ему двадцать кроликов, микроскоп и собственная голова. Конечно, радостно за товарища, но с житейской точки зрения возникает обратная связь; какова же должна быть отдача за вложенные миллионы? Дагиров не такой человек, чтобы обойти эту проблему. А ответить нечего, потому что в современную аппаратуру надо еще вложить современную идею. И либо она есть, либо – творческое бесплодие, которое далеко не всегда можно прикрыть броней общественной деятельности.